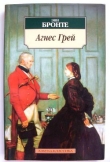Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
И все это время рука ее все еще заслоняла глаза, и лицо казалось безмятежным, словно во сне. Это медленное охватывающее движение ноги как будто не имело никакого отношения к тому, что происходит за этими закрытыми глазами на безмятежном лице. А нога все продолжала двигаться, медленно и безлично, как сам собой разворачивается в сонной полутьме джунглей продолговатый белый лепесток распускающегося цветка. Я почувствовал, что ее пятка легко коснулась моей спины у левой почки.
Кожа на пятке была, вероятно, чуть шероховатой, и, когда она, прижимаясь к моей спине, чуть шевельнулась, я ощутил кожей это ее несовершенство – и тут вся реальность происходящего нахлынула на меня и накрыла с головой.
Вот что случилось накануне, и вот что сейчас, когда я сидел, уронив голову и прижавшись лбом к листкам бумаги на краю стола, снова происходило за моими закрытыми веками. Потом все закончилось, оставив после себя только легкое ощущение печали.
Я пребывал в мире воспоминаний до тех пор, пока не услышал, как щелкнул, запираясь, замок задней двери дома. Я встал, быстро перевернул три листка бумаги, лежавшие на столе, лицом вниз, положил на них книгу и почувствовал, как что-то чуть шевельнулось у меня между ног в предвкушении того, чему предстояло случиться. Настоящее вступило в свои права.
То, что сейчас просыпалось там, в темноте у меня между ног, жило, казалось, своей собственной жизнью, не имевшей никакого отношения к тому, из-за чего Джедайя Тьюксбери так долго сидел за столом в комнате, отгороженной плотной занавеской от яркого январского солнца, уронив голову и прижимаясь лбом к исписанным листкам бумаги, лежавшим на столе.
То, чему предстояло случиться в этот день – схватка, борьба, судорога, – уже однажды случилось раньше, но теперь это произошло безмолвно, торопливо, словно вне времени, и с естественностью закона природы, такого же бездумного, как закон тяготения.
Потом действующие лица некоторое время молча лежали, отодвинувшись друг от друга. Даже в ту минуту, когда их тела только что разделились, – а не только теперь, через много лет, – мне показалось – и сейчас кажется, – будто от меня остался всего лишь бесплотный кусочек сознания, который парил в воздухе полутемной комнаты, глядя на два тела, лежащие, как пловцы, только что с трудом преодолевшие полосу жестокого прибоя и теперь распростертые на берегу, охваченные каждое своим собственным изнеможением.
И теперь, когда мне вспоминается эта картина из прошлого – и эти переживания из прошлого, – я спрашиваю себя: не для того ли написаны все на свете книги – и эта тоже, – чтобы не дать себе видеть, какая кошмарная жуть наше прошлое?
Не знаю, сколько времени мы лежали так, но в конце концов я встал с кровати, чувствуя по всему телу зуд от высохшего пота, подошел босиком к столу, взял три исписанных листка бумаги и вернулся к кровати. Розелла – потому что теперь она снова стала Розеллой, а не Розой и с тех пор больше никогда не была для меня Розой – повернулась на бок, не сводя широко раскрытых глаз с листков, которые я держал в руке.
Я протянул ей листки. Высунув из-под простыни правую руку, белую и прекрасную в полутьме, она взяла их, пристально глядя мне в лицо.
Я зажег ночник у изголовья кровати и поднял свалившиеся с нее две подушки, заметив при этом на одной из них – видимо, на той, которая была подсунута под первозданный символ пола, – большое мокрое пятно. Я перевернул подушку пятном вниз и сказал:
– Лучше сядь, так будет удобнее читать.
Она приподнялась, прислонившись к спинке кровати.
– Подвинься вперед, я подложу подушки, – сказал я.
Она повиновалась, и простыня, прикрывавшая ее груди, сползла вниз.
– Они прекрасны, – сказал я, – только ты простудишься, ты же вся мокрая.
– Мне с тобой и мокрой хорошо, – ответила она, и на лице ее на секунду появилась улыбка, которую она явно старалась сделать как можно более правдоподобной. Но рука ее, сжимавшая листки бумаги, чуть дрогнула.
– Все равно лучше накройся, – сказал я.
Она снова повиновалась, и я забрался под простыню. Я лежал, не касаясь ее, подпирая голову рукой, чтобы лучше видеть ее лицо во время чтения письма. Сначала я ничего не замечал, но, когда она дошла до третьей страницы, увидел, что рука ее трясется.
Она дочитала письмо.
Все еще держа его в руке, она глядела поверх него в полутьму комнаты. Мне был виден только ее профиль, но по щеке, обращенной ко мне, медленно сползала с нижнего века большая слеза. Я видел, как она, очень медленно, ползет вниз, до самого подбородка. Потом по той же, уже мокрой дорожке поползла другая.
– Я хочу умереть, – произнесла Розелла тонким голосом, как будто издалека, не глядя на меня.
– О чем ты плакала? – спросил я. – Не сейчас, а тогда, в новогоднюю ночь. Там, у нее в комнате.
– А, вот ты о чем! – воскликнула она. – Дело не в этом. Дело в Марии. Что теперь с ней будет?
– Вот именно об этом, – сказал я, – я сейчас задумываться не хочу.
– Это совсем не то, что я замышляла… Не то, на что я надеялась, – заявила она. Внезапно повернувшись ко мне, она повторила: – Клянусь, это совсем не то!
И прежде чем я успел понять, чему мне следует поверить или не поверить из того, что она замышляла и на что надеялась, она вскричала:
– Все – ну, все, что я только ни делаю, кончается плохо! Всю мою жизнь! Я не виновата!
Она повернулась ко мне и взглянула мне прямо в лицо, словно в отчаянном нетерпении ожидая ответа.
– Разве я виновата, что так получается?
Ее рука потянулась к моей, но не дотянулась и упала на простыню.
– Разве я виновата, что я такая, какая я есть? – вскричала она, не сводя с меня умоляющего взгляда.
– Что за ерунда, о чем ты? – спросил я.
– А ты? – спросила она, сев прямо. – Ты виноват, что ты такой, какой ты есть? Я знаю одно: кроме тебя, больше у меня ничего нет. Неужели ты не видишь, что я здесь совсем одна? Мария уехала – ей я могла верить, она хорошая, по крайней мере, она была рядом, а теперь не осталось никого, с кем бы…
– А мне казалось, что тебе чертовски нравится Нашвилл, – заметил я.
– Мне вообще не надо было сюда приезжать, – сказала она, как будто обращаясь не ко мне, с какой-то внутренней горечью, и откинулась на спинку кровати. – Никогда. Мне не надо было делать ничего того, что я делала в своей жизни, потому что кончилось это тем, что я оказалась здесь, и… – Она секунду помолчала и закончила: – И одна.
Дыхание ее было медленным и тяжелым.
– Может быть, некоторое время я себя обманывала, – сказала она, по-прежнему как будто обращаясь не ко мне. – Но теперь нет. Я теперь знаю правду, и я совсем одна. – Она соскользнула с подушек и лежала, глядя в потолок. – Совсем одна, – повторила она тем же тонким голосом, как будто издалека. – Если не считать…
Она немного помолчала.
– Если не считать тебя.
Я ничего не сказал.
– А ты, – добавила она еще тише, шепотом, – тоже один.
Мы лежали не шевелясь. Через некоторое время раздался ее голос, едва слышный, словно подслушанная мысль:
– Потому что ты… ты тоже всегда был один.
В коридоре пробили часы.
– Эти часы правильные? – встрепенулась она.
Я сказал, что правильные.
– Четыре часа, – сказала она. Потом совершенно спокойным, бодрым, деловым дневным голосом продолжала: – И не позже, чем через двадцать минут, меня уже не должно быть в этой кровати и в этом доме. Мне надо одеться и ехать в город на обед, и…
Она замолкла, схватила мою руку и прижала к себе.
– Вот, пощупай, – сказала она, все еще тем же деловым тоном. Но потом, по-прежнему прижимая к себе мою руку, продолжала совсем другим голосом, похожим на ритмичный шепот: – Пощупай, ты почувствуешь, что я не могу без тебя, ты мне нужен, прямо сейчас, прямо сейчас, пока я не ушла, чтобы я могла забыть, пускай только на время, чтобы я чувствовала только тебя одного там, внутри.
– Ладно, – сказал я сдавленным, словно от ярости, голосом.
Мария уехала из Нашвилла. Она уехала 1 января, как раз в тот день, когда Розелла впервые пришла в мой домик на опушке леса. Она ни с кем не попрощалась, кроме своего отца.
Даже с Розеллой, хотя, как та мне впоследствии рассказала, именно она заставила Марию уехать. Когда Розелла проснулась в то новогоднее утро, лежа поперек кровати Марии, все еще в вечернем платье, босая и заплаканная, она увидела, что Мария, уже в дорожной одежде, сидит у окна и смотрит на поля, засыпанные свежим снегом.
Мария подошла, поцеловала ее и спросила, как она себя чувствует. Как потом рассказывала мне Розелла, интуиция подсказала ей, что происходит что-то важное. Мария собиралась остаться у Кадвортов на день-два, но сейчас она была уже в дорожной одежде, ее чемодан стоял хотя еще и не запертый, но явно уже упакованный, и на нем лежала косметичка.
– Но ты же остаешься! – воскликнула Розелла.
– Я останусь, если… Если я тебе действительно нужна, – сказала Мария.
В конечном счете Розелле удалось выпытать у нее, что произошло нечто такое, – что именно, она так и не узнала, – из-за чего Мария поняла, что должна уехать, что может уехать. Поэтому Розелла стала убеждать ее, что она ей совсем не нужна, что ее расстроенное состояние и слезы, когда она прибежала к Марии в комнату после танцев, – это пустяки, просто у нее с Лоуфордом случилась небольшая размолвка, которая показалась ей серьезной только потому, что она очень устала за этот вечер, и к тому же у нее были как раз проклятые дни, иначе они с Лоуфордом уладили бы все за десять минут обычным способом и уснули бы обнявшись. В заключение Розелла, как она рассказывала, категорически заявила Марии, что если та не уедет прямо сейчас же, сию минуту, то не уедет никогда.
– Вот что я ей сказала, – рассказывала Розелла, – и это подействовало. Даже быстрее подействовало, чем я ожидала, – она укатила на своей машине еще до завтрака. Чтобы разыскать отца, сообщить ему все и, конечно, взять сколько-нибудь денег, потому что банки в Новый год закрыты. Но она даже не позволила отцу проводить ее в аэропорт и даже со мной не попрощалась – только послала из аэропорта записку: мол, люблю, прощай, писать мне не надо.
И когда Розелла это говорила, я представил себе, как Мария стоит в нашвиллском аэропорту – в строгом темном пальто и темной шляпке, со скромной, но дорогой сумкой у ног, с таким же непроницаемым лицом, похожим на маску, с каким она подъезжала к барьеру. Как она стоит там одна.
Все это Розелла рассказала мне однажды под вечер несколько недель спустя, как будто повинуясь какому-то непреодолимому побуждению, полусидя в изголовье кровати и подтянув простыню так, что она едва прикрывала соски. Выбившаяся прядь волос прилипла к ее влажной от пота щеке, а в воздухе полутемной комнаты висел чуть сладковатый запах наших страстных объятий.
Когда она умолкла, я ничего не сказал. Она бросила на меня грустный взгляд.
– Ты думаешь, что я вру, – сказала она наконец.
– Я ничего не думаю.
– Я не виню тебя, если ты так думаешь, – сказала она. – Все это выглядит так, будто я уговорила ее убраться из города, а потом помчалась прямо сюда, на ходу скидывая одежду.
– Я ничего не думаю, – повторил я.
– Но это было не так, – сказала она. – Мария про тебя ничего не говорила. Она просто сказала, что хочет попробовать уехать на некоторое время – посмотреть, сможет ли она это сделать. Она мне говорила, наверное, раз сто – что надо только заставить себя это сделать. Говорила задолго до того, как вообще увидела тебя. Но ты… Ты даже не знаешь, о чем идет речь…
– Ты забыла, что я читал ее письмо, – сказал я.
– Лучше бы я его не читала! – воскликнула она. Потом, немного погодя: – Я думала, так вам обоим будет хорошо. Я думала, вы станете хорошей парой. Просто прекрасной. Думала, вы подходите друг к другу. А когда она заговорила об отъезде, я решила, что просто ничего не получилось, что между вами произошло нечто скверное. В тот самый вечер. И что поэтому она должна бежать, поскольку не может больше здесь оставаться. – И еще потом: – Ты должен этому поверить.
Я ничего не ответил, и она вдруг прижалась ко мне, глядя мне в лицо.
– Я сама должна этому поверить, – сказала она. – Ох, должна…
Мне нечего было ответить.
– Понимаешь, я думала… – начала она снова и остановилась. – Ох, я не знаю, что я думала! Я ничего не думала. Просто все так случилось, и я вдруг, сама не знаю как, оказалась, прямо в шубе, на этой кровати.
Она откинулась на подушки.
Полежав недолго, она что-то сказала – так тихо, что я не расслышал.
– Что?
– Если бы она не уехала… – повторила она почти шепотом, словно говоря сама с собой. – Если бы она не уехала, я бы никогда не пришла сюда. И сейчас не была бы здесь.
Она лежала рядом, и мне было слышно ее дыхание. Я старался не думать о том, что она сказала.
Потом она сказала еще что-то, еще тише.
– Что ты сказала? – переспросил я.
– Трахни меня, – прошептала она. – Ради Бога, скорее. Вот что я сказала.
Когда я в тот день сказал Розелле, что ничего не думаю, это не означало, будто я не думаю, что она говорит правду. Когда я сказал, что ничего не думаю, я говорил совершенно искренне. Я ничего не думал по одной простой причине: я думал – пусть это звучит парадоксом, – что думай не думай, ничего не изменится. И если я чувствовал себя скверно, то не из-за желания, чтобы все было иначе. Больше того, я не мог себе представить, как все могло бы быть иначе. Прошлое и будущее, все ценности и личные счеты, все обиды и угрызения совести остались где-то в другом мире, далеко от того полутемного убежища вне времени, в котором я укрылся. И за несколько недель до этого, после письма от Марии и второго посещения Розеллы, когда посреди ночи я, встав с кровати, босиком расхаживал по холодному дому, образ Марии вовсе не стоял у меня перед глазами.
Собственно говоря, ничего не стояло у меня перед глазами, и ни одной мысли не было у меня в голове. Понемногу я припомнил, что видел во сне перед тем, как проснулся: это был какой-то путаный сон, в котором не фигурировали ни Розелла, ни Мария. Там была ночь и могила посреди прерии, на нее падал снег, а вокруг стояло множество людей. Я знал, что все это люди, с которыми я был знаком в детстве или позже, хотя даже под страхом смерти не мог бы припомнить ни одного имени, и там были даже люди, которых я мельком встречал на улице или на автовокзале ночью в незнакомом городе, может быть, даже в Италии во время войны, и все они стояли и молча плакали, и снег падал на их обнаженные головы. А я не мог плакать. Они с состраданием спрашивали меня, почему я не плачу. Меня в этом сне мучило то, что я не могу плакать, и я попытался объяснить им, что хочу плакать, но не могу. Губы у меня шевелились, но как-то онемело, словно после укола новокаина у зубного врача, и я не мог издать ни звука, как ни старался. И от этих бесплодных стараний заговорить я проснулся.
А когда я стоял босиком в темноте у окна, глядя, как здесь, в Теннесси, идет настоящий снег, и припоминая тот сон, я вдруг почувствовал, что у меня на глаза навернулись слезы. Картины из моего сна слились с воспоминанием о лице Марии, сидевшей за столом Кадвортов, о том, как сияло оно при свете свечей от щедрой радости, когда она обнимала Салли. Но в то самое мгновение, когда у меня дрогнуло сердце, я с жестокой ясностью осознал неизбежность всего, что происходит со мной, и понял: нет, я не хотел бы, чтобы все было иначе.
Я не мог желать, чтобы Агнес Андресен осталась жива. Я не мог желать, чтобы Мария Мак-Иннис не уехала. Я не мог желать, чтобы Розелла Хардкасл не пришла ко мне в постель. Я мог бы только пожелать, чтобы были иными – чтобы не существовали – смутные надежды и грустно-иронические мысли, которые составляли содержание моего неизбежного настоящего. Я понял – и сердце у меня вдруг сжалось, – что хотел бы отторгнуть все это, отрицать это, отречься от этого.
Когда Розелла пришла ко мне в следующий раз, она, лежа рядом со мной в послелюбовном молчании, вдруг сказала:
– А Мария – что она будет делать?
Я сел и посмотрел на нее.
– Ты хочешь, чтобы она вернулась?
– Все это так ужасно, – сказала она.
– Да, ужасно, но вот сейчас, в эту минуту, ты хочешь, чтобы она снова была здесь, в Нашвилле?
Она закрыла лицо руками. Я нагнулся к ней, взял ее за запястья и отвел руки от лица.
– Ты помнишь, что ты сказала?
– Что?
– Что мы такие, какие мы есть. Помнишь?
– Да.
– Так вот запомни: вот в эту минуту, в этой комнате, в этой кровати, голые, мы такие, какие мы есть.
Я произнес эти слова, насколько помню, с чувством холодной логики и какой-то иронической отстраненности, словно происходящее не имело ко мне никакого отношения, хотя на самом деле имело ко мне отношение самое непосредственное. Розелла отодвинулась от меня и долго лежала, прижав к лицу подушку, из-под которой слышались какие-то приглушенные звуки. Я подумал, что она плачет.
Но она не плакала. Она отвела подушку от лица, и оказалось, что она смеется каким-то сдавленным смехом, и сквозь этот смех она сказала, что в дураках осталась сама, потому что она такая, какая она есть.
– Не вижу ничего смешного, – сказал я.
– Ох, мне так стыдно! – воскликнула она. – Но это тоже часть всей этой истории.
– Что?
– Я давно хотела тебе рассказать – я хочу, чтобы ты знал все, правда, хочу, – но мне было так стыдно!
– А что?
– Ну хорошо, – сказала она, села на кровати, глядя теперь не на меня, а куда-то в пространство, и начала совершенно деловым тоном: – Когда я раскрыла газету и узнала, что ты приехал в Нашвилл, я испугалась. Я целую минуту была просто в панике. От того, что ты можешь про меня рассказать. Конечно, ничего особенно ужасного, но просто про Дагтон и про все прочее… может быть, про моего отца… может быть, про Честера Бертона…
– Поэтому ты взяла меня в союзники, – сказал я.
– Ну да, и вот ты со мной в постели, и я люблю тебя до того, что сердце разрывается, и в дураках осталась я сама.
И она снова засмеялась тем же сдавленным смехом.
Я дал ей отсмеяться, а потом сказал:
– Сначала ты сделала своей союзницей Марию. Ты поняла, как это может быть ценно. Правильно?
– Да, клянусь Богом. Я была так одинока, чувствовала себя такой потерянной. А потом… Потом я полюбила ее – ее нельзя не полюбить.
Она снова засмеялась.
– И тут я тоже оказалась в дураках!
И тогда ее сдавленный смех перешел в рыдания.
Любовные приключения подчиняются своим естественным законам, так же как деревья, люди и революции, и проходят несколько четко определенных этапов. Девиз первого этапа всякого любовного приключения, будь оно открытым или тайным, – «carpe diem», или, смотря по обстоятельствам, «carpe noctem». Лови минуту, день или ночь, потому что миг – это все; ни прошлого, ни будущего не существует. На этом этапе любовники часто рассказывают друг другу истории своей жизни, но это, в сущности, не подтверждение, а отрицание прошлого: прошлое, со всеми его ошибками, заблуждениями, минутами отчаяния и кратковременного торжества, и есть то, что всеискупляющая любовь призвана вычеркнуть из памяти. Любовники могут также строить планы на будущее, но эти планы служат прежде всего для оправдания очередного мгновения слепой страсти – во многом подобно тому, как в теологии сотворение бессмертной души, прославляющей Господа, считается снимающим скверну животного совокупления. И даже клятвы в вечной верности представляют собой всего лишь констатацию того факта, что акт страсти – совершаемый с данным конкретным возлюбленным, – это и есть все. Такие клятвы лишь свертывают будущее в комок, чтобы засунуть его в горячую, мокрую, темную дверцу, ведущую туда, где времени не существует.
Девиз второго этапа – «in contemptu mundi» [20]20
В пренебрежении миром (лат.).
[Закрыть]. Если на первом этапе отрицается время, то на втором, тесно связанном с первым и являющимся его завершением, отрицается пространство. Любовники теперь уже не принадлежат к этому миру. Каждый из них служит убежищем для другого, все, что находится вне их, отступает, и в стремлении к оргазму они предают внешний мир полному забвению. Сделанные в Помпее гипсовые отливки мужчин, умерших в тот момент, когда они были заняты какими-то своими неотложными делами, наводят на мысль о том, что, наверное, не один гражданин этого обреченного города, скользя по длинному темному склону, ведущему к райскому блаженству, и секунды не помедлил, когда вокруг стал падать горячий пепел.
У Джедайи Тьюксбери и Розеллы Хардкасл по крайней мере первый этап прошел абсолютно типично. Их девизом было «carpe diem» в самом буквальном смысле. Никаких «noctem» у них не было, а что касается второго этапа, то именно любовные свидания в дневное время в наибольшей степени подчеркивают пренебрежение внешним миром. Ведь ночь – естественная противоположность дню с его земными заботами, и, засыпая после акта страсти, любовники знают, что, когда зазвонит будильник, они, проснувшись, снова окажутся в царстве дня, в царстве времени. Даже тайная любовь, если заниматься ею по ночам, становится в какой-то степени узаконенной, и приходится напоминать себе, что это не просто очередное, пусть и чуть более приятное, исполнение супружеских обязанностей.
Поэтому на втором этапе дневные часы, которые Джедайя и Розелла тайно проводили вместе, были проявлением такого же пренебрежения внешним миром, как и прошлым и будущим. Правда, когда Розелла в первый раз пришла ко мне, она, приподнявшись на старом армейском одеяле, воскликнула: «Ох, это было ужасно! Это было…» Но я, инстинктивно отвергая и время, и внешний мир, не дал ей договорить. И потом отгонял все мысли о том, что мне предстояло узнать только позже, – о том, что именно было так ужасно. Таким образом, в то мгновение, когда я обнаружил Розеллу на своей кровати в полутемной комнате, мы каким-то таинственным образом оказались вне потока времени.
Впоследствии, после многих свиданий, до меня начало доходить, что нечто, показавшееся Розелле столь ужасным, не могло быть связано с Марией, о которой зашла речь только на следующий день, когда после нашей любовной схватки я показал Розелле письмо. Поэтому я стал расспрашивать ее о том, что тогда было так ужасно и что заставило ее прибежать, без туфель и в слезах, в комнату к Марии. Но теперь уже она отказывалась допустить, чтобы какие бы то ни было отголоски внешнего мира проникли в нашу комнату, отгороженную занавеской от дневного света. Она или делала вид, что не слышит, или давала какие-то явно лживые или неполные ответы, говоря, например, что Лоуфорд был недоволен своей очередной работой и выместил свое недовольство на ней. Или восклицала в ответ: «Да какая разница, ведь сейчас мы вместе, да?» Или просто, обнимая меня, находила убежище в соприкосновении наших тел. А однажды вместо ответа даже заплакала.
Существовал какой-то предел, который я инстинктивно чувствовал и в своих расспросах никогда не переходил. Мои расспросы были, можно сказать, неким ритуалом – как хорошо я теперь, задним числом, понимаю, что это был всего лишь ритуал! – и я задавал вопросы лишь для того, чтобы каким-то странным образом оправдаться перед самим собой, укрепить свои моральные позиции, поскольку благодаря этому всегда мог заявить (самому себе, если бы такая необходимость возникла), что у меня алиби и что я действительно старался узнать истину. Но, как мне теперь совершенно ясно, истина – это самое последнее, что я тогда хотел узнать.
В чем бы ни заключалась эта истина, она наверняка была чем-то таким, что, скорее всего, разрушило бы хрупкую скорлупу замкнутого вневременного мирка – комнаты с занавешенным окном, где я мог погружаться в темную, бездумную бездну страсти, освобождаясь от самого себя – от того, кто когда-то стоял под китайским ясенем в округе Клаксфорд, штат Алабама, кто просиживал ночи напролет над книгами и, сам не зная почему, предавался мечтам, сам не зная толком о чем, кто похоронил жену в прерии, теперь засыпанной снегом, кто бежал, чувствуя себя виноватым, и кому при виде улыбающегося лица Марии, освещенного свечами, на мгновение пригрезилось, что он может стать частью царства мечты, в котором, казалось, жили все окружавшие его в Нашвилле, штат Теннесси.
Ибо, конечно, те дневные часы в полутьме были не только бегством от всякого искушения стать частью этого общего царства мечты, населенного Кадвортами и всеми прочими; те дневные часы в полутьме сопровождались чувством яростного презрения к самому себе и сардонического облегчения при мысли о том, что теперь уже не нужно обманывать самого себя, мечтая стать частью Нашвилла, да и, черт возьми, любого другого места, мечтая стать настоящим южанином, да и, черт возьми, кем угодно другим; что теперь уже не надо будет стоять, слушая музыку и глядя на танцующих, в то время как какой-нибудь гладкий сукин сын во фраке за двести долларов и дурацких запонках будет снисходительно и поощрительно ухмыляться мне, потирая большим пальцем кончики указательного и среднего и шепча: «Тити-мити»; что теперь университетские коллеги не станут втихомолку, завистливо или презрительно, перешептываться про этого выскочку Джеда Тьюксбери, который хорошо знал, что делал; что теперь не придется, проснувшись среди ночи и ощутив рядом с собой чье-то тело – например, тело Марии Мак-Иннис, – размышлять о том, это ли тело я на самом деле больше всего хотел трахать или нет.
Теперь я мог быть всего лишь тем, кем был в данный момент.
Но внешний мир все равно существует, как им ни пренебрегай, даже если им пренебрегают любовники. Он как аромат, приносимый ночным ветерком, – его вдыхаешь вместе с воздухом, он просачивается в комнату, как дым сквозь щель под дверью или замочную скважину, он поднимается, как вода по лестнице из затопленного подвала. И тогда мы получаем третий этап, когда внешний мир возвращается на свое место, и любовники еще отчетливее, чем раньше, различают его очертания. Отрицание, по самой своей сути, требует определения. Более того, конфликт с внешним миром на новом уровне и с новой интенсивностью ведет к конфликту между любовниками, то есть к четвертому этапу. Каждый из них, можно сказать, становится частью того внешнего мира, которому противостоит другой, и первый конфликт между Розеллой и мной с той же неизбежностью, как и всегда, был связан с отношением к миру, лежавшему вне нашей замкнутой орбиты.
Примерно через неделю после начала нашей связи она сказала мне, что они – Каррингтоны – устраивают небольшой ужин в честь одного поэта, который должен был прочитать лекцию в университете: всего лишь несколько гостей, которые мне особенно нравятся, сказала Розелла, и мне надо бы тоже быть. Я сказал, что не пойду, что для меня с вечеринками в доме Лоуфорда Каррингтона покончено, что я хоть и безусловно не джентльмен-южанин, как это обычно понимают, да и вообще никакой не джентльмен, и не претендую на особо утонченные представления о чести, но мне, мужлану из захолустья, будет не по себе, если я стану лакать его спиртное и жрать у него за столом в то время, как путаюсь с его женой. На что она возразила, что множество джентльменов-южан из ее знакомых, список которых она может представить по первому требованию, регулярно садятся за стол хозяина, чью жену они немного раньше в тот же день затрахали до бесчувствия, и что не важно, джентльмен я или нет, но если я не пойду, то с женой Лоуфорда Каррингтона мне больше никогда путаться не придется.
Наверное, в эту минуту кровь ударила мне в голову, и это было заметно, потому что она, посмотрев на меня, сказала, что совсем не то имела в виду, что она без меня не может, но что если я вдруг перестану показываться у Каррингтонов, то сплетни начнут распространяться быстрее, чем эпидемия гриппа, и – ох, что тогда нам делать? Особенно, как она сказала, после того, как беспрецедентный отъезд Марии уже сделал меня центром всяких разговоров и предположений.
– Послушай, – сказала в заключение Розелла, – я знаю Нашвилл и знаю, как это здесь бывает, поверь мне.
И вот я сидел за столом мужа, которому наставил рога, подавив в себе неприятное ощущение, которое у людей более деликатного воспитания называется угрызениями совести, и заливая его алкоголем, начиная с виски и кончая щедро предлагаемыми «медоком» и благородным коньяком. В общем мне было совсем неплохо – я болтал с дамами, размышлял, как здесь оказался свами (пока мне не сказали, что он и сам поэт, который, хотя и пишет только на хинди, может с полным знанием дела обсуждать произведения почетного гостя), и наблюдал за тем, как почетный гость допивается до кондиции, соответствующей ошеломленному состоянию мула, которому только что напомнили о правилах приличного поведения хорошим ударом оглоблей по голове.
На самой поверхности моего сознания я почти не вспоминал, что жизнь существенно изменилась с тех пор, как я в последний раз был в этом доме; но когда в суматохе, вызванной попытками поставить пьяного поэта на ноги и увезти его, Розелла и я на минуту оказались в раздевалке, выходившей в вестибюль, она схватила меня за член, дружески стиснула его и, глядя мне прямо в лицо – вероятно, побелевшее от ужаса, – мило хихикнула. И это был не последний раз, когда ей удавалось перепугать меня до полусмерти.
Остальные гости уже разъехались. Декан факультета англоязычной литературы и его жена уселись на заднем сиденье машины Лоуфорда по обе стороны поэта, чтобы подпирать его в дороге, Лоуфорд сел за руль, Розелла рядом с ним, я тоже влез, и мы тронулись. Автомобиль набирал скорость, а мы на переднем сиденье молчали, прислушиваясь к отчаянным попыткам задних пассажиров поддерживать разговор с героем дня. Тот, однако, по-видимому, целиком предался общению со своим внутренним «я» и ни на что не реагировал, если не считать громкой икоты. Через некоторое время они прекратили свои попытки вести умную беседу, и на протяжении нескольких миль в машине царило молчание.
Но как только мы оказались на освещенных улицах города, поэта прорвало, и он пустился в многословные прорицания, сильно напоминавшие по стилю древнееврейских пророков, Уильяма Блейка, Уолта Уитмена и наиболее вздорные пассажи Виктора Гюго. В сущности, продолжением этого припадка напыщенного пустословия стало потом все его длившееся целый час выступление в университете, когда он красовался на трибуне весь в поту, в галстуке, аккуратно сдвинутом набок, то и дело откидывая волосы, падавшие на глаза, и читал свои произведения с таким страстным увлечением, которого они вряд ли заслуживали, но которое стяжало бурные аплодисменты.
Впрочем, я забегаю вперед. Пока что мы быстро ехали по городским улицам, и я, в уютной тишине переднего сиденья, слегка одурманенный алкоголем, погрузился в свои мысли, лишь иногда, на поворотах, ощущая, как центробежная сила прижимает ко мне пассивное, податливое тело Розеллы. Раз-другой я при этом украдкой косился на классический профиль Лоуфорда Каррингтона, едва освещенный лампочками на приборной панели, но он держался так, как будто был шофером со стороны, нанятым специально для такого случая.