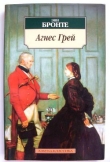Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Миссис Мак-Иннис вытащила платок и приложила к глазам, а потом подкрепилась еще одним основательным глотком коньяка, посмотрела на меня и усмехнулась.
– И все это тоже кончилось комедией, как и сначала, когда он меня так ошарашил своим хохотом. Только кончилось не хохотом, а слезами. Потому что когда он произнес эту последнюю фразу, у меня как будто лопнули все завязки на корсете – если кто-нибудь помнит, что такое корсет и какие там были завязки, – и я разревелась во весь голос, как последняя дура, а вовсе не как героиня трагедии, а потом так же уткнулась в его плечо. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но потом я так и заснула, и на следующий день Дэвид имел нахальство сообщить мне, что я храпела, словно свинья с аденоидами. А позже сказал еще, что плечо, в которое я храпела, чуть ли не двое суток оставалось наполовину парализованным.
Через некоторое время она произнесла, как будто про себя:
– Бедный милый Серджо – человек чести, как назвал его Дэвид… Что ж, наверное, я и сейчас люблю его. Может быть, даже сильнее. Но люблю так, как любят покойников.
И потом:
– И еще я поняла: смерть необходима.
В ту минуту мне показалось – да и сейчас, задним числом, кажется, – что это должно было стать достойным завершением нашего разговора. Но он закончился совсем иначе.
Миссис Мак-Иннис вышла в соседнюю комнату и вернулась с письмом в руке.
– Я хочу его вам показать не из тщеславия, хотя комплименты всякому приятны, – сказала она. – Оно представляет психологический интерес.
Письмо было от Розеллы и начиналось сообщением, что ферму, которая досталась ей в наследство от Лоуфорда – и дом, и мастерскую, и все произведения искусства, – она подарила университету, с тем чтобы это получило название «Центр искусств имени Лоуфорда Каррингтона». Дальше говорилось, что Нашвилл – совершенно не то место, где ей, Розелле, вообще следовало бы появляться. Теперь она уезжает, чтобы найти себе подходящее место, если такое существует. Но потом она написала: «Кроме слов прощания и благодарности за всю вашу доброту, хотя вы, может быть, и думали, что я ее не замечаю», – и в этом месте я вспомнил острую наблюдательность Розеллы и ее способность видеть в темноте, словно кошка, – «я хочу сказать еще кое-что, что вы можете счесть дерзостью. Но я говорю это от всего сердца. Из всех людей на свете я больше всего хотела бы быть похожей на вас. Я хочу, чтобы вы это знали, пусть даже до исполнения такой безумной мечты мне, как это ни печально, очень далеко».
Я медленно сложил письмо и положил обратно в конверт, подумав, как далеко той, кто это писал, до исполнения ее безумной мечты. И от этой мысли мне стало грустно.
– Что ж, – сказал я, – могу сказать вам одно.
– Что? – спросила она.
– Это написано в самом деле от всего сердца. Я это знаю. Вы помните тот ясный воскресный день в декабре, в тот год, когда я переехал в Нашвилл, когда мы были у вас в гостях? Так вот, мы с Розеллой смотрели, как вы берете барьеры, и тогда она сказала про вас то же самое.
Миссис Мак-Иннис засмеялась.
– Ну, в олимпийскую сборную мне никогда не попасть. Кроме того, у нее самой прекрасная посадка, да и храбрости хватает.
– Она не о том говорила, – сказал я и добавил: – Я вас еще немного помучаю. Я перескажу вам ее слова про вас в точности. Вот: «Что бы она ни делала, она отдается этому всей душой и от чистого сердца».
И, произнеся эти слова, я тут же вспомнил, в какой связи они в последний раз мелькнули у меня в голове, и у меня перед глазами встала не Розелла, говорящая про тогдашнюю миссис Джонс-Толбот, которая в это время брала барьер, а то лицо в ореоле разметавшихся волос с седой прядью, которое я видел на подушке.
– Бедная девочка, – сказала миссис Мак-Иннис. – Что-то с ней будет?
Я вдруг почувствовал, что виноват перед Розеллой, хоть и не знаю в чем, и меня охватило безнадежное, отчаянное ощущение утраты.
А миссис Мак-Иннис говорила о том, как ей всегда нравилась Роза (так она ее называла), что у нее был задор – самое важное качество, заслуживающее восхищения. Потом она сказала, что интересно бы знать, написала ли Роза хоть несколько прощальных слов Марии, – ведь они до самого конца виделись, и всегда наедине, не на людях.
Дальше она сказала, как замечательно все получилось у Марии, потом созналась, что вначале возлагала надежды – не совсем бескорыстные, по ее словам, поскольку это затрагивало ее отношения с Дэвидом, – на меня. Потому что знала, что никто из всей маленькой нашвиллской компании для этой цели не годится.
Что я мог на это сказать? Только то, что Мария мне действительно очень нравилась, – но ведь потом она исчезла.
– Кроме того, – добавил я в заключение, – мне только что впервые пришло в голову, что я, возможно, прирожденный старый холостяк.
Она бросила на меня пронзительный, испытующий взгляд, как будто осматривала лошадь, и, покачав головой, сказала:
– Не говорите глупостей!
Я в смущении опустил глаза – а может быть, просто понурился при мысли о лежащей впереди долгой веренице пустых лет? Не знаю.
Она спросила меня о моей работе, и я сказал, что в университете дела обстоят прекрасно, что мне нравится преподавать, но что касается самой работы – на этом слове я сделал ударение, – то я занимаюсь сущими пустяками. Потом услышал собственный голос, говорящий:
– Я, похоже, никак не могу найти идею, которой мог бы отдаться со всей страстью. То есть такую, которая затрагивает самую суть жизни.
Я замолчал, пораженный тем, что только что сказал. Значит, мне суждено было наткнуться на истину таким странным случайным образом?
Потом я сказал:
– А эта работа – она помогает скоротать время. Ведь я не пью в одиночку.
– Ну если так, – неожиданно прогремел голос появившегося в дверях мистера Мак-Инниса, – то надеюсь, что вы не дадите выпить в одиночку мне, потому что мне сейчас позарез нужно выпить, и чего-нибудь покрепче. – И он, подойдя к нам, добавил: – Как только я расцелую мою дорогую.
И он принялся целовать свою дорогую, которая с готовностью подставила ему губы.
Он заказал два коктейля, поскольку дама отказалась, и принялся рассказывать про ежегодные партии в покер до утра, которые они с приятелями устраивали в Луисвилле, а от этого перешел к рассказу о том, как в 1811 году в одной таверне в том же городе, который тогда был всего лишь пограничным поселком на берегу реки, тоже играли в покер, и одному игроку пришел флеш-рояль. Ставка все поднималась и поднималась, и была как раз его очередь, когда там случилось то знаменитое землетрясение. С крыш попадали трубы, люди стали выбегать из домов, крича, что наступил конец света. Человек с флеш-роялем только что на всякий случай еще раз взглянул в свои карты, чтобы не ошибиться, и в то время, как крики на улице продолжались и становились все отчаяннее, спокойно выложил их на стол со словами: «Что ж, джентльмены, этот мир был очень даже неплох».
Мистер Мак-Иннис сделал глоток и сказал:
– Я иногда тоже так думаю – что этот мир очень даже неплох.
Мы допили коктейли, я пожал руки хозяевам и от всей души поблагодарил их. Когда я уходил, они стояли рядом у дверей, и он одной рукой обнимал ее за плечи. Закрывая за собой дверь, я в последний раз взглянул на них и увидел, как эти два лица – одно широкое, румяное, увенчанное пышной седой шевелюрой, и другое энергичное, с тонкими чертами и властным взглядом серо-голубых глаз – тесно прижались друг к другу, словно слившись в одно.
На этом, по-видимому, заканчиваются нашвиллские дела.
Но дела старины Кривоноса на этом не заканчиваются.
Потому что не прошло и года, как он женился. А пять лет спустя развелся.
Глава XV
Я испытываю большое искушение написать, что с женитьбой для меня началась новая жизнь. Но, стремясь к возможно большей точности, я склонен считать ее всего лишь одним из аспектов некоего процесса, уже набиравшего скорость.
Я очень хорошо помню, как однажды вечером, вскоре после приезда в Нашвилл, – на следующий день после того, как я впервые побывал у Каррингтонов, – я лежал у себя в гостинице на кровати и, глядя в темноту, обещал себе навести порядок в своей жизни. Бриться каждый день, не обгрызать заусеницы, откладывать по сто долларов в месяц на оплату долгов, регулярно отдавать в чистку одежду, заниматься спортом, читать газеты и проявлять интерес к политике. И теперь, год спустя – после Нашвилла и Розеллы, – я тоже принес несколько обетов, только посложнее, и в числе первых в этом списке стояло: «относиться серьезнее к гражданскому долгу и политической ответственности». Живут же все остальные в гуще этой обширной бурлящей компании, или общества, или как там это назвать, и такая жизнь их удовлетворяет. А чем я хуже?
И вот я зарегистрировался в предвыборных списках как член демократической партии – что было для меня совсем новым ощущением, поскольку я еще никогда в жизни ни за что не голосовал. Кроме того, я вступил в Общество местной самообороны и к этому времени уже много раз поднимался по темным лестницам и нажимал на грязные кнопки дверных звонков ради всяких благих дел. Я все больше времени просиживал на заседаниях разных комитетов, как в университете, так и вне его, и подолгу задерживался в своем кабинете с каким-нибудь почтенным занудой, пытаясь в надвигающихся туманных сумерках нащупать некий волшебный спусковой крючок в его мозгу или душе.
После моего первого возвращения в Чикаго я открыл для себя счастье стоять на берегу озера, подставив лицо режущему ветру со слепящим снегом и ощущая за спиной лишь тундру. Но теперь я чувствовал потребность в каком-то другом, более глубоком определении счастья. Хотя я еще совсем недавно, осев на месте, с головой ушел в свое романтически-стоическое одиночество, на поиски этого нового определения меня толкнуло, наверное, соприкосновение с жизнью людей, которых я знал, – даже та комичная фотография матери с ее новым зубом или последний взгляд, брошенный на Мак-Иннисов, когда за мной уже закрывалась дверь.
И вот мне захотелось, так сказать, внести свою лепту, участвовать в общей работе – короче говоря, встать в ряды человечества. Мне стало казаться, что я всю жизнь куда-то бежал, и теперь, снова попав в Чикаго, где мне, похоже, и суждено было остаться, можно было попробовать сделать что-нибудь такое, что делают, остановившись на бегу, и посмотреть, что из этого выйдет.
Женитьба должна была стать, по-видимому, естественным продолжением этих моих новых исканий, логичным и в то же время приятным шагом к продолжению рода, вроде последней подписи под обязательством всерьез стать полноправным гражданином с перспективой заслужить хорошую репутацию в обществе «Американцы за демократическое действие» или в школьном совете и тем внести свой вклад в будущее Америки.
Я не хочу сказать, что мысленно перечислял по пунктам и раскладывал по полочкам все эти возможности. Но они, как свидетельство надвигающейся старости, постоянно присутствовали в глубине моего сознания, даже когда я поздно вечером последним уходил из библиотеки или из своего кабинета, или когда засиживался допоздна в своей чердачной комнатке, или когда оказывался время от времени на какой-нибудь университетской вечеринке среди преподавателей помоложе (меня все еще к ним причисляли), где отклонял или, что хуже, принимал авансы какой-нибудь особы женского пола, едва мне знакомой, и старался по возможности доставить ей удовольствие, прижимая ее, с разведенными в стороны ногами, к стенке чулана, чувствуя, как шланг пылесоса обвивается вокруг моей ноги наподобие молодого, но энергичного удава, и иногда утыкаясь лицом вместо кудрей моей добровольной жертвы в щетину висящей вверх ногами половой щетки, а ее ручка в это время выбивала на полу морзянкой подробный репортаж о происходящем, никому не слышный из-за бурного веселья или столь же бурных философских дискуссий на кухне, к которой примыкал чулан.
Но на такие вечеринки я ходил все реже, а торопливые объятия в чуланах или на заднем сиденье машины становились еще более редкими, потому что, обретая с годами степенность и памятуя о своем новом личном видении счастья, я стал рассматривать их как всего лишь временные, паллиативные меры. То прежнее, стоическое представление о счастье все больше уступало место стремлению к высшему блаженству, которое сулит приобщение к человечеству, и именно оно, как я уже говорил, побудило меня возложить на себя обязательства гражданина, женившись на весьма презентабельной даме, добившейся немалых успехов в профессиональной фотографии – как репортажной, так и художественной; она была молода, но не слишком, побывала замужем всего один раз, не имела детей и, по-видимому, начинала чувствовать бремя одиночества и такую же, как и у меня, тягу к осмысленной жизни.
Дама, на которой я женился, была не просто презентабельна. Многие, включая и автора этих строк, считали ее весьма красивой – той красотой, которая наводит на мысль о крадущейся львице или о тлеющем лесном пожаре, что видишь только в темноте. Но меня покорила не ее красота сама по себе, как бы очевидна она ни была. Раньше она была красивее – я готов и вполне могу с этим согласиться, ибо это была не кто иная, как Дофина Финкель (ныне – Филлипс), в чьей богемно и роскошно обставленной квартире над бывшим каретным сараем и в чьей постели я в свой первый приезд в Чикаго провел столько времени и получил столько удовольствия, – та самая Дофина, которая была самой молодой и самой прогрессивно мыслящей во всей аспирантуре, имела на своем счету внушительное число отличных оценок, охотно приобщала меня, в ее глазах – экзотического фашиста и линчевателя из южных штатов, ко всем идеям, призванным переделать мир, и которой я, ценой утраты ее мягкой постели, благоуханного дыхания и шелковистой кожи, так грубо высказал свои взгляды на дружбу со Сталиным, ее героем, и Гитлером, теперь вызывавшими у нее лишь отвращение.
Но когда я впервые описывал ее многословные назидания и твердокаменные убеждения, я ничего не сказал о том, что это была еще не вся Дофина. Она всегда могла, забыв о своих поучениях, молча свернуться клубочком в моих объятиях, и я, ощущая биение сердца под ее нежной грудью, на какое-то мгновение проникался чувством, что существует некая безымянная истина, более глубокая, чем любое твердокаменное убеждение, – истина, которая способна связать нас с ней воедино.
Хотя в те, прежние времена погоду делали именно убеждения, а не истины, и именно из-за них я оказался вышвырнут из изысканно-богемной постели, я не совсем забыл эти минуты покоя и присутствия некоей безымянной истины. Но та ее прежняя, еще совсем свежая красота, которую я так хорошо помнил, тогда еще не прошла через горнило жизненного опыта и была всего лишь счастливым результатом проб и ошибок природы. Теперь же сама ее красота несла на себе отпечаток какой-то неудовлетворенности, чуждой всякой безапелляционности и наводящей на мысль о некоей неутоленной жажде. А для меня ничто не обладает такой притягательной силой (или не обрело ее к тому времени), как неутоленная жажда истины – темные глаза, устремленные в метафизическую даль, губы, слегка приоткрытые, словно в ожидании глотка воды, уединение в себе самой посреди толпы.
Именно такое впечатление производила она теперь, когда мы с ней ходили на концерты. Не так важно было, какую музыку мы слушали, – важнее всего для меня было видеть напряженное выражение ее лица, когда она старалась проникнуть в истину, скрытую в музыке, найти в ней ответ на все вопросы, которые ставила перед ней жизнь, не подсказав, как на них ответить. Это была странная, волнующая, двойная притягательная сила – с одной стороны, темные тоскующие глаза, подобные сияющей тени, а с другой стороны, вступающий с ними в такое противоречие сумеречный аромат ее духов, выражавший самую суть ее души. Когда она сидела, полузакрыв глаза и глубоко уйдя в собственную тень, я тайно впивал этот аромат ее существа – аллегорическое воплощение плоти, стремящейся к чему-то большему, чем плоть.
Вечер за вечером – на концертах, или на немноголюдных вечеринках в ее квартире, или после их окончания, когда я, оставшись у нее, сидел с нетронутым бокалом в руке, – я наблюдал за этим лицом, тоскующим по истине. И, глядя, как отражаются на ее лице волны музыки, я чувствовал, что вижу поток судьбы, возвращающейся на круги своя.
Наш брак оказался очень удачным. Мы с уважением относились к работе друг друга и часто заботливо осведомлялись, как идут дела; она была общительна и своей экзотичностью и необычностью вызывала восхищение преподавателей постарше, которые теперь проявили склонность причислять нас к своему обществу, и я, вынув из кладовой и расставив в талии фрак, купленный когда-то в Нашвилле, чтобы было в чем ходить в гости с Марией Мак-Иннис, теперь надевал его на вечера, куда приглашали мою жену люди, не принадлежавшие к университетским кругам, – художники, политики либерального толка и многочисленные периферийные представители их мира.
Я переехал в просторную квартиру жены – жилье, совмещенное со студией, где была огромная комната, увешанная картинами и фотографиями знаменитостей и похожая на музей, и еще много комнат. Там мы принимали гостей, а едва наконец уходил последний из них, как мы, погасив свет, кидались друг другу в объятия и изображали зверюшку о двух спинах.
К нашему удивлению и испугу, моя жена забеременела; но понемногу испуг был вытеснен радостями предстоящего материнства и отцовства и – по крайней мере для меня – мыслью о том, что тем самым обеспечивается мое более непосредственное участие в будущих судьбах человечества.
Беременность означала все больше и больше проведенных вместе тихих вечеров, когда я следил за отражением музыки на ее физическом лице и за неутоленной жаждой и вопросами без ответа на лице аллегорическом.
И малыш, когда он наконец появился на свет, стал для меня источником подлинного счастья. Я любил вечера, когда, уложив его спать, мы с женой сидели вместе, и волны музыки отражались на ее лице, на котором – во всяком случае, пока – уже не лежала эта глубокая тень. Но – осмелюсь быть до конца откровенным – больше всего я любил те вечера, когда, сославшись на срочную работу, реальную или вымышленную, я оставался с ним наедине, а жена отправлялась в гости – «для поддержания отношений», как она выражалась. Тогда я мог в полное свое удовольствие держать его на коленях. Я мог купать его, изучая все крохотные сияющие чистотой частички его тела. Я мог кормить его – сначала из бутылочки, а позже с серебряной ложечки, с которой кормили когда-то его мать, – испытывая восторженное чувство соучастия в священном процессе жизни и временами разражаясь такими потоками бессмыслицы, что и сейчас краснею от стыда при одном воспоминании о них, – долгими импровизированными диалогами отца и сына, где ему всегда доставалось последнее и самое остроумное слово, длинными цитатами из Софокла, Ветхого Завета, Шекспира, Мильтона или Эдварда Лира (нередко прерываемыми Эфреймом, чтобы поправить мое произношение или уточнить цитату), отрывками из народных баллад, мрачных или веселых, старыми религиозными гимнами из моего деревенского детства, включая такие когда-то модные песенки, как:
Был у Марии единственный сын,
Казнили его евреи и Рим, —
Паши свою пашню, а духом будь с ним! —
что было несколько странно напевать этому ребенку, если учесть, что, к восторгу его бабушки и в соответствии с пожеланием матери, хоть она и была атеисткой, ему на восьмой день жизни было сделано обрезание, обставленное с большой помпой в роскошной гостиной вышеупомянутой бабушки.
По древним законам, торжественная церемония обрезания разрешается только в том случае, если мать ребенка еврейка, и поэтому я оказался при этом в значительной мере отодвинут на второй план, хотя ко мне и было проявлено должное уважение как к биологическому отцу, в то время как ребенок переходил из рук в руки – от бабушки к двоюродному брату жены, потом к самому почетному из троих, выражаясь современным языком, спонсоров, а потом к сандеку – обязательно мужчине, который должен держать ребенка на коленях, пока на его крохотный член накладывают зажим и скальпель делает свое дело.
Но вернемся к моим вечерам с Эфреймом. После того как он, насытившись, срыгивал, я закутывал его в одеяние, закрывавшее все тело и оставлявшее открытым только лицо (а в некоторых моделях – еще и руки), и укладывал спать в обширную и очень дорогую кроватку, стоявшую в просторной детской рядом с нашей супружеской спальней. Мой кабинет был всего лишь через две двери дальше по коридору, и я мог легко услышать любой, самый слабый звук из детской, от мышиного писка до надсадного рева. Если по истечении определенного времени ни того, ни другого слышно не было, я на цыпочках прокрадывался по коридору и заглядывал в кроватку. Там было на что посмотреть: пухлые щечки, игравшие в затемненной комнате всеми оттенками румянца, длинные черные ресницы, тоненькие пальчики на голубой фланели, крохотные, но обещающие когда-нибудь научиться хватать и повелевать, и выпяченные губы, которые пока еще не могли ничего произнести, но которым несомненно предстояло высказать что-то очень важное для судеб человечества.
А потом, рано или поздно, у меня возникал вопрос: было ли такое время, когда, еще до того, как виски взяло верх, Франт Тьюксбери – тогда еще молодой Франт Тьюксбери, обладатель самого большого члена в округе Клаксфорд, и лоснящейся черной шевелюры, такой густой, что ее надо было расчесывать скребницей, и пары самых желтых на свете сапог из воловьей кожи, и крепчайших, белейших зубов под черными усами, и вдобавок самой очаровательной в округе женушки, – было ли такое время, когда молодой Франт прокрадывался по ночам в темную комнату и стоял, глядя на черноволосого ребенка мужского пола, лежащего в импровизированной колыбели и, вне всякого сомнения, сосущего большой палец или тряпочную соску с кусочком сахара внутри?
Лишь изредка я позволял себе размышлять над этим вопросом. Чаще всего я просто крадучись уходил из комнаты. Могу сознаться, что однажды, когда я не ушел из комнаты, а стоял там и проклятый вопрос стучал у меня в висках, я в конце концов подошел к дорогой старинной кроватке, наклонился, поцеловал повернутую ко мне розовую, всю в пушке, щечку и дал волю слезам.
Но обычно я, как уже было сказано, крадучись уходил из комнаты, удержавшись от всяких проявлений такой несвойственной мужчине слабости, и погребал эту сторону своей души и своей жизни под грудой работы, за которую с рвением принимался. Любой работы, какая только была под рукой, – пусть сама по себе она доставляла мне все меньше удовлетворения, но она была надежным убежищем, куда я все чаще и чаще спасался бегством.
Бегством от чего? От всех других дел, которым я с такой методичностью посвятил себя? От удовольствий и радостей, к которым я стремился? От самого факта, что в этой работе я преуспевал, и преуспевал настолько, что в недалеком будущем мог рассчитывать на ленточку Французской академии в петлице и на полную коробку почетных медалей? Даже от славы?
Моя жена тоже преуспевала в работе, и это меня радовало. К концу четвертого года нашего брака состоялась персональная выставка ее фотографий, пользовавшаяся большим успехом. Мы отметили это событие маленькой вечеринкой, на которой главным героем был Эфрейм, уже научившийся ходить. На следующий год ей присудили премию в Сан-Франциско и другую, еще более престижную, в Филадельфии. Два года спустя была выставка в Музее Нью-Йорка, на которую я ее сопровождал, а вскоре после этого вышел и был встречен с большим энтузиазмом очень красивый альбом ее работ, представленных на этой выставке.
Иногда мы разлучались – например, когда я уезжал на какую-нибудь конференцию, или для чтения лекции, или для получения – уже не в первый раз – диплома почетного доктора, или когда она ездила на свою выставку или получала заказ в другом городе. Правда, на мою первую конференцию в Европе она поехала со мной и на одной из церемоний вручения мне диплома тоже присутствовала, но такие совместные поездки было нелегко устраивать, даже несмотря на то, что ее мать, тоже жившая в Чикаго, всегда с радостью брала Эфрейма к себе. А когда мы оба были дома – и это бывало часто, – все шло в основном как прежде: оба много работали, проявляли неподдельный интерес к работе друг друга, участвовали в достойных общественных делах, добросовестно ходили в гости (все чаще, однако, – к людям ее круга) и возвращались домой, слегка возбужденные дорогостоящей выпивкой, чтобы броситься в постель, обменяться кое-какими предварительными ласками (иногда несколько механическими, иногда чрезмерно изысканными, иногда лихорадочными) и изобразить ту пресловутую зверюшку.
А потом в одно воскресное утро, после того, как мы накануне поздно вернулись из гостей, я немного опоздал к завтраку и увидел, что она делает вид, будто читает газету, на которую капают обильные слезы. Все еще не совсем проснувшись, но будучи в довольно хорошем настроении, я еще в дверях спросил, не ушиблась ли она. Она подняла залитое слезами лицо, на котором было написано такое глубокое отчаяние, какого я еще никогда в жизни не видел, и заявила, что она этого больше не выдержит.
– Чего? – спросил я и направился к ней, намереваясь заключить ее в обычные утренние объятия, но не успел проделать и половины пути, когда выражение еще большего отчаяния на ее лице и выкрик «Всего!» заставили меня замереть на месте.
Вероятно, я был так ошарашен по той простой причине, что как раз перед этим, восстанавливая в затуманенной алкоголем памяти наши действия после возвращения домой, внутренне поздравлял самого себя с тем, какую отменную (во всяком случае, по нашим теперешним меркам) зверюшку мы изобразили. Уязвленный до глубины души, я стоял как вкопанный, а в ушах у меня звучал ее голос, который предложил мне на скорую руку позавтракать, надеть штаны, разыскать Эфрейма и отвезти его на воскресенье к бабушке, чтобы мы могли «ПОГОВОРИТЬ»– это слово так и было произнесено: в кавычках, прописными буквами и курсивом. Я махнул рукой на завтрак, надел штаны, разыскал Эфрейма и отвез его в роскошные бабушкины апартаменты, стараясь не прислушиваться к его болтовне и даже убедить себя, что его вовсе не существует. Насколько все было бы проще, если бы его действительно не существовало! Потом, когда я с ним прощался, мне вдруг показалось, что мое сердце вот-вот разорвется от сознания вины, и я обнял его так крепко, что он вскрикнул «Ой!» и вырвался у меня из рук, не сказав больше ни слова.
В такси по дороге домой я стал припоминать прежние полные радости вечера, проведенные наедине с ним, и при этом обнаружил одно обстоятельство, которое до тех пор всегда старался вытеснить из памяти, – обстоятельство, которое, видит Бог, вовсе не бросает тени на мою любовь к нему. Некоторое время, как я уже упоминал, его одевали на ночь так, как, насколько я понимаю, обычно одевали ребенка этого возраста – в нечто вроде мешка из фланели с зашитыми наглухо рукавами и штанинами и с капюшончиком для головы; все это застегивалось на молнию, и получался такой уютный сверток. Но иногда при виде этого свертка у меня появлялись совсем другие ощущения – панический страх, какой испытывает животное, попавшее в ловушку, боязнь задохнуться, как будто это меня так запеленали. Рывком распустив галстук (если я был в галстуке) и расстегнув ворот, я шатаясь выходил из детской и стоял в темном коридоре, прислонившись к стене и жадно глотая воздух. Если на мне был пиджак или халат, я снимал их, прежде чем снова сесть за работу – источник блаженного забвения. Через некоторое время я, конечно, начинал чувствовать себя идиотом и зашвыривал этот эпизод в самый дальний уголок памяти, куда выбрасывают старые ботинки, давно оплаченные счета, уже не нужные выдумки, в которые больше сам не веришь, надежды, которые питал когда-то, и дохлых кошек.
Но вот я вышел из такси и под солнцем гойского шабата, с ключом в руке, подошел к двери своего дома, где меня ждали полное отчаяния лицо и это «всё», разговор о котором предстоял, – и тут одна из таких кошек, которая, как я думал, валяется дохлая на куче мусора в самом дальнем уголке моей памяти, издала хорошо слышное «мяу!».
Это «мяу!» состояло в следующем. Через несколько месяцев после моей последней женитьбы, в самом разгаре моих возвышенных попыток приобщиться к человечеству и радостей медового месяца, в то время еще не всегда нуждавшихся в смазке алкоголем, я читал студентам одну из лекций курса, впервые прочитанного еще в Нашвилле, – лекцию об «Окассене и Николетт», где дева блуждает в глухом лесу, – и опять в одной из песней мне попалась строчка «De s’amie о le gent cors», и я снова остановился на этимологии слова «gent», заметив, как и в первый раз, что на современном французском языке эти слова можно передать как «au corps charmant» – «прекрасная телом». Это были те самые слова, которые однажды, в аудитории Нашвиллского университета, в дождливые зимние сумерки, вызвали у меня яркое воспоминание об обнаженном и покорном теле Розеллы, каким я его впервые увидел, и то же ощущение удара раскаленно-ледяным ножом в одно место на моем правом бедре, – тот овеществленный оксюморон, который я про себя назвал своей стигмой, – а также кое-какие другие важные симптомы. И вот теперь, годы спустя, в чикагской аудитории, передо мной, счастливым новобрачным с высоконравственным направлением мыслей, предстало то же самое видение, отчетливое и манящее, как никогда, и возникло то же самое непонятное ощущение в одном месте на бедре, и те же самые прочие симптомы. Впрочем, все это было, разумеется, немедленно и с полным основанием отправлено в кучу мусора в самом дальнем уголке памяти, предназначенную для всевозможных дохлых кошек, – до тех пор, пока я, стоя перед дверью своего дома, не услышал это «мяу!», прозвучавшее так не ко времени – или как раз ко времени?
Теперь, забыв, что тогда после чикагской лекции, отправив на кучу мусора кошку, которую счел дохлой, я приехал домой с очень дорогим букетом роз для своей новоиспеченной жены, и мы, поужинав в гостях, хорошо разогретые хозяйским виски, бордо и коньяком, потом с особым вдохновением изобразили зверюшку о двух спинах, – итак, забыв обо всем этом, я вставил ключ в замок и, как солдат в атаку, отправился вести разговор обо «всём». Как солдат – потому что в глубине души я уже знал, что, когда предполагается разговор обо «всём», это «всё» означает «ничто», а когда предметом разговора становится «ничто», то, как поется в старой народной песенке, старая серая гусыня уже издохла.