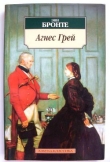Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Глава XI
Когда я подошел к задней двери своего дома и взялся за ручку, солнце только-только вставало над лесом. Я вошел в дом, и в ту же секунду на меня навалилась страшная усталость. Я чувствовал, что знаю нечто, но не знал, что именно. Словно мое сознание стиснуло в кулаке то, что я только что узнал, и не желает разжать кулак, чтобы показать мне, что в нем. А тем временем остальная, бессознательная часть меня каким-то образом добралась до спальни, скинула ботинки, разделась до белья и повалилась на кровать поверх одеяла. Она ухитрилась даже поставить будильник на девять, чтобы успеть на десятичасовую лекцию о типах трагедии для студентов-старшекурсников.
Будильник зазвонил, как мне показалось, сразу же после того, как я его завел. Я предоставил ему звонить, пообещав себе, что встану ровно через минуту, и лежал, пытаясь вспомнить, о чем должна быть моя сегодняшняя лекция. Я представил себе, как вхожу в аудиторию и объявляю: «Милые детишки, мои маленькие овечки, я не могу сказать, о каком типе трагедии сегодня пойдет речь, потому что забыл, но тем не менее могу поделится с вами одной глубокой, хотя и мало приятной мыслью», и как я привожу слова Эдгара из замечательной сцены в степи во время бури, которые стали откровением для короля Лира: «Не давай скрипу туфелек и шелесту шелка соблазнять тебя, не бегай за юбками… не слушай наущений дьявола». А потом в слезах умоляю их, моих милых детишек и маленьких овечек, не верить тому, что я только что сказал, тому, что сказал Эдгар, поскольку это кощунство, поскольку если не давать соблазнять себя, то зачем тогда жить, поскольку…
Тут будильник зазвонил снова, только это был не будильник, а телефон, и мне пришлось, прервав уже не просто остроумную воображаемую речь, а самое настоящее сновидение, шлепать к нему босиком среди белого дня, потому что было уже безнадежно за девять часов. И еще не дойдя до телефона, я понял, что сегодня вторник, что Розеллы Хардкасл сегодня здесь не будет, что она будет далеко, высоко над миром, и пустота предстоящего дня привела меня в отчаяние.
Звонила Салли Кадворт. Она сказала, что Кад после обеда уезжает, а погода такая чудесная, и не приду ли я помочь с разминкой лошадей, а потом на тихий семейный ужин, и заодно посмотреть, как отвратительно и роскошно раздулся ее живот. Ведь мы не виделись тысячу лет, добавила она.
Да, не виделись.
И я знал почему, потому что месяц назад, когда я в последний раз был у них и мы с Кадом проезжали лошадей, Кад снова – о, вполне невинно – завел разговор о соседней ферме и сказал, как красиво расположен старый дом на холме над ручьем, и что ферма еще не продана, и что будь он проклят, если понимает почему, тем более что цену опять понизили. А позже, когда мы с ним у стойки бара дружно взялись за виски, он снова сказал:
– Теперь ее можно купить просто за бесценок. А содержать ее – не проблема, уж я точно знаю. Только не думай, что я тебя уговариваю.
И потом:
– А ей-богу, и в самом деле уговариваю. Потому что мы с Салли никого так не хотели бы иметь своим соседом.
И он повернул ко мне свое широкое, сильное, обветренное лицо и взглянул на меня серьезно и по-дружески, и капельки пота блестели на его крепком лысом черепе, как всегда, когда он выпивал, и он сказал:
– Я просто знаю, что все кончится хорошо, я это нутром чувствую, и ты тоже это знаешь, приятель.
И я услышал как будто издалека собственный голос, который спокойно и отчетливо произнес:
– Грош цена твоему нутру, ничего оно не понимает. – Я видел, как его голубые глаза удивленно округлились, а уголки рта опустились от огорчения. – И если ты имеешь в виду Марию Мак-Иннис, то прошу оставить эту тему в покое. Навсегда.
С этими словами я круто повернулся – все еще со стаканом в руке, однако, – и, испытывая веселое злорадство при мысли о том, что его чертово нутро даже не догадывается, кому заправляет шершавого Старина Кривонос, и как оно удивилось бы, если бы узнало, отправился в другую комнату, где, присоединившись к кучке гостей, преимущественно женского пола, окружившей свами, принялся разглядывать чахоточные прелести крошки Деббит, которая сидела на подушке у ног мудреца и жадно внимала каждому его слову.
Свами как раз читал вслух – на хинди, разумеется, – одно из своих стихотворений, а кончив читать, перевел его на английский, тоже в стихах. Когда возгласы восторга и восхищения утихли, он начал читать другое стихотворение, тоже в оригинале, и не успокоился, пока не дошел до конца. Тут его взгляд упал на меня.
– Ах, дорогой профессор, – сказал он, – вы можете объяснить нашим друзьям, как много всегда теряется при переводе, как исчезает живое дыхание языка, и эту последнюю вещь я вынужден, принеся свои извинения, пересказать несколько вольно, а уж как-нибудь потом постараюсь дать более адекватный перевод.
И он принялся излагать нечто напоминавшее странную мешанину из Рабиндраната Тагора, Лоуренса Хоупа, Элизабет Браунинг и Фелисии Хименс, не говоря уж о частых ссылках на некий учебник экзотических поз, имеющий хождение на его родине. Очень скоро я почувствовал, что сыт по горло, и, стараясь не шуметь, стал пробираться между сидевшими на подушках женщинами, извиняясь вполголоса, и клянусь, что, когда я случайно взглянул на свами и наши взгляды встретились, мне показалось, он мне подмигнул – а может быть, и в самом деле подмигнул – и улыбнулся многозначительной улыбкой с богатым ироническим подтекстом, выражавшей, кроме всего прочего, дружелюбие, доброжелательность с долей презрения и братское понимание, как будто он хотел дать мне понять, что, если я не буду соваться в его темные делишки, он не будет соваться в мои.
Похоже, что довольно много людей считали, будто я занимаюсь какими-то темными делишками, но, слава Богу, им пока и в голову не пришло, какими именно.
И теперь, когда я услышал в трубке голос Салли Кадворт, дружеский и поддразнивающий, я почувствовал облегчение. Я, никогда не имевший друзей, настоящих друзей, никого из тех, кого знал, не хотел бы иметь своим другом так, как Када Кадворта – Када и Салли, потому что они были неразделимы, – и какой я был идиот, что не понял, как жестоко и глупо тогда поступил.
Да, когда я бывал у них, у меня время от времени появлялось ощущение нереальности их мира, но сейчас, держа в руке трубку, я вдруг понял, что утешаюсь мыслью о нереальности их мира только потому, что не могу без боли видеть реальность их счастья. Источником этого счастья была их осознанная и полная готовность жить, отдаваясь потоку времени, я же, видит Бог, только и делал, что от времени бежал. Они были для меня живым упреком, и вынести этого я не мог.
Те мысли, которые я здесь высказал, промелькнули у меня в голове, пока я слушал Салли, отнюдь не в строгом аналитическом порядке, словно белье, аккуратно развешанное на веревке. Это было скорее что-то вроде бурлящей горячей лавы разнообразных чувств, и я только бормотал в трубку: «Да, конечно, я приду, с радостью приду». И, еще не положив трубку, представил себе, как сегодня же вечером поговорю с Кадом и расскажу ему все и какое облегчение, какое умиротворение это мне принесет. Для чего же, черт возьми, существуют друзья?
Отойдя от телефона, я почувствовал внезапный прилив энергии. Отправляться на лекцию было уже поздно, и я принял холодный душ, приготовил и съел обильный завтрак – чтобы продержаться до восхитительного тихого семейного ужина, который приготовит Салли. Я тщательно почистил зубы, сел за стол, решительно открыл папку со своими заметками (уже изрядно запылившуюся и замусоленную) и принялся их перечитывать, наслаждаясь тем, как мой мозг охватывает факты, перетасовывает их и составляет из них новые интересные комбинации, вполне похожие на правду.
Я взглянул на часы – еще не было одиннадцати. Предстояло поработать еще не меньше двух часов, прежде чем отправляться на ферму Кадвортов.
Но тут опять зазвонил телефон.
– Я в аэропорту, дорогой, – произнес голос в трубке. – Я просто не могла улететь, не позвонив тебе… Ох, я так надеялась, что ты проспишь, я просто должна была тебе сказать, какое это было тихое блаженство – просто посидеть у тебя на коленях, свернуться клубочком у тебя в объятьях…
– Послушай… – начал я.
– Ох, дорогой, я не могу этого вынести – сегодня четверг, а этого замечательного Кривоноса нет со мной рядом…
– Послушай, – повторил я повелительным тоном. – Я тебя люблю. Но это не может так продолжаться – ты слушаешь?
– Да, – ответил голос.
– Так вот, слушай внимательно. Тебе надо как следует подумать за время этой поездки…
– Я умру за время этой поездки, – произнес голос.
– Ты не умрешь, а…
– Я сейчас заплачу, – произнес голос.
– Ну плачь, если хочешь, но ты должна…
– Ах, там объявили посадку на мой рейс, – произнес голос.
И в трубке раздался щелчок.
Я стоял с трубкой в руке и вспоминал, как наконец увидел ее лицо, когда она спала.
В это утро, около половины пятого, я выскользнул из кровати, оделся при романтическом неярком свете, который горел всю ночь, и на цыпочках – в тяжелых армейских ботинках – беззвучно прокрался по толстому кремовому ковру к двери. Прежде чем взяться за дверную ручку, я вытащил из кармана ключ и положил его рядом с пустой бутылкой из-под шампанского в круг света от ночника. Потом взглянул на нее.
Она лежала на правом боку, лицом к двери, и ее профиль четко вырисовывался на фоне подушки. Лицо ее было спокойно, веки опущены на большие, глубоко посаженные глаза, губы приоткрыты, и я вспомнил, как сладко ее легкое дыхание.
В конце концов я с большой осторожностью открыл дверь и выскользнул в коридор. У меня было такое чувство, что, если она проснется, что-то будет безвозвратно утрачено.
В середине дня в четверг я отправился к Кадвортам и с наслаждением окунулся в царившую там атмосферу непринужденного счастья и полноты жизни. Но у меня так и не состоялся тот разговор с Кадом, который казался мне таким необходимым и неизбежным, когда я утром стоял с телефонной трубкой в руке.
В пятницу мы читали Данте с миссис Джонс-Толбот и ее подругой, после чего я поехал в город, в одиночестве пообедал в кафетерии и пошел в кино.
В субботу я проснулся с мыслью об ультиматуме, который предъявил Розелле по телефону, и снова ощутил прилив энергии и свободы. Я решил навести порядок в своей жизни. После завтрака я увидел на столе свои заметки, уселся и, взявшись за них, почувствовал первые признаки хорошо знакомого мне возбуждения. Я подумал, что, может быть… может быть…
Я не знал, что это было, какая идея на мгновение тенью промелькнула передо мной, словно рыба в темной воде, – я побоялся выразить ее словами. Я встал и принялся расхаживать по комнате, старательно отгоняя любые мысли. Я хотел, чтобы эта идея сама овладела мной.
Она висела в воздухе – здесь, рядом, но невидимая даже уголком глаза. Я не хотел облечь ее в сознательную мысль. Еще рано.
Потом я подумал, что мог бы – да, пожалуй, мог бы – написать статью о соотношении понятий любви и времени у провансальских и итальянских поэтов – предшественников Данте. Я набросал несколько фраз – вопросов, размышлений, ссылок – и, перевернув лежавший передо мной верхний лист бумаги, обнаружил на следующем листе давно переписанный мной отрывок из Арно Даниэля, этого короля трубадуров – его мольбу о том, чтобы Господь в своей милости позволил ему наконец устроить долгожданное любовное свидание с его дамой сердца:
Voilla, si! platz, qu’ieu e midonz jassam
En la chambra on amdui nos mandem
Uns rics convens don tan gran joi atendi,
Quel seu bel cors baisan rizen descobra
E quel remir contral lum de la lampa.
И тут же был нацарапан черновой перевод, весь испещренный исправлениями, в котором я когда-то попытался передать, пусть без рифм, волшебное звучание этого отрывка:
Чтоб мы с моей любовью рядом возлегли
Там, где блаженству суждено свершиться,
Которого я с нетерпеньем жду,
И чтоб, меж поцелуев и улыбок, мог я
Ее прекрасным телом любоваться
При свете лампы, обнажив его.
Но последние строчки были зачеркнуты, и внизу был приписан другой вариант:
…И безупречным телом любоваться
при свете лампы, обнажив его.
С возрастающим неудовольствием я перечитал перевод, потом начал повторять вслух слова, написанные Арно. Встав из-за стола, я, словно лунатик, прошел в спальню и остановился посреди царившего там полумрака и беспорядка. Я смотрел на неубранную постель, на грязную рубашку в углу, на раскрытую книгу, валявшуюся на полу переплетом вверх, на задернутую занавеску и повторял:
– «Е quel remir contral lum de la lampa».
Та самая лампа, стоявшая на ночном столике у кровати, все еще тускло освещала искусственную ночь в комнате с задернутой занавеской, где я впервые увидел безупречное обнаженное «bel cors», которое сейчас снова всплыло в моем воображении. И у меня защемило сердце, потому что, как только я живо представил себе эту картину, меня охватило чувство глубокой утраты – как будто я больше никогда не увижу это тело, как будто я лишился его навсегда.
Я бросился на измятую постель и пролежал так не знаю сколько времени, вцепившись обеими руками в скомканную простыню. Но в какой-то момент, кроме этого чувства утраты, я стал ощущать что-то вроде нежности к Розелле Хардкасл – думаю, что «нежность» – самое подходящее слово, – какой я раньше никогда не испытывал. Некое смутное желание проникнуть в ее душу, и немного жалости.
Прошло шесть дней, а от нее – ни слова. Я поклялся сам себе не существовать все время, пока она будет отсутствовать, как бы долго это ни продолжалось. Или, точнее говоря, погрузить часть себя – самую важную часть – в состояние анабиоза, какое описывается в научно-фантастических романах, чтобы потом, когда настанет пора вернуться к жизни, реанимировать ее. А пока что я тянул свою привычную лямку в университете, а приходя домой, садился за стол и перетасовывал свои заметки, словно любитель пасьянсов, оказавшийся на необитаемом острове с одной-единственной колодой карт, которые понемногу все больше выцветают и истрепываются. Могу добавить, что если при этом что-то и доставляло мне подобие удовольствия, то не поиск истины, что бы там, черт возьми, ни считать истиной, а просто равномерный гул хорошо работающего механизма у меня в голове.
А истина пусть ищет меня сама.
В четверг утром, через несколько минут после того, как я выключил будильник, натянул штаны и выпил залпом первую чашку кофе, но еще до того, как я успел побриться, послышался стук в заднюю дверь. За дверью стояла она, и выглядела она не самым лучшим образом.
Она бросилась ко мне в объятья, прижимаясь всем телом, как маленький ребенок. Я пробормотал что-то, ввел ее в дом, ногой захлопнул дверь и предложил ей кофе. Она только мотнула головой и сказала, чтобы я сел, но не выпускал ее из объятий. Я повиновался, хотя на кухонном стуле с прямой спинкой сидеть было неудобно.
В общем, дело было так.
В Нью-Йорке «ее муж» на первых порах был вне себя от счастья. Он словно пребывал в каком-то опьянении, особенно на торжественном обеде, который его агент устроил в его честь в субботу и на котором присутствовало множество важных гостей, и особенно после того, как в воскресном издании «Дейли ньюс», в разделе сплетен, было напечатано, что некий неназванный «любитель искусства» купил весь комплект «эпатирующих скульптур», выставленных в галерее Дэлфорта теннессийским скульптором и светским львом Лоуфордом Каррингтоном. Она швырнула мне скомканную вырезку – заметку под заголовком «Приходи посмотреть на мой балет» с двумя маленькими фотографиями: портретом самого скульптора и светского льва и снимком той самой скульптуры из «Сюиты», вокруг которой в новогодний вечер разыгралась история с бананом.
В воскресенье все было не так скверно, сказала Розелла, хотя все-таки довольно скверно, потому что о самой выставке ни в одной газете не было ни слова. В понедельник «Нью-Йорк таймс» напечатала краткую заметку, подверстанную к общему обзору художественной жизни, – в ней было выражено сожаление, что художник, когда-то подававший большие надежды, не только проституирует свои немалые технические возможности, но и не желает идти в ногу со временем. Прочитав это, ее муж сказал ей, чтобы она собрала вещи, и сдал номер в «Уолдорфе», но, сев в такси, к ее большому удивлению, велел ехать не в аэропорт Ла-Гардиа, а в Вест-Сайд, в совершенно немодную гостиницу, где зарегистрировался под именем «Джеймс Карингтон». «Джеймс» – это, разумеется, была часть его полного имени – «Джеймс Лоуфорд», а что касается пропуска одного «р» в фамилии, то она не знала, что это – просто описка или некая загадочная попытка остаться не узнанным. В гостинице ее муж распорядился, чтобы обеды и ужины – скверного качества, сказала она, – подавали в номер, и заодно, добавила она, велел принести половину запасов винного погреба и бара. Его обиженное молчание сменилось ядовито-ироническими речами, а потом – обвинениями в ее адрес, которые становились все более злобными, – что она не верит в него, не ценит его преданности и исподволь вредит его творчеству; потом последовали сентиментальные мольбы понять его и простить, а вслед за ними – грубый и довольно-таки извращенный секс.
В среду, в середине дня, они улетели в Нашвилл, постаравшись сделать это как можно незаметнее. В самолете стюардесса предложила им журнал «Нью-Йоркер», и Розелла видела, как Лоуфорд лениво полистал его, а потом задержался на какой-то статье и принялся ее читать. Сначала лицо его побагровело, потом побелело. Стиснув зубы, он встал и, взяв журнал, направился в туалет, где провел довольно долгое время и вернулся без журнала.
После этого он стал с большим воодушевлением рассказывать ей о своем новом замысле – соединить современную строгость формы с ощущением горячего пульса жизни, – но эту замечательную революционную идею ему никак не удавалось ясно выразить словами. Через некоторое время он взял ее руку, молча стиснул ее, словно пылкий любовник, и не отпускал до самого Теннесси.
Едва только они добрались до дома и поели яичницы (которую она поджарила сама, потому что прислуга была отпущена), как он, прибегнув к помощи старинной бутылки, содержавшей, по его словам, поистине королевский коньяк, разразился философским монологом, проникнутым жалостью к самому себе пополам со стоическим достоинством. Главная мысль заключалась в том, что он пожертвовал успехом в искусстве ради любви, в чем и состоит его трагедия, и в подтверждение этого тезиса он сослался на «Нью-Йорк таймс», где среди прочего упоминалось о его прежних достижениях в современной технике скульптуры, и на «Нью-Йоркер», выдранную из которого страницу он швырнул ей, – ту самую страницу, что сейчас валялась скомканная на моем кухонном столе рядом с моей пустой чашкой.
Я наспех пробежал заметку – как и в «Нью-Йорк таймс», всего лишь убийственное по своему тону примечание к большой обзорной статье, где говорилось о «претенциозном низкопробном фокусничестве, которое практикуется в Теннесси». Там не было ни слова ни о каком прежнем таланте или художественной цельности, которые были бы принесены в жертву этому фокусничеству, будь оно высокой или низкой пробы. Впрочем, из всеобщего поношения было сделано одно исключение – голова кричащего человека, по словам рецензента, хотя и старомодна и представляет собой подражание Родену, а возможно, восходит и к Мунку, но все же исполнена кое-какой грубой силы.
– А при чем она тут? – спросил я. – Эта голова?
Розелла сидела съежившись у меня на коленях, я левой рукой обнимал ее, а в правой держал журнальную заметку.
– Ни при чем, – ответила она и повторила: – Это все сплошной бред. Обними меня покрепче.
Я сильнее обхватил ее левой рукой, и через некоторое время она продолжила свой рассказ.
Как следует приложившись к бутылке королевского коньяка, ее муж стал требовать, чтобы она последовала его примеру. Когда она взяла рюмку, но только сделала вид, что пьет, он возобновил свои обвинения. Чтобы успокоить его, она выпила несколько рюмок. В какой-то момент, не прекращая своего монолога, он перешел на виски с содовой и заставил ее сделать то же самое. Действие естественным образом было перенесено в спальню. Она заперлась в ванной, надеясь, что к тому времени, когда она выйдет, алкоголь сделает свое дело. Но этого не случилось, и, когда она пыталась отказаться от секса, последовали новые обвинения, а затем и физическое насилие. С точки зрения анатомии оно началось довольно успешно, но потом что-то не заладилось. Насильник – надо заметить, к удивлению насилуемой – так и не смог воспользоваться плодами своей победы. Это вызвало новую бурю обвинений, сменившихся слезами, признаниями в любви, угрозами – что он с ней сделает, если окажется отвергнутым и брошенным, – и наконец он погрузился в долгожданное забытье. Главная же героиня всего этого представления, в шелковой куртке от пижамы цвета бордо, украшенной монограммой, так и лежала с голой задницей поперек монументальной кровати с балдахином в просторной спальне с толстым кремовым ковром. Это не плод моего воображения: все подробности сообщила сама Розелла, а я только спросил:
– Какого цвета была пижама?
– По-моему, это называется цвет бордо, – сказала она. – А зачем тебе это знать?
– Для полноты картины.
Эта часть нашего диалога происходила после того, как я уже в третий раз снял льнувшую ко мне рассказчицу со своих колен, пересадил ее на стул, а сам пошел налить себе еще кофе. Дважды я возвращался, ставил чашку на стол и снова сажал Розеллу себе на колени. Но на этот раз я остался стоять у плиты, пытаясь представить себе, как все это происходило в спальне, которую я так хорошо помнил.
Потом я обернулся и посмотрел на Розеллу. Она сидела на стуле, уронив голову на стол, так что я видел только ее профиль, наполовину закрытый рассыпавшимися волосами, и вытянутые вперед руки. Глаза ее были закрыты.
– В тот вечер под Новый год… – начал я, глядя уже не на нее, а в окно – на дровяной сарай, дощатый забор нарочито сельского вида и зеленеющее пастбище, где паслись коровы с белыми мордами. – Помнишь?
– Да, – послышался слабый голос.
– В тот вечер это была твоя первая ссора с ним?
После паузы я услышал:
– По-серьезному, кажется, первая.
Я обернулся и увидел, что глаза ее все еще закрыты.
– А из-за чего она была тогда?
– Ну, из-за всякой всячины, – произнес слабый голос. – Сначала одно, потом другое. – И потом: – Я так устала.
– Эта скульптура, эта кричащая голова, которую он показывал в тот вечер, – она имела к этому какое-нибудь отношение?
– Наверное, да, – произнес голос.
– Он демонстрировал ее очень торжественно, это точно.
– Я устала, – произнес голос.
– И все время не сводил с тебя глаз. Все представление было устроено для тебя.
Голос молчал.
– А потом ты подошла и стала взасос с ним целоваться.
Снова молчание.
– Я видел.
Розелла Хардкасл подняла голову и посмотрела на меня с другого конца кухни, залитой жестким утренним светом, в котором очертания всех предметов вырисовывались четко и резко. Веки у нее покраснели от слез, и такое освещение ее отнюдь не красило.
– Тебе это было все равно, – сказала она. – Тогда.
– Но в чем было дело?
– Я старалась сохранить мир, – с горечью сказала она. – Чтобы не было взрыва.
– А при чем тут та голова?
– Слушай. Батлер – ты, наверное, догадался, что это был он, – начинал с самых низов. Мелкий политикан на вторых ролях из ирландских кварталов Чикаго. Когда он стал богатым, как Крез, он взял себе в жены девушку с высшим образованием вдвое моложе себя, чтобы показать, какой он мужчина – а он был вполне мужчина, – и Лоуфорд Каррингтон не позволял мне забыть, что я вышла замуж ради денег – а так оно, наверное, и было, – и что он, Лоуфорд, спас меня от этого унижения, и разве это не ответ на твой вопрос? И, ради Бога, неужели нам сейчас больше не о чем говорить?
– Есть о чем, – сказал я, все еще стоя у плиты. – Ты сделаешь то, что я сейчас скажу. Ты пойдешь домой, соберешь свои вещи в один чемодан, захватишь шкатулку с драгоценностями – полагаю, у тебя есть такая шкатулка – и исчезнешь из города в неизвестном направлении. Что до нас с тобой, то я уверен, мы очень скоро сможем придать всему этому вполне законный вид.
Она не сводила с меня широко раскрытых глаз.
– А что до меня, – добавил я, – то я уволюсь отсюда, отрясу прах с моих ног и буду искать место на будущий учебный год.
Я чувствовал себя свободным, заново рожденным и спасенным в одно и то же время. Жизнь вдруг показалась простой и яркой. И на пастбище за окном каждая травинка по отдельности сверкала в солнечных лучах.