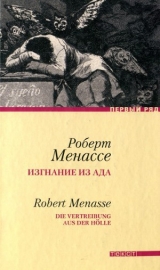
Текст книги "Изгнание из ада"
Автор книги: Роберт Менассе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Когда золотой меч этого герба отделился от еще не высохшей штукатурки и среди ночи грохнулся наземь, он за считанные минуты бесследно исчез. Люди, которые, услышав лязг, выбежали из домов, увидели только отсутствие этих четырех фунтов золота и покатились со смеху. Так гоготали, что в подземельях Трибунала было слышно. Для людей на площади это было вроде пропажи мелкой монетки. Меч-то и ночью в трудах, хо-хо! По рукам пошли бутылки багасейры. Хо-хо, интересно, где он? У семейства Оливейра? У Соэйру? Меч Господень в трудах, хо-хо!
Четыре дня спустя меч в гербе заменили. Золото текло в Комесуш рекой. Коренные христиане в своих новых домах уже подумывали, не замостить ли золотом дворы. И в тот самый день, когда меч вернулся на фасад резиденции Священного трибунала, без малого через год после кошачьих похорон, была арестована Антония Соэйра. На втором допросе с пристрастием Гашпар Родригиш обвинил жену в том, что она склоняла его к жидовству. На дыбе он сказал одно-единственное слово, может, крикнул «да», а может, что-то нечленораздельное. Однако протокол гласил: «…на втором допросе с пристрастием сознался, что супруга его, Антония Соэйра…»
В дом вдруг заявились мужики в заплатанных рубахах и нарукавных повязках, красных, с нашитым крестом, мужики эти, слишком неотесанные и неуклюжие для любого ремесла, где надобны ловкие руки, жили тем, что забирали людей в тюрьму, за тарелку супа в день да багасейру на Меркаду, и трактирщики не выставляли им счет, опасались. Да, не забыть личный обыск. Тут опять же кое-что перепадало. Весь Комесуш их кормил.
А еще явился человек в сутане и красной шапочке на выбритой макушке, который непрерывно потирал руки, а когда говорил, скрещивал их. Руки были красные, шелушащиеся, когда он их потирал, словно бы слышался шорох и чешуйки кожи дождем сыпались на пол. Впоследствии Мане часто сожалел, что был прямо-таки заворожен этими руками и ничего больше не видел. Не видел выражения лица матери, не видел, выказала ли она страх или осталась холодна и презрительна, – впоследствии он утверждал, что холодна и презрительна: «Она отнеслась ко всему как будто бы холодно и презрительно, тревожила ее только судьба нас, детей».
– Дети завтра же будут отданы на воспитание христианам! – сказал человек с красными руками.
Последняя ночь в этом доме.
– Я знаю, что ты думаешь! – Эштрела.
– Нет, Эштрела, не знаешь, ведь я и сам не знаю!
– Не зови меня Эштрелой! Я Эсфирь!
– Эсфирь. – Он подумал, что уже слишком поздно. – Что я думаю?
– Ты хочешь убежать, прочь отсюда, как можно быстрее!
– Я не умею бегать!
– Тогда нам далеко не уйти.
– Даже из этого дома не выйти!
– Давай тогда соберем сумки на завтра.
Мане плакал, а Эсфирь тем временем укладывала в сумки самое нужное. Она-то в самом деле была холодна и презрительна, сумки, туго набитые, затем полегчали: чего только человеку не требуется! И без чего только он не обойдется! Когда уходишь в неизвестность – не нужно почти ничего! Прощальный ритуал: педантично разложить по местам все, что сперва хотел взять с собой, а потом все же решил оставить. Под конец ясно одно: ничего не нужно. Только что-нибудь теплое. Даже в теплых краях итоговая заповедь – что-нибудь теплое.
Мане плакал. «Она была так холодна, а я плакал горючими слезами. А потом, в разгар этой последней ночи, я научился любить ее».
– Пойдем на улицу. Еще разок прогуляемся по Комесушу!
– Да. Пойдем!
Они шли по городу. И город прощался с ними: тут перекрыто – мостят улицу, там леса – идет ремонт; защитные решетки, заборы, барьеры направляли их путь так же, как темнота, под конец они шли, держась за руки. И пришли на кладбище.
Чья была идея? Там стояли лопаты. Земля еще не вполне осела. Они откапывали кошачий гроб. Шутили. Смеялись. Все, что им довелось вынести впоследствии, они вынесли благодаря этому. Они откапывали кота. На небе ни облачка. Звезды кричали. Только эти двое детей слышали их. И кричали в ответ, не опасаясь, что их услышат. Смеялись, с трудом переводя дух. Целовались. Первые поцелуи Мане. Безумный праздник. Бумм! Лопата Мане наткнулась на гробик. Они захихикали. Подняли гробик из могилы. Открыли. Доски треснули. Но ничего страшного. В сущности, все оказалось очень легко.
Когда наутро за Мане и Эсфирью пришли, они улыбались друг другу.
Повозки, увозившие их в разные стороны, миля за милей удалялись от Комесуша, а в городке, где обнаружили разрытую кошачью могилу и пустой гробик, нарастали смятение и истерия.
По дороге туда Хохбихлер пил шнапс. В левом боковом кармане пиджака у него была плоская фляжечка, которую он регулярно доставал, привычными любовными движениями отвинчивал крышку и снова завинчивал.
Паломничество в Рим. На Пасху 1971 года. Двадцать восемь учеников шестого и седьмого классов школы-интерната записались в эту весьма недорогую, организованную Хохбихлером автобусную поездку. Но мечтали вовсе не о пасхальном папском благословении, а о том, чтобы вырваться из тисков семьи и школы в большом чужом городе, хоть и не в Лондоне, конечно, но все-таки. И под присмотром всего-навсего этой убогой развалины, профессора Хохбихлера. Фантазия у них разыгралась не на шутку. На последнем уроке философии перед пасхальными каникулами профессор Богнер рассуждал о понятии «условия возможности». То и дело раздавались смех и возгласы – учеников, записавшихся на поездку в Рим.
Но их ожидало разочарование. Во-первых, с ними поехал и профессор Шпацирер, латинист, правда privatim [8]8
Как частное лицо (лат.).
[Закрыть], как он неоднократно подчеркнул, однако, как он любил говорить, педагог и на каникулах остается педагогом, тем паче сопровождая учеников в поездке. Шпацирер не отличался особой религиозностью, для него поездка в Рим была возможностью освежить языковые знания там, в Ватикане, где латынь оставалась живым языком. А раз уж он присоединился к поездке, то volens nolens [9]9
Волей-неволей (лат.).
[Закрыть]осуществлял дисциплинирующую функцию: в автобусе он сидел в середине последнего ряда – любил хороший обзор, – а вскоре его окружили честолюбцы и полные слабаки в латыни, с которыми он разучивал пасхальное папское благословение. Таким образом, с точки зрения техники школьного надзора вожаки стада, жаждущего удариться в разгул, уже были нейтрализованы.
Во-вторых, сам Хохбихлер. Сколь ни выпивал, он ни на миг не мог забыть то, что пережил как военный пастырь в сентябре 1941-го, перед отозванием в Вену, под Ельней в России – он и в 71-м говорил не «Русланд», а «Руссенланд». Больше сотни радикалов-социалистов были тогда посланы в самое пекло, обреченные геройской смерти, каковая их и постигла. Все они, конечно, знали, что им светит. А человек, не без содействия которого революционеры – рота смертников, пушечное мясо! – не взбунтовались и не дезертировали, способен и во сне руководить группой школьников.
– Перестань, Виктор! Ты фантазируешь! Это выдумка!
– Нет. Такое выдумать невозможно. А свою ограниченную фантазию я исчерпал, еще когда мечтал тебя соблазнить!
– Виктор! Перестань!
Ночь. Холодный свет фонаря. И Хохбихлер, широко расставивший ноги, черный, отдает команды. Где-то в стороне собачий лай. Временами, со странной регулярностью, подвижные конусы света – от автомобильных фар, – снова и снова вопли клаксонов. Сонные, измученные ученики, пошатываясь, вышли из автобуса, побрели мимо Хохбихлера в дом с двухъярусными койками. Орвьето. Бывшая папская резиденция. Промежуточная остановка паломничества.
Хохбихлер лукавил. Ученики, которые на другой день, после осмотра орвьетского собора, сидя в автобусе, на коготках ждали приезда в Рим, еще не знали, что и в Риме не больно-то покинут этот автобус. Неделя в Риме – на самом деле всего два дня, остальное время ушло на дорогу туда и обратно с перерывами на посещение туалета и ночлег. А два дня в Риме – две длинные автобусные экскурсии по городу с достопримечательностями справа-слева и в зеркале заднего вида, шесть трапез с запретом на разговоры, две ночевки (отбой ровно в десять) в католическом интернате, где уже в девять, после пересчета поголовья учеников, запирали ворота. Две так называемые кульминации: набор добровольцев в ученический хор, чтобы поспешно отрепетировать «О глава в крови и ранах» из баховских «Страстей по Матфею», а затем спеть в церкви Санта-Мария Маджоре как дань похороненному там апостолу Матфею. Ученики, по дороге в Рим мечтавшие о хмельной граппе и итальянских ночах, теперь ощущали себя бунтарями, уже когда нарочито громко пели или, наоборот, беззвучно разевали рот и то и дело ухмылялись. В среднем из обеих форм обструкции получалось примерно то, чего хотел Хохбихлер. Вторая кульминация – пасхальное папское благословение на площади Святого Петра. Тут Хохбихлеру удался потрясающий психологический трюк: все ребята должны были держаться за руки, затем, разумеется, чтобы никто не потерялся, но Хохбихлер бормотал что-то насчет потоков духовной энергии, и в итоге кое-кто вправду поверил, что не запаниковал и не упал без чувств, как многие другие на этой площади, в этом плотном, физически прямо-таки грозном людском скопище, на этой жаре, среди чудовищной духоты, потому только, что, держа за руки товарищей, ощутил себя частицей большого, могучего целого.
Хильдегунда пригубила свой бокал, покачала головой и сказала:
– Дорогой мой, ты можешь мне объяснить, почему тогда тоже поехал, хотя незадолго до того перестал посещать уроки религии?
Сплоченное, заговорщицкое единение группы школьников, державшихся за руки в этой немыслимой давке и толкотне, было столь велико, а энергетический ток внутри этой маленькой группы, со всех сторон окруженной растущей массовой истерией, столь силен, что в конце концов, когда профессор Шпацирер начал повторять латинские слова папского благословения, почти все ученики присоединились к нему. И тот, кто сейчас только шевелил губами, вовсе не бунтовал, а просто проморгал автобусные репетиции. И никто не заметил отсутствия двоих – Хохбихлера и Виктора.
Интеллектуальная битва за душу. Почему Виктор отправился в это так называемое паломничество? Именно поэтому. Его заманили на поле, где Хохбихлер хотел провести эту битву на своих условиях и надеялся выиграть. Он пригласил Викторовых родителей в школу, для беседы. Знал, что они в разводе, и догадался послать записку в двух экземплярах – и матери, и отцу. Оба они пришли, Виктор до сих пор помнил то утро, когда его родители аккурат на большой перемене поднялись по лестнице к подъезду и отправились искать учительскую. Заметив его среди одноклассников, мать конечно же послала ему воздушный поцелуй, над чем ребята долго насмехались.
Хохбихлер щедро похвалил восприимчивость и смекалку, таланты и задатки ученика Виктора Абраванеля. Многословно извинился за недоразумение, случившееся на том достопамятном уроке религии. Весьма педагогично и чуть ли не заговорщицки – даже голос понизил – изложил доводы в пользу того, что Виктору необходимо присоединиться к паломнической поездке. Ведь смышленый и ищущий ученик получит возможность проверить свои религиозные чувства. Ему, запоздалому в развитии, но не по годам умному…
– Это твоя формулировка!
– Конечно. Не отрицаю. Все формулировки – мои. Так я представляю себе ситуацию…
…нужно дать шанс уяснить себе собственную культурную и религиозную принадлежность, ибо никто – ни родители, ни учителя – не сделает это за него. И тут ученику Абраванелю требуется опыт, так сказать глубокое духовное переживание… Как бы то ни было, даже лучшие аргументы убеждают лишь по ошибке. Отец Виктора увидел возможность быстро и полностью восстановить шансы на радикальную ассимиляцию, в какой-то момент ненадолго подпорченные, а мать Виктора соблазнилась мыслью, что в течение каникулярной недели, для нее почти целиком рабочей, сын будет под присмотром и в хороших руках. Вдобавок не исключено, что другие учителя тоже сочтут Викторово участие в этой «школьной экскурсии» большим плюсом. Все, что касается Виктора, она неизменно оценивала под одним углом: укрепляет это курс «аттестат – докторская степень – общественная карьера – независимость» или подрывает его. Отец достал бумажник, чтобы немедля оплатить Викторово участие в поездке, – и этот миг Виктор мог представить себе особенно легко. Ведь манера отца расплачиваться произвела на него впечатление еще в детстве и отразилась на его отношении к деньгам. Отец расплачивался, как правило, только крупными купюрами, даже по мелким счетам. Ему явно претило долго копаться в кошельке, доставать разные банкноты, складывать в уме. Будто он не мог. Будто ему трудно. Или… Или будто он полагал, что деньги обременяют, а то и перекрывают непосредственное общение. Выложить крупную купюру и тотчас убрать бумажник. Всегдашнюю сдачу он брал не глядя и, не пересчитывая, совал в первый попавшийся карман брюк или пиджака. Виктор всегда представлял себе, что вечером дома отец опорожнял все карманы и наутро менял кучу мелких банкнотов на одну крупную купюру. Когда отец приезжал в интернат и Виктор просил у него карманные деньги, рассчитывая на полсотни шиллингов, получал он тысячу. Отец доставал бумажник, выхватывал купюру, небрежно, не глядя протягивал ему, прятал бумажник, спрашивал об оценках, а в первую очередь – о футболе. Включен ли он в школьную сборную. Других купюр у отца не было. Имей он купюры помельче, возможно, и навещал бы Виктора чаще. Как бы там ни было, Виктор жутко смущался, когда иной раз в субботу его отпускали к матери и он шел вместе с ней в супермаркет. Как она копалась с деньгами. Как переспрашивала, что означает та или иная цифра на чеке, а потом выуживала из кошелька мелкие монетки, чтобы расплатиться «без сдачи».
В общем, Виктор был продан, его место в поездке забронировано и оплачено.
Мать (католичка по рождению):
– По-моему, хорошо, что ты оплатил Виктору эту поездку в Израиль. Думаю, для него это будет важный опыт…
Отец (еврей):
– В Израиль? Мне казалось, они поедут в Рим. Израиль? Ты уверена?
Мать:
– Рим? Профессор вроде бы говорил насчет автобуса? Тогда, конечно, Рим. Сколько ты заплатил?
Отец:
– Тысячу.
Мать:
– И получил сдачу. Стало быть, наверняка Рим!
Наверняка Рим.
– Может, выпьем по чашечке кофе? – Отец.
Родители пошли в кафе «Кундман» наискосок от школы, но из-за множества прогульщиков, громко демонстрирующих ломку голоса, сбежали оттуда в кафе «Хуфнагль». Расположенное куда ближе эспрессо «Рох» отец, разумеется, проигнорировал. Выпили кофе, потом кампари.
– Не знаю, в чем дело – в тебе или в кофе, но у меня жуткое сердцебиение!
Потом они не спеша отправились по Ландштрассер-Хауптштрассе в сторону центра, неподалеку от мясного магазина Калаля уже шли под ручку. Через Ринг перебежали на красный, в обнимку, выбрасывая ноги вперед как танцоры танго, и поцеловались, когда опасность миновала. Обед в ресторане «Коранда» на площади Луэгерплац. Мать пила вино, расчувствовалась, накрыла ладонью лежавшую на столе руку бывшего мужа, чем он был очень раздосадован: зачем привлекать внимание? Он убрал свою руку со стола.
Она хотела взять стандартный обед, он – заказать блюдо по выбору.
– Послушай, – сказал он, – если ты закажешь стандартный обед, то получишь закуску, плохонькое горячее и десерт, ненужный, потому что будешь уже сыта. А я, заказав фаршированную телячью грудинку, получу превосходное горячее блюдо, которым они тут славятся, но без закуски и без десерта. Разнобой и отсутствие по-настоящему полного удовольствия для нас обоих. Мне бы пришлось смотреть, как ты ешь закуску и десерт, а за горячим ты бы расстроилась, увидев, что подали мне. И стала бы просить попробовать, снова и снова. Хорошенькое зрелище – ты то и дело тычешь вилкой в мою тарелку… Погоди!
Послушай! Я знаю, что говорю, знаю. Так бывало много раз. Предлагаю компромисс: каждый закажет суп и горячее и у тебя останется возможность взять десерт!
– По меню! Сколько это стоит! Стандартный обед с десертом намного дешевле!
– Ну и что? Я же тебя пригласил!
В восемнадцать часов Викторова мать приступила к работе в «Эспрессо-реаль», предшествующие часы она провела не в постели, на вопрос бывшего мужа, не стоит ли им попробовать начать сначала, ответила довольно грубо, не увидела или не захотела увидеть шанс снова забрать Виктора из интерната. Первому попавшемуся приставале в эспрессо бросила «говнюк», имея в виду бывшего мужа.
– Напаивает меня. Раздевает взглядом. Словно я ему девчонка из деревни. Строит из себя важную птицу. Подавай ему все самое лучшее, самое дорогое. А алиментов не добьешься. Попробуй заикнись – он и слышать не хочет. Давай не будем об алиментах, говорит, мне сейчас совсем другое представляется. Представляется ему, видите ли! А меня трясет от злости! Нет, ну надо же: я говорю «алименты», а он в ответ: я, мол, должна к нему вернуться! Он что, всерьез думает, будто я приму жалкие гроши, которые сейчас называются алиментами, под видом денег на хозяйство? И за это он опять будет каждый день получать горячий обед да еще и на уборщице сэкономит. Как бы не так! А вы немедленно уберите руку. Говнюк!
В итоге Виктор отправился в Рим.
Перед отъездом из Орвьето, когда садились в автобус, Хохбихлер придержал Виктора за плечо:
– Погоди немножко!
В общем, Виктор поднялся в салон последним, а когда хотел пройти к задним сиденьям, Хохбихлер снова остановил его.
– Сядешь вон там, – он кивнул на первый ряд, – подле меня. Нам надо поговорить.
Вопросы Хохбихлер задавал с видом заинтересованного и заботливого педагога. Хорошо ли Виктору в школе, а прежде всего в интернате? Скучает ли он по дому? Может, предпочел бы жить у матери? Сильно ли его занимает развод родителей и считает ли он, что они снова сойдутся? Чем конкретно занимается его отец и часто ли посещает религиозную общину? Виктор отвечал односложно: «Да… Терпимо!.. Не знаю». До чего же неприятная ситуация. Временами, когда сзади доносился смех, он с тоской оглядывался. Отчего ему нельзя сидеть с другими? Он все больше съеживался, ужимался и судорожно следил, чтобы вальяжно рассевшийся рядом Хохбихлер не прикасался к нему – ни бедром к бедру, ни плечом к плечу, ни рукой к колену. А как его мать говорит об отце сейчас, после пережитого в таком вот смешанном браке?
– Как это в смешанном? – спросил Виктор. – Отец у меня белый, мать тоже.
Почему усмешка у Хохбихлера всегда какая-то мокрая? Слюни, пот, водка – сухими его губы просто не бывают. Виктору стало противно.
– Смешанный брак, сын мой, это не брак чернокожего с белой, к примеру, а брак между людьми разного вероисповедания. Церковь толкует смешанный брак именно так.
Виктор съежился еще больше. Почему он не мог остаться дома? Целый год в интернате. Потом каникулы. И опять домой нельзя. В поездку вот отправили. Хохбихлер рассуждал о любви. Тут Виктора тем более никто не спрашивает. Долг – любить родителей, даже если… Нет, он не слушал. Просто смотрел перед собой. Ветровое стекло автобуса. Шоссе. Он любил своих родителей, но обсуждать их с сидящим рядом человеком не намерен. И чувствовал, что и родители любили его, хотя, конечно, все время норовили отодвинуть подальше. Эта мысль привела его в замешательство. Он спросил себя, реально ли то, что чувствуешь, или, может, чувствуешь что-то и желаешь, чтобы это было реально? То ли этот вопрос был ему не по плечу, то ли разглагольствования Хохбихлера о любви, уважении и крови слишком его отвлекали, но, так или иначе, он не мог сосредоточиться на этой мысли. Кровь? При чем тут кровь?
– Абраванель, – сказал Хохбихлер, и его потное лицо заблестело от удовольствия. – Не знаю, известно ли тебе об этом имени так же много, как мне. А-бра-ванель! – Он хлебнул из фляжки. Прижал ее к животу, рыгнул, протяжно выдохнул: – Ааааа-браванель… Что ты знаешь о своей семье?
Виктор не понял.
– Ты говоришь по-испански?
– Нет.
– А в семье никогда не говорят по-испански?
– Нет. То есть дедушка с бабушкой знают испанский, по-моему. Во всяком случае, раньше иной раз говорили на нем, когда не хотели, чтобы я понял.
– Родители твоего отца?
– Да. Но мне кажется, это не настоящий испанский. Или не совсем испанский. Потому что папа, стало быть мой отец, все время твердил: не слушай! Язык, на котором они говорят, даже для испанцев сущая тарабарщина. В смысле…
Хохбихлер рассмеялся. Снова хлебнул из фляжки, словно это помогало от тяжелых приступов веселья. Отправил фляжку в карман пиджака и любовно прихлопнул, когда она скользнула на место, после чего сплел руки на животе. Кивнул. Жидкие черные волосы влажно облепили череп, будто их только что нарисовали тушью.
– Староиспанский, как бы испорченный, так сказать. Да-да. Знаешь…
– Но мой отец прекрасно владеет английским. Свободно. Он вырос в Англии. Тогда…
Тыльной стороной руки Хохбихлер утер рот и нетерпеливо отмахнулся:
– И о происхождении вашей семьи никогда не говорили? О предках?
– Нет. О каких предках? – Виктор же только что рассказывал о дедушке с бабушкой, ведь это и есть предки.
– Я расскажу тебе одну историю. Твою историю. Реальную историю. По сути, это действительно часть истории. Да, – новый глоток из фляжки, – Абраванель…
– Да?
– …это имя одного из самых значительных еврейских, или тайноиудейских, семейств раннего Нового времени. Честно говоря, мне кажется весьма маловероятным, чтобы носитель такой фамилии не был связан происхождением с этой семьей. – Пауза. Затем возглас: – Пример! – Хохбихлер вновь полностью стал учителем. На уроках он никогда не говорил «например», только «пример!». Если следовали другие примеры, выкрикивал «пример два!» и «пример три!». И всем надлежало записывать. В тетрадях учащихся должны царить порядок и наглядность. Хлопок по боковому карману. – Исаак Абраванель. Не просто один из крупнейших толкователей Библии своего времени, но и казначей – ныне сказали бы: министр финансов – испанского короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Как таковой, именно он, разумеется, способствовал тому, что испанская корона в конце концов финансировала экспедицию Христофора Колумба. Человек универсально образованный и дальновидный. Теории итальянского космографа Тосканелли и античные карты он знал ничуть не хуже, чем Библию. И, занимая при испанском дворе пост министра, весьма рано понял, что для их католических величеств изгнание евреев лишь вопрос времени. Быть может, он вправду считал возможным открытие Западного пути в Индию, а быть может, думал еще прагматичнее: что бы Колумб ни открыл, для евреев это в любом случае будет лишний путь бегства. В тысяча четыреста восемьдесят четвертом или восемьдесят пятом, точно я уже не помню, в общем в середине восьмидесятых, ему удалось убедить Изабеллу вложить деньги в этот проект. А когда в тысяча четыреста девяносто втором подготовка была завершена и Колумб мог выйти в море, все это вдруг совпало с королевским ультиматумом, требующим, чтобы евреи покинули Испанию. За минувшие годы Исаак Абраванель конечно же успел превосходно подготовить собственный отъезд. Уже за несколько дней до оглашения ультиматума его и след простыл. Мало того, он исподволь подготовил и бегство сотен своих единоверцев, не только спасение жизни, но и спасение капиталов. Ты гордишься своей фамилией, слыша такую историю?
– Не знаю, в смысле, я же понятия не имею обо всем этом и… – Виктор стушевался. Хохбихлер что же, всерьез говорит о его происхождении, но к чему он клонит? С другой стороны, Виктор жалел, что не придержал язык, ведь одно он уж точно усвоил. Взрослых, задающих риторические вопросы, разочаровывать нельзя. В данном случае, разумеется, надо было сказать, что он гордится, поскольку Хохбихлер, очевидно, ждал именно этого. И он быстро добавил, сипло и почти невнятно: – Да. Конечно!
– Послушай-ка, Абраванель! Возможно, тебе это знакомо, или скажем так: возможно, ты способен лучше постичь это: дон Исаак Абраванель был полон противоречий, двойствен. Еврей по происхождению, он жил в католическом обществе, причем знал его так хорошо и обращался с ним так умело, что сделал весьма блестящую карьеру. Занимаясь Библией, разумеется Ветхим Заветом, он, однако, не выставлял свое еврейство напоказ, не в пример евреям-ортодоксам с их пейсами. Его трактовка Притчей Соломоновых или комментарий к Книге Иова по сей день признаны в христианском мире и изучаются, скажем, в иезуитских школах. А как политик он, что ни говори, был человеком вполне светским, искушенным, прагматичным. Будучи государственным деятелем, внес значительный вклад в развитие и укрепление первого современного централизованного государства… и в точности отдавал себе отчет, что означает: одно государство, один народ, одна религия. Испания, испанец, христианство. Кем же был этот ассимилированный еврей? Евреем? Или он уже настолько ассимилировался, что фактически стал христианином? Христианином, которому недоставало лишь одного, а именно крещения? Почему он не мог перебороть себя и сделать этот шаг, который напрашивался сам собой и обеспечил бы ему продолжение и кульминацию жизненного счастья? Ты скажешь…
Виктор обратился в слух. Ведь сам он понятия не имел, что мог бы сказать.
– Ты скажешь, что дон Исаак был правоверным евреем, потому что, когда евреям пришлось покинуть Иберию, он уехал вместе с другими. Куда? В Венецию. Но там не сидел в гетто, а в кратчайшее время стал одним из богатейших коммерсантов города. В Испании ему понадобилось почти восемь лет, чтобы финансировать три Колумбовых корабля, в Венеции он уже примерно через три года владел пятнадцатью кораблями, которые, нагруженные товарами, бороздили для него океаны. Он был так богат, что мог купить себе в Венеции право свободного выбора местожительства, за пределами гетто. Правоверный еврей? Почему же он тогда выкупился из гетто, где обитали единоверцы? Уехал вместе с евреями, а поселился опять среди христиан, опять занял центральное место в христианском обществе, был запросто вхож к дожу. Что же это за человек?
Я не знаю. Это история. Я о ней ничего не знаю. Почему Хохбихлер, выпив немыслимое количество водки, не падает без чувств?.. Виктор не сказал ни слова.
Потом они долго молча сидели рядом. Хохбихлеровская фляжка опустела. Теперь он время от времени вынимал из кармана белый платок и вытирал им лицо и волосы. Платок отсырел, а лицо сухим не стало.
– И ты все запомнил? Всю историю про этого, как его, Исаака?
– Нет, конечно. Запомнил я ровно столько, чтобы после разыскать ее и перечитать. Ну, в смысле, фамилию дона Исаака запомнить было несложно. К тому же иные истории, которые мы слышали в семнадцать лет, запоминаются нам – и тебе, конечно, тоже – куда ярче, нежели те, что дошли до нас в тридцать или в тридцать пять. Или нет?
– Ну, я не знаю.
– Я тоже.
Хохбихлер словно бы задремал. Потом вдруг посмотрел на Виктора, красный, потный, и выкрикнул:
– Пример два! Дон Иехуда Абраванель. Сын Исаака. – Хохбихлер достал из кармана фляжку, хотя знал, что она пуста. Он даже открывать ее не стал, просто встряхнул возле уха, а потом велел водителю остановиться на ближайшей автостоянке: перерыв на посещение туалета! – Дон Иехуда, сын дона Исаака. Однако уехал он со своими детьми не в Италию, а в Португалию. В Лиссабон. Что в принципе логичнее. Как многие евреи, когда к власти в Германии пришел Гитлер, сперва направлялись в Австрию. Иехуда был врачом, но знаменит по сей день как философ и поэт. Автор «Dialoghi di атоге», «Диалогов о любви». Уже в тысяча четыреста девяносто седьмом году это произведение считалось современной классикой и пользовалось мировой известностью. А всемирно известный автор в этом самом тысяча четыреста девяносто седьмом году вместе с сотнями других евреев оказался загнан в церковь Носса Сеньора ди… не помню, как дальше, во всяком случае, это был один из лиссабонских соборов… и стоял перед выбором: крещение или смерть. Такую уступку сделал испанской короне португальский король Мануэл, тодашний Шушниг. Разумеется, без особой пользы, Португалию позднее присоединили-таки к Испании, но все равно. В общем, дон Иехуда с женой и детьми стоял в этом соборе, а потом… знаешь, что произошло потом?
Виктор даже рот открыть не успел, чтобы сказать «нет», Хохбихлер уже рассказывал дальше:
– Евреи в соборе, сотни евреев, начали душить собственных детей, а у кого были ножи, те убивали детей ударом в сердце или в сонную артерию, лишь бы избавить их от позора насильственного крещения. Плача и рыдая от боли, они бросались затем на своих жен, душили их или закалывали, после чего убивали себя. Очевидцы впоследствии сообщали, что в эти мгновения воспевались Господу самые изумительные хоралы, какие когда-либо звучали в церквах. Пролитая кровь якобы семь лет и девять дней противилась всем попыткам удалить ее с церковного пола. Семь и девять имеют какое-то значение в иудейской каббалистике. Но что сделал твой предок дон Иехуда Абраванель? Рука об руку со своими детьми и женой он пошел вперед, к алтарю, распевая христианский Символ веры, перешагивая через мертвых и умирающих, с песней пошел вперед, чтобы радостно – так гласит предание, – радостно принять таинство крещения. Явив готовность принять крещение, великий дон Иехуда, вероятно, спас жизнь десяткам евреев. Ведь, по преданию, они остановились и мало-помалу один за другим последовали его примеру. Так или иначе, он спас себя и свою семью, и чуть ли не до конца восемнадцатого века имя Абраванель снова и снова всплывает в истории, почти в каждом поколении, то это философ, то поэт, государственный муж, врач, коммерсант, то раввин и даже кардинал – в Лиссабоне, Александрии, Стамбуле, Амстердаме, Венеции и Бог весть где еще. Абраванели рассеялись по всему свету, всюду приспособились, ассимилировались, но тем не менее всегда оставались – как бы это сказать? Выдающимися? Отличимыми? Ну, ты понимаешь. Двойственными. Всегда крещеными. И всегда этот фетиш: по происхождению евреи. Фетиш. Почему не принять мир, тот мир, где тебе сопутствует успех, таким, каков он есть? Принять Мессию. Ведь евреи ждали именно его. И он пришел. Зачем же всегда желать всего разом, Абраванель? Спасенного мира, карьеры, счастья, христианства и древнего Закона, Стены Плача, верности крови, речь-то не о крови, а о душе, духе, вере! И… – Хохбихлер устал, говорил совсем тихо, с закрытыми глазами, а Виктор неотрывно смотрел вперед, в ветровое стекло, и слышал фразы Хохбихлера как внутренний голос. – В Риме. У меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз.
Хохбихлер, кажется, задремал. Виктор смотрел в пространство перед собой, сквозь лобовое стекло автобуса. Что за сюрприз? Они приближались к Риму. Въездные магистрали, предместья, все более оживленное движение. Виктор ожидал увидеть развалины, только античные, не современные, не разрушающийся бетон, не ржавую сталь, не кучи мусора, не кладбища автомобилей, не леса телевизионных антенн на обветшалых краснокирпичных людских термитниках. Он ожидал увидеть край, где цветут лимоны, но там, на потрескавшемся бетоне, пылились лишь чертополох да жгучая крапива. Виктор испугался. Почему? Может быть, потому, что мир за пределами интерната совсем не походил на тот, каким его изображали в интернате или описывали в книгах, которые он столь фанатично читал в интернате, чтобы иметь возможность покинуть оный. Рим – это священный город, и не только для католиков, но прежде всего для учащихся гуманитарной гимназии. А может быть, и потому, что у него из головы не шел рассказ Хохбихлера, история, внезапно накоротко сомкнувшая его с еще одним миром, которого он вообще не знал, даже в таком стереотипном, сомнительно идеализированном и ограниченном виде, в каком представал перед ним мир, изучаемый в школе. Рим. Нет. Вопрос был о жизнеспособности. Виктор подумал именно так: жизнеспособность. А испугался потому, что будущее внезапно показалось ему совершенно безнадежным: когда двери интерната откроются и выпустят его на свободу, он не сумеет вести себя в мире как человек искушенный, знающий, кто он такой, где находится и чего хочет.








