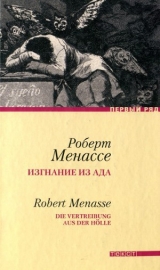
Текст книги "Изгнание из ада"
Автор книги: Роберт Менассе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
«Почем ты знаешь? Что он еврей?»
«Мы знаем. Потому что умеем читать. Нам пришлось научиться заглядывать за буквы и под маски людей. И теперь ты должен тоже пройти эту школу, братишка!»
Эсфирь стянула с головы платок, встряхнула волосами, которые вдруг окружили ее голову львиной гривой.
«Стало быть, пользуйся громкими словами, только если имеешь в виду нечто иное, – сказала она. – Научишься?»
«На то воля Божия!»
«Это уже куда лучше, сударь!»
Прощание. Эсфирь поцеловала Мане.
– Доставь родителей следом! – прошептала она. – И не бойся. Мертвых умертвить невозможно!
Мануэл понял, или ему показалось, что понял.
– Ну?
– Клянусь загробной жизнью! – бодро проговорил он.
– В это мы верим, на это полагаемся! – сказала Эсфирь, а затем строптиво вскричала: – Слыхали, христиане? Мы веруем в загробную жизнь! – И расхохоталась. А секунду спустя стала сестрой-монахиней и ушла своей дорогой.
Остались мужчина, женщина, ребенок – это не семья? Они не привлекут внимания, в двух, в трех, четырех днях езды от Лиссабона? У них в распоряжении еще восемнадцать дней. Каждый замысел, каждая идея, каждый план, который сразу оказывался невыполнимым, стоил им одного дня. Или двух. Не было у них шанса.
Кому удавалось попасть на корабль, тот вытягивал счастливый билет. Корабли плыли на волю. В Новый Свет. Причаливали в чужих краях, где действовали иные законы, в гаванях, где чужаки не бросались в глаза и не вызывали подозрений, поскольку там было великое множество чужаков из разных стран. Для коренных обитателей больших портовых городов ничего нет привычнее чужаков. Мануэл грезил о гаванях, меж тем как отец тратил дни на поиски способа попасть на корабль. При мысли о рае Мануэлу представлялось только одно: гавань в другом мире. Чужаки, не привлекающие внимания, люди без страха. И буквы со всеми возможными значениями, за исключением буквального. Это так смущало его, так возбуждало, что он едва мог заснуть. И пока он размышлял в своей постели, молодые люди где-то в далеком портовом городе пели: «Никогда и никто не увидит, как мы жаримся в аду!» И это не означало, что они намерены вести христианскую, особенно богоугодную жизнь – хотя христиане трактовали это именно так, – просто они знали: ада нет. Потому их там и не увидят. И рая тоже нет, разве только мы создадим его здесь и сейчас. Тогда бы это действительно было… действенно. Так много значений. Так мало действительности.
– Возьми меня с собой! – сказал он однажды утром отцу, ищущему лазейку.
Матросов требовались тысячи. Но Гашпар Родригиш не смог даже более-менее близко к кораблям подойти. Флоту его величества требовались мужчины, которые и с такелажем управляться умели, и пушки ловко обслуживали. Для войны с повстанцами, с Соединенными Провинциями Нидерландов, снаряжались все новые корабли. После сокрушительного поражения Непобедимой армады, посланной против Англии, кораблестроение имело абсолютный приоритет. Огромные леса на этом берегу Тахо и в Кастилии, Эстремадуре и Леоне превращались в степи, потому что каждый бук, каждый дуб, каждый каштан рубили на постройку кораблей. Лесничие, пастухи, крестьяне становились рабочими на верфях и в доках, их сыновья – ремесленниками, парусными мастерами, медниками, литейщиками и плотниками. Странствующие батраки шли в матросы, земли пустели от усилий завоевать новые страны. Черная одежда женщин, сидевших на лавках у своих мертвых домов, стала национальным костюмом. Корабли! «Я хочу, чтобы каждый час спускали на воду новый корабль!» – повторяли в народе слова Филиппа, короля католиков, которые все, что имели, должны были в двойном размере отдать державе. Для этих кораблей, а также для кораблей, охранявших эти корабли. Каждому торговому судну требовалось сопровождение военных кораблей, с тех пор как англичане и голландцы оспаривали у испанцев мировую торговлю. Потом корабли в Новый Свет. Конкиста. Нужно было строить флоты, чтобы возить через океан золото, которое требовалось короне с той поры, как ее министры финансов и бухгалтеры сгорели на кострах. Теперь ежедневно сгорали в огне корабли короны… Один корабль потоплен – три новых! Каждый час – новый корабль! Матросы! Всем этим кораблям требовались матросы, и каждый молодой мужчина, желавший покинуть эту умирающую или смертельно опасную страну, знал: торговое или экспедиционное судно – это спасение. Оно покидало родную гавань – и ты на воле. В каком бы порту судно ни оказывалось – в Глюкштадте, в Ресифи, в Гамбурге, Венеции или Сантьяго, – тот, кто сходил на берег, уже через несколько шагов исчезал в портовой толкотне и суматохе, был свободен.
Потому-то доступ в гавани и запрещали, не подпускали людей к кораблям. Возводили толстые стены, защитные укрепления, тщательно охраняемые ворота, куда не войдешь без protocollo de limpieza,без справки, что ты чист кровью и что Священный трибунал не возбудил против тебя расследование, что за границей у тебя нет родни, а в стране все твои родичи – христиане как минимум в четвертом поколении. Властителю правоверных католиков, божеству христианского мореплавания, требовались матросы, но никто почти не имел возможности ступить ногой в гавань, хотя бы увидеть корабли. Кораблям требовались матросы, мужчины, но для мужчин в портовых городах полуостров словно отрезали от моря.
Часами и целыми днями Гашпар с сыном бродили возле гавани, возле портовых сооружений, стен, ворот со стражей. Добирались до Белена, Сан-Антониу, Кашкайша. К морю доступа нет. А где доступ есть, нет кораблей. Только мелкие суденышки. У иных рыбаков глазной белок покраснел-пожелтел от жадности, больно зарились они на деньги отчаявшихся, что просили «вывезти» их. Заплатили за рейс не дальше того, насколько хватало возможностей утлого суденышка. В конце концов рыбачьи лодки возвращались, а беглецы получали последний урок: им недоставало не только веры в Иисуса Христа, но в первую очередь жабер.
– Нет смысла, сеньор! – Еще тринадцать дней. Мане посмотрел на отца. Даже если они сумеют пробраться в порт, хитро проникнут за стену, даже если найдут судовладельца, который не спросит документов, даже если у них будет время забрать и мать, даже если удастся второй раз самим вместе с матерью просочиться через все рогатки, даже если хватит денег, чтобы за все заплатить, – этот мужчина, его отец, со сломанным правым плечом и искалеченной рукой, все равно не моряк и не дворянин. Ему не выдать себя ни за члена команды, ни за благородного пассажира.
Подделать документы, подкупить стражников – на это уйдет целое состояние, но самое позднее после «приемки» корабля, последней проверки перед выходом из гавани, они бы угодили в тюрьму. Все напрасно. Еще двенадцать дней. Сеньор, поймите же, все напрасно!
Оставался только путь посуху. Двенадцать дней езды в карете с хорошими лошадьми. А времени еще одиннадцать дней. Десять дней.
Необходима карета. Пара лошадей. «Легенда», хорошая маскировка. Чистые документы. Еще девять дней родителям не нужно отмечаться у священника. Преимущество перед погоней, на которое они надеялись, таяло, они по-прежнему были в Лиссабоне. Гашпар Родригиш и его сын Мануэл исходили город вдоль и поперек, будто спасение – некая вещица, которую они потеряли и теперь в надежде отыскать ее бродили по городу. Может, она вон там? Может, найдется вот здесь? Вы не видали? Как она выглядит? Не знаем!
Да нет, как раз знаем, думал Мануэл, спасение – оно из бумаги. Чистые документы. Вместе с отцом он, выбившись из сил, сидел на праса Ампла, на площади, где в тот день, когда он родился на свет, состоялось большое аутодафе. Теперь деревьев здесь не было, платаны вырубили. Ни пятнышка тени. Может, позднее, когда солнце опустится чуть ниже, деревянный навес над колодцем отбросит небольшую тень, но пока что тень навеса падала лишь на сам колодец, тогда как люди, сидевшие на его ступенях, потели с закрытыми глазами на полуденном солнце. Город. В сущности, летом этот город – огромная туча пыли. Густая пыльная мгла – люди появлялись из нее и снова в ней утопали. Каждый шаг пешехода поднимал вихри пыли, не говоря уже о благородных всадниках, даже если кони шли шагом, однако иные пересекали площадь рысью, устраивая прямо-таки пыльную бурю. Вдобавок кареты, запряженные четвериком, а то и шестериком лошадей, пыль от одной не успеет улечься, как уже подкатывает следующая. Воздух плотный, тяжелый, горячий. В иезуитской школе, пытаясь представить себе жизнь «вне стен», Мане много чего воображал, но даже самые смелые его фантазии не могли сравниться с тем, что он здесь видел: все эти loucos [35]35
Сумасшедшие, юродивые (порт.).
[Закрыть],все эти диковинные люди, обитавшие в центре города; некоторые кричали, без видимой причины, по крайней мере, Мане не видел товаров, какие они предлагали, были здесь и горланы, произносившие речи, слова «ад», «муки», «мрак», «раздумья», «обращение» и «спасение» громыхали над площадью; другие разговаривали сами с собой, слонялись без цели туда-сюда и, размахивая руками, рассуждали о чем-то; вдобавок нищие с музыкальными инструментами и без оных, фигляры – зрелище не для слабонервных! Люди без зубов, это еще куда ни шло, однорукие, одноногие на костылях, совсем безногие на тележках, они безостановочно отталкивались руками от пыльной земли и катили дальше, крича, хихикая. Комесушский старикан с песочными часами был единственным в городе юродивым, здесь же их поистине легион. Ба, даже безголовые… хотя нет, они просто низко опустили голову, втянули ее в плечи и так спешили сквозь тучи пыли. Священники и монахи в белых, коричневых, черных рясах, всегда группами, выходили из пыльной стены, которая тотчас снова их поглощала; дворяне в роскошных красных плащах, горожане, чьи лица меж черными плащами и черными шляпами казались ярко-красными, под цвет каретных занавесок. Почему у всех карет красные занавески? Горожане то и дело взмахивали тростями, дворяне – шпагами, рассекая пыльную стену, прежде чем сделать шаг, ребятня бросалась врассыпную, попрошайки кричали, пощады, пощады, сударь! Возле попрошаек лежали аркебузы, штыки или сабли, которые они иной раз поднимали вверх и вертели над головой: вот этим оружием они застрелили, закололи, зарубили столько-то неверных, во славу города Лиссабона и христианской державы, медяк ветерану, герою христианства, подайте, сударь! А их истории, их жуткие рассказы.
– Откуда ты, мальчик? Из Комесуша? Да ну? Мой отец, торговец, забрел туда однажды, так его, знаешь ли, убили уличные грабители!
И собаки. Сколько их тут. Мане не мог отделаться от ощущения, что из каждой собаки, получившей пинка от прохожего, выскакивают три-четыре новых, исчезают в пыли и тотчас с лаем выбегают снова, в еще большем количестве.
Мимо колодца прошла дама, она прижимала к носу платок, так крепко надушенный, что Мане, учуяв запах, начал кашлять и плевать. До чего же колючая пыль на этой площади.
Как вдруг над Мане склонилась потная, грязная физиономия, мальчик замер, ему казалось: еще одно движение – и щетина этой физиономии оцарапает щеку. Жесткая терка, перепачканная жиром и соплями, чуть приоткрытая щель рта.
– Спокойно, парень, – сказала физиономия. – Спокойно! – Беззвучная ухмылка, грязные сопли текут из носа. – Болван рядом с тобой дрыхнет! Погоди! – Человек вырямился, он вытащил деньги из отцовского кармана, бросил монетку Мане. – Эй! Это тебе. Хлеб на неделю!
– Сударь! – сказал Мане, растерянно. Что он хотел сказать? Он хотел сказать…
– Слышь! Такой, как ты, мне бы пригодился. Пойдешь со мной? Научу обчищать миру карманы!
Мане помотал головой, толкнул отца, схватил за плечи, встряхнул…
– Но-но! – сказал человек. – Эй ты, дурень! – Он отпрянул, скрылся из виду. Как огромная черепаха, каждый шаг бросал его торс вперед, три, четыре шага, и он исчез. Туча пыли. Утонувшая в пыли, из которой выскочили собаки.
Мане посмотрел на отца. Тот хрипел, раскачиваясь вперед-назад. Склоняясь вперед, поначалу медленно, ниже, ниже, он выдыхал воздух, который с сиплым свистом вырывался изо рта. Затем вдруг резко вздрагивал, выпрямлял спину – просыпался? Нет. Рот открыт, щеки дрожат, потом он закрывал рот и снова, хрипя, склонялся вперед.
«Доставь родителей следом!» Да. Но как? Нет у них ни единого шанса. Есть ли у отца дома еще деньги? Или они теперь дочиста ограблены и созрели «для тележки»? Так говорил отец: «Не стану я до конца своих дней ходить в saco bendito,лучше отрежу себе ноги и сяду на тележку!» Ветеран войны за веру мог рассчитывать на большее подаяние, чем еврей в желтой рясе.
Фокусник. Волшебник. На площади вдруг расстелили ковер. На нем стоял деревянный сундучок. А рядом – какой-то человек. Он кричал. Вскинув руки над головой. Пальцы так и порхали.
– Монетку! Всего одну монетку, сударь! Славному христианину. Всего одну монетку – и я выполню ваше желание!
– Отстань, нет у меня ничего! – буркнул прохожий, к которому подступил было этот попрошайка.
– Почему это вы говорите так невнятно? – Фокусник обхватил рукой лицо прохожего, нажал на щеки, прохожий разинул рот, шустрые пальцы нырнули туда и в два счета – никто и ахнуть не успел! – извлек монетку, блеснувшую в пыльном свете. – Сказал, нет у него ничего! – Он взмахнул рукой, показывая монету всем вокруг. – Господин хороший запамятовал, что спрятал монету под язык!
Смех, люди останавливались:
– Под язык! Ничего себе!
Опять смех, теперь фокусника обступила публика.
– Скажи, как же ты жену-то целуешь? – крикнул он, народ засмеялся. – Вместо языка монету ей в рот толкаешь, что ли?
Улюлюканье. Ошеломленный прохожий стоял как вкопанный, и не успел он оглянуться, как фигляр присосался к его лицу, тотчас отпрянул в преувеличенном ужасе, будто его сию минуту стошнит, прижал руку ко рту, сунул пальцы внутрь, вытащил – и в самом деле, между пальцами опять блестела монета.
– Поверить не могу, этот человек целует деньгами, а не языком! Гляньте! Один поцелуй – и я могу целый месяц кормить своих детишек! Этот добрый человек понял весть! Поцелуй меня еще разок, – сказал он, – нынче я найду свое счастье!
Выпятив губы, он устремился к прохожему, тот отпрянул, повернулся, сделал два-три шага и припустил бегом, да как! Собаки ринулись вдогонку. Фигляр шлепнул по заду какую-то старуху:
– Беги за ним, добрая женщина, поцелуй его, поцелуи-то у него золотые!
Старуха хохотала до слез. Чуть последние зубы не проглотила от смеха.
– Чего только не бывает, когда идешь на рынок! – вскричал фигляр. – Жена говорит: ступай на рынок, купи яиц, яйца нужны к ужину, а что я получил? Поцелуи мужчины да две монеты! Монеты на сковородку не разобьешь! Не поджаришь и детей ими не напитаешь! Не-ет. Мне нужны яйца. Кто продаст яйца? И чтоб жене моей ни слова про давешние поцелуи! Эй ты, у тебя есть яйца? – Фокусник схватил одного из мужчин в публике между ног и с восторгом поднял вверх куриное яйцо: – Отличное яичко, вот жена-то моя обрадуется. Спорим, у тебя и второе найдется!
Мужик бросился наутек! Улюлюканье, гогот.
– Эй, напрасно ты этак смеешься! На твоем месте я бы поостерегся! – крикнул фокусник, цапнул жертву за штаны и поднял вверх перепелиное яйцо. – Гоготать горазд, а яйца – мелочь! – гаркнул он в громовой хохот, все так же поднимая вверх яйцо. – Моей жене это не понравится!.. Ну его, лучше пусть пропадет. Чего проще! Из полупшика полный пшик! – В руках вдруг стало пусто.
Мане, открыв рот, смотрел на фокусника: тот засунул одному из зрителей яйцо в левое ухо и вытащил из правого; бросил яйцо наземь, а оно, не долетев до земли и не разбившись, вдруг упало с неба, и он ловко его поймал; подбросил яйцо вверх – их стало два, подбросил снова – стало три, четыре, пять, шесть, он жонглировал этими яйцами, а потом вдруг раз! – руки пустые, нет яиц, исчезли.
– Господи, что же я жене-то скажу?
Мане встал, подошел ближе. Представление закончилось, зрители расходились, фокусник скатал ковер, выбирал теперь монеты из шляпы, и тут Мане дернул его за рукав:
– Эй, волшебник!
Тот посмотрел на мальчика сверху вниз, дал ему мелкую монетку из шляпы.
Мане бросил монетку назад в шляпу и сказал:
– Раз ты умеешь колдовать, наколдуй чистые документы. Для меня, для моего отца и для матери. Чистые документы.
– Документы? – сказал фокусник. – Не могу я их наколдовать! – Потом он посмотрел на мальчика, долго смотрел и наконец проговорил: – Зато могу наколдовать человека с документами! Человек с хорошими документами все равно что собственные документы! Запомни, что я тебе скажу. Запомни каждое слово!
На следующий день они обзавелись almocreve.Помощником, подручным. Человеком с чистыми документами. С легендой, под которую не подкопаешься.
Если все пройдет благополучно, у них еще останется шестьдесят мильрейсов, чтобы начать Новую Жизнь. Если все пройдет благополучно. Впереди двенадцать дней. Восемь дней. Но шансы велики. Нужно только прикинуться мертвыми. Буквально. На пути к воскресению. Уже через день началось путешествие. В одном гробу лежал отец, в другом – мать, в третьем – Мане.
Человека с документами, под которые не подкопаешься, звали Афонсу ди Синтра. Коренной христианин, женатый, по профессии гробовщик. Он должен был доставить заказ. Когда повозка проезжала через деревню или на дороге встречался путник, отец, мать и сын загодя ложились в гробы, пока стук сеньора Афонсу снова не вызволял из оттуда. Так шли дни, вполне благополучно. Они покинули ближние окрестности, покинули округ, покинули провинцию.
В гробах лежали евреи, а народ на обочине осенял себя крестным знамением.
На волю. Они получили аттестаты зрелости и покинули школу. Не оглядываясь. Кто-то (Эди?) предложил пойти вместе выпить чего-нибудь, в честь такого дня. Но никто не откликнулся. Или все-таки?
– Не помню. Я, во всяком случае, не пошла. – Хильдегунда.
– И я тоже!
Виктор не видел повода начинать первую минуту свободы с сентиментальной ретроспективы. Он в ретроспективах не нуждался, без того хорошо помнил, что происходило на пути к этому аттестату. А эмфазы вроде: мысправились, мыпробились, мыим показали и мыеще покажем всему миру, – подобное чувство общности было бы верхом фальши. В этом классе каждый боролся за выживание в школе, за выпуск сам по себе и против других. Изначально исковерканные разрушительной идеологией survival of the fittest [36]36
Выживание наиболее приспособленных (англ.).
[Закрыть], которую учителя возвели чуть ли не в ранг закона природы.
– Извини, но немецкая формулировка этой идеологии просто нейдет у меня с языка!
Двадцать девять учеников начинали в этом классе, в итоге выпустились семнадцать. И вот кара: они были отнюдь не the fittest,скорее уж самыми измученными, самыми изломанными и по-человечески совершенно разрушенными, более всего сравнимыми с измученными учителями.
– Ты несправедлив. Некоторые потом вправду оказались очень даже fitи сделали впечатляющую карьеру…
– Для меня человеческая fitnessвключает и солидарность…
– Восхитительно! По тебе все время отчетливо видно, в какие годы ты учился в университете!
– В те же, что и ты. О, я понимаю! Прошлогодний снег. Ты ведь жена учителя религии. Разумеется, чрезвычайно современная точка зрения: верность… Папе Римскому упраздняет старомодное понятие солидарности!
– Нет. Но я заменила его милым, маленьким, извечным понятием «любовь к ближнему». Алло! – окликнула она таксиста. – Сделайте музыку опять погромче! Даже если вам охота послушать нас – мы хотим слушать музыку!
Центробежная сила. О! Поворота тут в помине не было!
– Виктор, что ты, собственно, изучаешь? – Дедушка.
Он решил изучать историю, а вдобавок требовалась побочная специальность. Первым делом он подумал об испанском. После пасхальной поездки с профессором Хохбихлером он взял в школьной библиотеке лангеншайдтовский учебник испанского и с тех пор дважды его проштудировал – сам еще о том не зная, он был специалистом по диалектической логике: вернувшись из Рима, выучил испанский. В конце английского лета подарил швейцарский ножик…
Но испанский – это не специальность. Специальность называлась «романская филология».
А насколько он понял консультантов, ему бы пришлось сражаться со всевозможными романскими языками, в первую очередь с французским, при полном отсутствии базовых знаний. Он наведался в Институт романской филологии, где немедля очутился среди студентов, закончивших гимназии с ориентацией на современные языки, то есть учивших французский еще в школе, и даже среди чванливых экс-лицеистов, которые презрительно смотрели на всех, кто имел хотя бы малейший акцент.
Нет. Он потеряет не один семестр, стараясь просто наверстать отставание в языке, на котором ему почти нечего сказать, как и на родном языке. Разве что сможет когда-нибудь продемонстрировать, как этот язык функционирует. Виктор выбрал германистику, обычную комбинацию с историей. Почему бы и нет? Там, думал он, можно узнать, как работали великие писатели. Это ему пригодится, когда он будет писать свои исторические работы. Ведь историк Теодор Моммзен получил Нобелевскую премию по литературе, верно?
Слово «германистика» дед не поймет, подумал Виктор. И сказал: немецкий язык. Он изучает немецкий и историю.
– Ты изучаешь немецкую историю? Долли, ты слышала? Твой внук изучает немецкую историю! Весьма поучительная область знаний! – Он рывком повернул свое кресло, так что уже не смотрел на Виктора, и сказал бабушке: – Будь добра, спроси у него: раз уж он изучает историю, то почему не мировую? Или он решил, что существует только немецкая история? Я бы вот с удовольствием обошелся без того, что пережил от немецкой истории!
– Да нет же, дедушка! Не немецкую историю, а немецкую литературу и историю!
– Слушай внимательно, Рихард! – Бабушка. – Он сказал: историю немецкой литературы!
– Историю немецкой литературы? Еще меньше, чем немецкая история! Стало быть, он желает изучать не что произошло, а только что написано? Притом что написал Шекспир, он знать не хочет, и что Сервантес написал, читать незачем, и без Достоевского можно обойтись? Хорошее образование, ничего не скажешь! Когда массу всего нечитаешь! И за это нынче дают докторское звание?
– Дедушка, ты неправильно понял! Я изучаю немецкий и историю! И Понимаешь? Немецкий – это одна специальность, история – другая!
– Неужели непонятно, Рихард? Послушай! Он изучает немецкий. И…
– Отстань, Долли! Я все прекрасно понимаю! А лучше бы понимал не так хорошо! – Дальше последовал дедов фокус: слезные мешки у него набухли втрое. Он положил ногу на ногу и печально покачал головой. – Твой внук – честолюбец! Решил изучать то, что уже знает. Немецкий. Родной язык! – Он устало повернулся к Виктору, посмотрел на него. – Скажи-ка, Виктор, золотко, Эйнштейн, к примеру, изучал свой родной язык? И помнят его потому, что говорят: никто не владел так хорошо, как этот Эйнштейн, тем, что мы и без того знаем, а именно нашим родным языком?
– Дедушка! Я изучаю историю! Хочу стать историком. Буду исследовать минувшие эпохи и писать о них…
– Пойми, наконец, Рихард! Он изучает мировую историю, а пишет об этом конечно же по-немецки, потому что немецкий – его родной язык! С каких пор ты оглох?
– Ах, Долли, отстань!
– Виктор, скажи ему, что я поняла тебя правильно! По крайней мере, твоя бабушка поняла тебя правильно, верно?
– Да, бабушка.
Студентом он на первых порах жил у матери. Она даже купила своему студиозусу письменный стол. Но очень скоро выяснилось, что необходимо как можно быстрее найти собственное жилье. Не только потому, что мать и сын толком не могли защитить друг от друга свою личную сферу, ведь книгодержателей больше не было, – к примеру, как Виктор мог перед сном онанировать, если рядом с кроватью нет стены из коробок? Нет, достаточно назвать хотя бы парфюмы, а еще затрещины. Во-первых, парфюмы. Мать Мария обожала французские парфюмы. Вдобавок «биде». Парфюмы и биде для нее, дочки провинциальной лавочницы, для женщины, которая, вечно напрягая мышцы, старалась устроить в городе свою жизнь, были воплощением образа жизни, совершенным символом городской ухоженности, удачным симбиозом будней и роскоши, приватной исторической целью биографии, каких в обществе легионы. Но биде пока подождет. Она купит его, когда сможет заняться полным переоборудованием ванной. Если она позволит красивую плитку… нет! Что касается потребительских усилий, она, чтобы соответствующим образом выразить скрытую там объективную силу, обычно опускала возвратное местоимение, – так вот, если она позволит красивую плитку и красивую этажерку со шлифованным зеркалом, тогда позволит и биде, а потом конечно же еще и удобные мягкие кресла в гостиную, и мало-помалу квартира станет «завершенной».
Виктор спрашивал себя, не начать ли все-таки изучение романской филологии, ведь материнский язык буквально окружал его французскими понятиями: парфюм, биде, этажерка.
С покупкой биде приходилось, увы, пока повременить, но с парфюмом мать не знала удержу. У нее было то, чего ни одна парижанка и представить себе не могла: парфюмы в четвертьлитровых и полулитровых флаконах. Ванная, к сожалению еще не переоборудованная, выглядела наподобие винного погреба.
Дело тут вот в чем: в те годы возле всех крупных универсальных магазинов Вены, возле «Гернгроса» и «Херцмански», возле «Штафа» и «Штеффля», стояли уличные торговцы – служащие магазинов? Или они просто пользовались огромным людским наплывом у дверей? – и расхваливали товар по сказочным ценам. «Настоящий французский парфюм, парфюм кинозвезд, аромат поистине французского изыска, жидкая чувственность, savoir vivre [37]37
Образ жизни (фр.).
[Закрыть]во флаконах, и всего – я не лгу! – всегоза девяносто девять шиллингов, сударыни! Вы не ослышались! Девяносто девять шиллингов. Не девятьсот, не пятьсот, надо брать, сударыни! Знатоки – а вы все безусловно знатоки, я совершенно уверен! – знают, что настоящий парфюм и за такую цену уже подарок! Однако же я предлагаю первосортный товар не за половину и не за треть такой цены… – Он сунул флакон в пакет, поднял повыше. – Всего за девяносто девять!» Кто-то уже протягивал ему первую сотенную купюру. «Прошу, сударыня, одну минуточку! Смотрите, что я сейчас сделаю! Добавлю к этому настоящему французскому парфюму флакон одеколона – и какова цена теперь?» Женщина нерешительно убрала свою сотню. «По-прежнему девяносто девять шиллингов, сударыня!» Недоверчивый шумок в публике. «Но это еще не все! Добавляю еще одеколон для вашего супруга, в конце концов, ему тоже не помешает хорошо пахнуть! Ну а если презентуете другу дома – извольте, дело хозяйское! И супруг ничего не заметит, во всяком случае по деньгам на хозяйство, ведь содержимое этого пакета стоит… вер-но! По-прежнему де-вя-но-сто де-вять шиллингов! Ладно, если это нужно вам для друга, добавим лосьон после бритья, для мужа… а цена?» Восторженные крики: девяносто девять шиллингов! «Правильно, сударыни! Вам необходимо познакомиться со всем спектром нашей продукции, только поэтому, на первый раз, столь уникальное предложение. Только сегодня!» Со всех сторон к нему тянулись руки с сотенными купюрами. Мне, мне, пожалуйста, и мне, и мне, в ту пору они с наслаждением говорили «я», «мне», матери девчонок, которые протягивали руки к «Битлзам» и падали в обморок, и, к огорчению Виктора, в первом ряду вопящих фанаток была его мать, покупала этот парфюм, вместе с каковым получала даром четыре, пять или шесть флаконов размером с пивную бутылку, наполненных светло-желтыми, средне-желтыми, темно-желтыми, красновато-желтыми или водянисто-желтыми жидкостями, иначе говоря, флаконы всех оттенков мочи. И их скапливалось все больше. Снова и снова мать по дороге домой случайно проходила мимо универсального магазина и просто не могла удержаться.
Старая масляная краска в ванной отпотевала, шла пузырями. И Виктор нисколько не удивлялся. Ванная, где складировались все эти флаконы, явно нервничала не меньше его самого. Парфюмы жаждали применения. Утром, когда Виктор выходил из ванной и собирался идти в университет, рядом вдруг вырастала мать с флаконом, щедро плескала себе на ладонь и норовила мазнуть Виктора по затылку.
– Немножко одеколона тебе не повредит, – говорила она, – создает ощущение ухоженности, давай, раз уж не хочешь идти в парикмахерскую!
Виктор шарахался от нее, кричал:
– Оставь меня в покое!
А она трясла возле него флаконом, примерно как гонщики при чествовании победителей встряхивают бутылки с шампанским, разбрызгивая вино.
Ему нужно собственное жилье. Но это была всего лишь потребность. На самом деле еще не настоятельная необходимость. Он ничего не предпринимал, снова и снова думал об этом и говорил, а затем с демонстративно скрытой враждебностью страдал от материна вердикта:
– Ну что же? Собственное жилье? Если ты можешь позволить!
Однако после пощечин он начал искать жилье. Пусть даже придется взять кредит и заставить отца за этот кредит поручиться.
Пощечины. Ребенком Виктор трижды получал от родителей колотушки. Это был третий раз, от матери – второй. Он уже вышел из детского возраста, но мать била ребенка, которого не имела и получила из интерната уже юношей. Накинулась на своего студента с яростью, в которой ее боль из-за того, что она проморгала детство собственного ребенка, была куда сильней боли, какую она причинила ему. Хлоп! В самую точку! И всего-то потому, что Виктор побывал в «Диком Западе»…
«Пойдешь со мной в гостиницу?»
Виктор случайно встретил Хилли в университете. Теперь ее звали Гундль. Впрочем, вовсе не по этой причине она показалась Виктору совершенно не такой, какой он видел ее последний раз, еще в школе, не то шесть, не то девять месяцев назад. И дело не в том, что она теперь носила короткие волосы. Что же изменилось? Он с трудом поддерживал разговор, потому что, глядя на нее, изо всех сил искал ответ на вопрос: что, если отвлечься от внешних деталей вроде короткой стрижки, не совпадало с воспоминанием, даже когда он отбрасывал все идеализирования, к каким вообще имели тенденцию его воспоминания о ней? Она стала меньше. Убавилась в размере. Он вдруг это заметил, когда она спросила: «Слушай, ты вроде бы еще вырос? Я запомнила тебя не таким высоким!» В самом деле, он, Виктор, вырос на несколько сантиметров с тех пор, как открылись ворота интерната. Его тело словно бы стремилось наверстать то, что было в нем заложено, однако во времена, когда он съеживался, стремился стать маленьким и неприметным, находилось под запретом или по меньшей мере представлялось нежелательным. Без сомнения, случай необычный, но не настолько, чтобы заинтересовать науку. И к примеру, отец вообще не обратил внимания, что его восемнадцатилетний сын резко вырос. Если не считать реплики: «Почему, собственно говоря, Мария надумала покупать тебе короткие брюки? Просто потому, что покупать на вырост больше незачем?»








