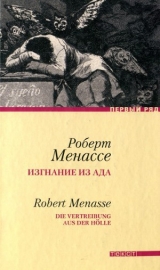
Текст книги "Изгнание из ада"
Автор книги: Роберт Менассе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Среди публики сидела Мария, которую тогда звали Хилли, сидела, набросив на плечи пуловер, рукава пуловера свисали ей на грудь, и Мария на сцене мечтала, что Мария среди публики мечтает о том, чтобы ее обняли со спины.
Шел 1968 год. Или может, 1969-й. Не важно, ведь в календаре современных святых это все равно одно и то же. Тождества опрокидывались, души разбивались, все получало новые имена. Маленький мальчуган звался Марией. Его последний футбольный матч в школьной сборной. Он перехватил мяч, противник поскользнулся, Виктор повел мяч, побежал сломя голову, он, малыш, бежал навстречу своему триумфу. Вокруг неожиданно столько места. Впереди лишь один защитник, здоровый бугай из задавак-терезианцев. У терезианцев красивая сине-белая форма, «настоящая», с гербом школы, с номерами на спине и всем прочим, а интернатские играли в ужасных нижних рубахах из белого рубчатого трикотажа, которые имелись у каждого мальчика на случай холодной погоды. Виктор в кедах бежал прямо на этого здоровяка в настоящих бутсах марки «Пума», с цифрой «3» на синей футболке, которого соперники прозвали Штоцем, в честь легендарного центрального защитника австрийской национальной сборной. Что Виктору делать? Отдать мяч или – он был уверен, что сможет, – попробовать прорваться в одиночку и просто обойти этого Штоца? И тут он услышал поощрительные крики своих, возгласы из публики: «Давай, Мицци, давай!» Виктор пошел бы на прорыв в одиночку, но Мицци остановился, сквозь слезы увидел, как мяч откатился от ноги, как все движение вдруг замедлилось, затормозилось, словно в лупе времени, Штоц спокойно и красиво выбил мяч за боковую, а Мицци еще некоторое время бестолково блуждал по полю, пока его не заменили.
Первый телевизор матери Марии. На каникулах, когда Виктор мог побыть дома, этот аппарат, этот триумф техники был глазком, сквозь который ему удавалось выглянуть из помещения, где он был заперт. Наподобие глазка во входной двери, сквозь который, правда, удавалось всего-навсего увидеть, кто – пугающий, поскольку искаженный и увеличенный, – стоял на площадке и только что позвонил в звонок. Телевизор – тоже глазок, но в него ты видел весь внешний мир, кулаками молотивший в дверь. Вскинутые вверх кулаки, рты, что-то ритмично выкрикивавшие, беготня, полиция, дубинки. А потом вот что: молодые женщины, которые расстегивали блузки и выставляли напоказ обнаженные груди. Кадры менялись очень быстро, вот они уже совсем другие, улица, заполоненная студентами, кулаки. По сути, Виктор видел лишь одно: все это можно было увидеть. Ярость, огромная ярость обуревала его. Ведь он страстно желал выйти на улицу. Но поневоле сидел за стенами, а в каникулы – перед «глазком». Способен ли свободный человек осмыслить, что для сидящего взаперти означает возможность просто выйти на улицу? Но в таком случае, будьте любезны, улица должна быть мирной, безопасной, иной, чем жизнь за стенами интерната. Вон они, люди, которым дозволено то, о чем он только мечтал. И что они делали? Устраивали демонстрации. Размахивали кулаками. Кричали. Если Виктор в своем узилище выказывал и вообще сохранял волю к жизни, то лишь по одной-единственной причине: в конце концов он выйдет отсюда и поступит в университет, как свободный человек, который может заниматься тем, что ему интересно. Если он сбежит из интерната, откажется здесь остаться, то завалит себе и дорогу в университет. Выйдет из интерната, но не на свободу. Он должен выдержать, у него одна задача, не латынь, не греческий, не математика, его жизненная задача – выжить. Для будущего. А эти вот типы, которые уже жили в будущем, он видел их в «глазок», – они же не учились. Они только делали улицу, свободу, по которой он так тосковал, опасным местом, еще более опасным, чем интернат. Почему Виктору нельзя на улицу? Почему он должен безвылазно сидеть за стенами и думать лишь об одном: как бы выжить. Если бы его выпустили, он бы вел себя просто образцово, все бы сказали: посмотрите на этого молодого человека, как он идет по улице, душа радуется – не кричит, кулаками не машет, вот таким и должно быть студенту. Он бы стал знаменит, если б его только выпустили, знаменит тем только, что вышел на улицу. Стал бы любим со своим страхом перед агрессивностью и жаждой любви, и он бы тоже полюбил мир таким, каков он есть, ведь единственный известный ему недостаток этого мира заключался в том, что он не питал любви к Виктору. Он бы научился ухаживать за красивыми женщинами так, как описано в древненемецкой литературе, которую он читал по школьной программе, благородная любовь, настоящие женщины, не такие, что обнажали грудь перед телекамерами, вдобавок до того быстро, что ты ничегошеньки и не видел, кроме самого факта, что они это делали.
Пасхальные каникулы 1969 года. Мама, разумеется, работала всю неделю, за исключением двух главных праздничных дней – пасхального воскресенья и пасхального понедельника, а у ребенка, как назло, каникулы, за ним надо присматривать, ограждать его от улицы, где подстерегают опасности, и у отца тоже нет времени. «Ты знаешь, Виктор, я о твоем отце никогда дурного слова не сказала и не скажу. Никто не упрекнет меня в том, что я после развода посеяла в ребенке ненависть к отцу. Нет, мы все будем относиться друг к другу по-доброму. Но…» У отца, к сожалению, есть время только на развлечения, женщин, теннис, карты да бега. Где он сейчас торчит? В Бадене под Веной, всего в получасе езды от столицы, сидит на пасхальные каникулы в какой-то курортной гостинице, с некоей Тусси. «Не хочу говорить о ней плохо, раз твой отец ее любит», там есть казино и ипподром, а вечером он играет в тарок и воображает себя героем, если в субботу проедет полчаса на машине в Вену, потому что это посетительный день, «а в этот день я сама свободна и могу посвятить тебе все время!» Однако бабуля Кукленыш смогла взять выходные и присмотреть в каникулы за ребенком. Увлекательные дни. Поход в Лайнцкий зоопарк. Прогулка. Иной раз можно увидеть кабана. Поэтому огромный парк и называется зоопарком. Они кабанов не видели. Виктор лишний раз почувствовал себя обманутым. Самая обыкновенная прогулка, скучней не придумаешь. Собралась гроза, бабуля с Виктором припустили бегом, но невероятно быстро потемнело, черные тучи закрыли небо, словно рывком задернулся полог, они бежали, тяжело дыша, подгоняя друг друга, – куда? К выходу из парка, словно там была крыша, а ведь их даже машина не ждала, они приехали городской железной дорогой. И вот уже по земле ударили крупные капли дождя, обрушились колючей стеной, по сравнению с этим душевая в интернате с ее двадцатью душевыми головками под потолком, куда их загоняли дважды в неделю, была просто сушильней. Бабуля внезапно остановилась, сказала:
– Какой смысл бежать дальше? Мы уже и так промокли. До костей.
Виктор огляделся по сторонам – никого, ни души, ни человека, ни кабана, только лужайка и лес.
– Раз уж мы вымокли до нитки… – сказала бабуля и тоже огляделась по сторонам. – Слушай, ты когда-нибудь видел голую женщину?
Запыхавшись, они стояли под дождем, Виктор недоуменно смотрел на бабулю, которая справедливо истолковала его взгляд как отрицательный ответ и продолжила:
– Что ж, с этим тебе придется еще немного подождать. Но сейчас ты увидишь голую старуху. Старуха, – сказала она, распуская собранные в пучок волосы, – это зрелище, которое не может испортить молодого мужчину. – Она тряхнула головой, так что длинные ее волосы заколыхались под дождем из стороны в сторону. – Это… как бы сказать…
Виктор видел, как шпильки разлетелись вокруг, попытался сквозь завесу дождя приметить, куда они упали, чтобы найти их в траве и подобрать.
– …просто опыт, вроде… – Первые шпильки, которые вытащила из пучка, бабуля все еще держала в зубах, а поэтому шамкала, точно беззубая хрычовка с омерзительной старушечьей бородой. – Черт! – Она выплюнула шпильки; куда они упали? Виктор прикинул место, а бабуля продолжила: – Это вроде как… старое дерево, например. Вон то! Оно тебе нравится? Ребенок видит молодые и старые деревья, а с определенного возраста старые деревья не замечает! – Она расстегнула кофту. – Или кровь! Ты же видел кровь? И не тогда только, когда сам впервые порезался или поранился. – Тяжелая мокрая кофта упала наземь, бабуля энергично крутанула юбку вокруг бедер, чтобы застежка оказалась спереди, расстегнула молнию. – Ты видел звезды на небе еще до того, как узнал, что иные уже умерли, и как они называются, и что они вообще собой представляют, и как, может статься, влияют на нашу жизнь… – Бабуля рассуждала прямо-таки поэтически, а Виктору почудилось, что он плачет, но нет, это капли дождя текли по лицу. – Дети видят звезды простодушно, и не только когда достаточно повзрослели, чтобы их понять, и точно так же… – Юбка соскользнула вниз. – …точно так же ты видишь сейчас старуху! – Бабуля стояла перед ним, телесного цвета шкаф, голая как божество… нет, теперь наземь упали бюстгальтер, грация, пояс от чулок, и лишь тогда бабуля оказалась голой, и, ей-Богу, была она вовсе не телесного цвета, а белая. И среди белизны – черные дебри, дождевой лес, опасный треугольник.
Еще прежде чем он с жадностью всмотрелся и вообще успел что-то увидеть, бабуля принялась скакать по лужайке, в шумных потоках дождя, вскидывая руки вверх, кружась в гротескном танце, под музыку собственных экстатически пронзительных криков, барабанную дробь капель, басовые раскаты грозы.
– Ну что? – кричала она Виктору, а Виктор стоял под дождем, в промокшей, холодной одежде, меж тем как бабуля, покрикивая, голая, счастливая, скакала по лужайке – старый эльф, жирная балерина… ведьма, он думал: Господи, она же ведьма!
Серебряные волосы закрывали ей всю спину, метались из стороны в сторону, меж тем как она бегала и скакала, вскидывая руки ввысь. Внезапно она остановилась – прямо перед Виктором.
– Давай! Такое наслаждение – чувствовать проливной дождь голым телом! – Тут она увидела, куда смотрит Виктор, шевельнула бедрами и ляжками, каким-то образом повернула их внутрь, и черный треугольник исчез, и вот уже снова побежала прочь, колышущийся жир, подпрыгивающие усталые груди. Ведьма, думал Виктор. Самое отвратительное и самое прекрасное зрелище, какое он когда-либо видел.
«Представляешь, что вчера было!» – не сказал Виктор отцу, не сказал: «Что вчера отчебучила бабуля! Что я видел». Словом не обмолвился. Сохранил в тайне. В посетительный день весь мир, кулаком стучавший в дверь, обсуждал одну тему: покушение на Руди Дучке [21]21
Дучке Руди (1940–1979) – один из руководителей студенческого движения в Западном Берлине и ФРГ в 1965–1968 гг., 11 апреля 1968 г. был тяжело ранен в результате покушения на убийство.
[Закрыть], фото гимнастической туфли на тротуаре у автобусной остановки на Курфюрстендамм, туфли, из которой Руди Дучке буквально выбило выстрелом. Нельзя утверждать, что отец говорил об этом с Виктором серьезно, отец вообще ни о чем не говорил серьезно, ведь главным было – убить время, несколько часов, по истечении которых можно доставить Виктора обратно к матери. Они сидели в отцовском клубе, оба в теннисных костюмах, отец потный и счастливый, сын потный и несчастный. Отец только что выиграл партию, сын же тем временем без остановки бил мячом об стену, поскольку не знал, чем еще заняться. Удары его становились все резче, отчаяннее, яростнее, и из-за этой стихийной тренировки он стал совершенно непригоден для настоящей игры. Все мячи посылал далеко в аут. Они пили кока-колу, отец разрешал, а мама даже в эспрессо колы ему не давала, хотя там и платить бы не пришлось. Заговори Виктор о теннисе или о футболе, отец и не упомянул бы о покушении, о котором говорил весь мир.
– Он подстрекал людей, – сказал Виктор, – я по телевизору видел, – сказал Виктор, – это беспорядок, опасность, – сказал Виктор, – на улицах. Почему он так делал? Почему не мог успокоиться? Уняться? – А потом: – Так ему и надо! – Вот что сказал Виктор.
Отец протянул руку, положил ее Виктору на голову, провел пальцами по волосам, притянул к себе. Отец проявил нежность, этот мужчина, к которому он питал робкое восхищение, настоящий мужчина, далекий, даже в посетительные дни бесконечно далекий, всегда играющий на соседней площадке отец погладил его: Виктор просто онемел. От счастья.
– Нет слов! – сказал отец, все крепче сжимая Викторову голову. – Представь, что кто-то стреляет тебе в голову! Вот сюда! – Виктор почувствовал, как отцовский палец буравит череп, словно норовит проделать дырку, как пуля, стало больно. – А кто-то говорит: так тебе и надо – ты ратовал за это, проповедовал, к примеру здесь, что можно стрелять в человека, так ему и надо, сказал ты, так и надо!
Отец разжал руку, Виктор отшатнулся назад, отец покачал головой, взглянул на часы:
– Ступай прими душ и переоденься. Я отвезу тебя домой, к Марии!
Виктор стоял под душем, голый под резкими горячими струями, и плакал. От страха. От страха перед миром.
«Плод чрева»… Двух этих слов достаточно, чтобы Виктор почувствовал себя жалким, вправду ли дело только в словах? Ему казалось, будто в животе что-то толкается и бушует. Надо последить за собой, не выплеснуть все наружу, не отрыгнуть взахлеб, раз и другой, все эти истории, предшествующие, сопутствующие и последующие, сплошь подозрительные, если не сказать дурно пахнущие, блевотину переживаний, поступков и событий, но вполне естественного содержания, ничего неудобоваримого, просто непереваренное. Уступи он сейчас минутному побуждению и выплесни все – вечеру конец. Получится крайне неловко, крайне мерзко, все быстро вытрут, впрочем, конец придет только вечеру, а больше ничему. Нет, лучше лишний раз сглотнуть.
Вифлеемское действо в школе, речь-то вовсе не о нем. Хиллины крики «Мицци!» на футболе, он бы их забыл, а если б и не забыл, то сегодня бы просто посмеялся. Нет, то, во что Гундль превратила это позднее, раздутая история про «плод чрева», именно она сейчас бушевала в нем, и прямо-таки не верится, что они сидят здесь вдвоем, разговаривают, рассказывают истории, словно ничего и не было, кроме этих рассказов. Он не сомневался, нынешней ночью они могут рассказывать друг другу все, напоминать обо всем, если только обойдут молчанием одну эту историю. Как свербит в горле. Виктор с трудом сглотнул, силой подавил то, что просилось наружу.
Подали кофе. И десерт. Шербет с лесными ягодами. Официанты принесли две порции, безусловно большие, но всего-навсего две. Почему не тридцать?
Да какая разница. Перед закрытием-то. Остроумие притомилось, как и метрдотель с официантами.
– Рюмочку для пищеварения не желаете? Рябиновой водочки? Очень рекомендую!
Вон как официанты заторопились. Виктору казалось, что они бы с удовольствием налили рябиновку прямо в недопитые бокалы с вином или в чашки с кофе. Хотя нет, рюмки для водки тоже на столе. Откуда они вдруг взялись? На миг, вспышкой воспоминания, Виктор увидел интернатских воспитанников, которым, если они не успевали доесть суп, второе бухали поварешкой прямо в остатки первого. Потом люди в черном расхаживали по залу, проверяя, чтобы это «комбинированное» блюдо («Поди, твоя любимая еда?») было съедено подчистую… Уже тогда у Виктора глаза на это не глядели, отвратительное зрелище, он смотрел и не видел, потому что в таких ситуациях перед глазами вмиг возникала завеса, вот как сейчас.
– С вашего позволения, ресторан закрывается, – сказал метрдотель.
У австрийских официантов совершенно особая манера выражаться, подумал Виктор, оборотная сторона, черный человек в ханжески подобострастном варианте. Какая горечь во рту, Виктор подавил тошноту.
– Однако же, – потупившись, продолжал метрдотель (с чего он потупился? Смотрел на Викторову тарелку с тающим шербетом?), – прошу вас, не торопитесь, спокойно откушайте десерт. – Он кашлянул.
Виктор отправил в рот большую ложку шербета. Сущий бальзам для горла. Еще одну. Приятно холодит. Разогретые предыстории. Множество недоразумений. Нет смысла снова извлекать их на поверхность, ведь ничего по-настоящему не разъяснишь, не сотрешь без следа. Его только снова и снова будет тошнить… Воспоминание как павлинье перышко в горле. Отвратительно. Лучше шербет. Прохладный. Спокойно. Откушать. Наперекор-и-вопреки.
Она и не догадывается. Недоразумения. Наверняка она не догадывается, и как раз по этой причине он в любое время и именно сейчас готов все ей простить. В нем столько агрессии, он чувствовал, как она бушует в глубине его существа, и думал: беспощадно! Сегодня я беспощадно прощу ей все!
Он вдруг скривился, вскочил, выбежал из зала, оттолкнув в сторону метрдотеля, который с затаенным нетерпением подходил к двери, и через секунду уже согнулся над унитазом. Все выплеснулось вон, вся история: суп, телятина с классическим гарниром, много шербета и немного лесных ягод, красное вино, кровь, кофе, слизь, водка, ничего неудобоваримого, только непереваренное.
«Плод чрева», все-таки придется об этом поговорить, думал Виктор, возвращаясь к столу.
Метрдотель принес счет, чтобы они подписали.
– Тебе лучше?
– Да. Все хорошо! – Виктор не глядя подписал счет. Но когда метрдотель попросил кредитную карту, чтобы снять копию, стало ясно, что счет обернется бумерангом.
– С какой стати? – сказала Хильдегунда. – Счет пойдет директору Пройсу!
– Разумеется! – кивнул метрдотель. – Кредитная карта служит только для страховки, копия будет уничтожена, как только господин директор гимназии оплатит счет.
– Или не оплатит! Нет, это исключено! Директор делал заказ, пусть и платит! Такова договоренность. Вы не можете требовать от его гостей…
Виктор нетерпеливо-протестующе взмахнул рукой. Он испытывал ужасную неловкость. Большей неловкости, кажется, и быть не может. Он сидит тут со своей… ну да, со своей великой несвершенной любовью и по ее милости вдруг снова чувствует себя мальчишкой, который по милости матери Марии готов был сквозь землю провалиться от стыда, когда она впадала в панику из-за какого-нибудь счета, проверяла каждую строчку, отсчитывала гроши, возмущалась, что надо платить за вполне естественные для всех вещи, – например, история в трамвае: тогда еще были кондукторы. «Один взрослый, один детский», – сказала мама.
«Он уже не ребенок!» – возразил кондуктор.
«Он мой ребенок», – отрезала мама.
«Простите, сударыня, рост у мальчика больше метра пятидесяти! Любому видно! Детский билет – только до метра пятидесяти!»
«Его рост – метр сорок девять! – отчеканила мать, и что хуже всего, она была абсолютно уверена в своей правоте. – Я не стану платить за ребенка четыре шиллинга. Детский билет стоит восемьдесят грошей!» Ребенок, который уже не был ребенком, но должен был сойти за ребенка, оставшегося маленьким, если не отставшего в развитии, но одновременно растущего чересчур быстро, отчего штаны и рубашки ему всегда покупали с запасом, «на вырост», этот ребенок, одновременно слишком большой и слишком маленький, вынуждал мать к непомерным расходам, грабил ее. Виктора едва не вырвало, но не в пример матери он стеснялся реакции окружающих, ведь все уже смотрели на них, и потому опустил голову, съежился, от стыда становился все меньше – еще две фразы матери, и она добьется, чтобы его измерили, а он вправду уменьшится до метра сорока девяти. «Нет, это возмутительно, идем, Виктор, мы выходим!» Она и по имени его назвала. Десятки людей будут дома рассказывать про инцидент в трамвае: там ехала сумасшедшая особа, а сына ее зовут Виктор! Того и гляди, услышав его имя, Виктор, поскольку Абраванель, конечно, звучит слишком по-иностранному, начнут спрашивать: Виктор? Случайно, не тот, из трамвая?
Но что самое ужасное, вышли они не сразу. Мать сумела затянуть дискуссию с кондуктором еще на целую остановку, и в конце концов пешком им пришлось идти совсем недалеко. Лишь тогда, неизбежно, наконец-то. «Просто неслыханно, – сказала мать, с негодованием глядя на сына. – Он требует, чтобы я платила за тебя как за взрослого! Идем, прогуляемся пешком, погода хорошая!»
Виктор подал метрдотелю кредитную карту.
– Спишите всю сумму с моего счета! – сказал он. «Золотой телец» может не церемониться, он сам разочтется со школой.
– Виктор, ты в своем уме? Пройс никогда…
– А это, – Виктор небрежно вытянул из бумажника тысячешиллинговую купюру, – для вас!
– Покорнейше благодарю, большое спасибо!
– Виктор, так нельзя, ты не можешь платить за все! Мне бы даже… Сколько там всего? Нет, погоди! Я хотя бы часть тебе отдам!
Пожалуйста, мать Мария, давай обойдемся без публичных дискуссий о процедурах оплаты и о разделе, и какова доля, и не нужен ли нам карманный калькулятор, и нельзя ли наличными, пожалуйста, не надо! Он покачал головой.
– Будьте добры, вызовите нам такси. – И Хильдегунде: – Брось, госпожа учитель религии, раввин заплатит! – Он невольно усмехнулся, глядя на ее озадаченное лицо. – Потом объясню. Пошли!
Нас тут достаточно долго поили-кормили… Вперед, в широкий мир! Прощай, детство!
Детство матери, запакованное в картонки, эти горы, эти штабеля во всю стену, которые одновременно были и детством Виктора, его «домом», – все это в один прекрасный день вдруг исчезло. На каникулах Виктор приехал домой и поначалу видел лишь исчезновение. Никаких штабелей картонок и ящиков, ни единого «книгодержателя» не осталось в квартире, которая вдруг показалась мальчику, с удивлением обходившему свой «дом», непривычно просторной, чуть ли не обширной, будто он сам съежился, умалился. В спальне стояла новая широченная кровать, вместо двух старых, разделенных картонной перегородкой, но сперва он заметил только отсутствие старых кроватей и ящичной «пещеры».
– Французская кровать, – гордо объявила мама.
В гостиной открывался прямо-таки поразительно свободный обзор на темную стенку красного дерева, которая теперь лучше освещалась из окна, поскольку отсутствовала комнатная липа.
– Ее раздавили, – сказала мать.
– Раздавили?
– Да, когда вывозили коробки, один из штабелей рухнул и раздавил ее.
В прихожей, где стена картонок была пониже, потому что их нет-нет забирали, когда дядя Эрих получал заказ, где было так удобно, придя домой, бросить пальто, располагалась теперь настоящая вешалка: наклеенная или привинченная к стене искусственная кожа цвета «мозоли» (отец, качая головой), в раме из деревянных планок, а на ней рядком пять латунных крючков. На полу – латунное ведро в том же стиле, «для зонтиков». Но зонтиков там не было, мать пользовалась складным, а он бы бесследно исчез в этом ведре. Однако ведро продавалось в комплекте с вешалкой. Когда Виктор повесил на крючок свое пальто с капюшоном, мать немедля сняла его оттуда и убрала в шкаф – «чтобы не завешивать новую вешалку».
Виктор так и не узнал, да, наверно, все равно бы не понял, какими уловками и средствами дядя Эрих умудрился избежать злостного банкротства. Но скромная «компенсация», какой он отделался, съела и остатки состояния бабули, и ее первые сбережения на поприще массажистки.
– Сколько раз уже я начинала с нуля! – сказала бабуля, пожав плечами.
– С нуля, с нуля, вечно с нуля! – кричала мама. – Дождаться бы, когда эта семья научится считать до трех!
Но для матери Марии началось счастливое время: ее брат Эрих в Вене давно уже не появлялся и потому не действовал ей на нервы. Ей казалось, жизнь пришла в норму: когда Эрих все потерял, она смогла купить себе французскую кровать и вешалку.
– Теперь у моей квартиры наконец-то есть лицо… если кто придет!
Кто к ней придет? Не Виктор. Виктор сидел в интернате. Кроме как на каникулах, а тогда, придя домой, слышал, что тем временем произошло, звучало это как далекий рокот, идущий непонятно откуда – от автомагистрали, от леса или от моря.
Эрих нашел себе место представителя по сушилкам для волос. Впрочем, продажа сушилок – дело почти безнадежное. По сравнению с ними книгодержатели расходились как горячие пирожки. Ведь совсем недавно парикмахеры забраковали первые послевоенные сушилки и закупили сушилки нового поколения, за которые большей частью еще выплачивали рассрочку. Вполне возможно, Эрих и получил это место потому только, что его предшественник насытил рынок и удалился на покой. Эрих колесил по всей Австрии на кирпично-красном жучке-«фольксвагене» фирмы «Парикмахерское оборудование Кампита» и, в сущности, жил на плату за наезженный километраж. Ему понадобился почти год, чтобы, при мизерных комиссионных, оплатить из этих денег красивый темно-синий костюм («полуночно-синий цвет»), который он приобрел, как только получил работу.
– Главное, – сказал он как-то вечером, ужиная у Марии и Виктора, – внешний вид, я всегда так говорю! – Он задумчиво обвел взглядом комнату, где совсем недавно обретались его книгодержатели, открыл новую бутылку пива, сделал глоток, рыгнул. – Хороший костюм, хорошие ботинки и… – Он поднял вверх указательный палец. – В моем случае нельзя забывать и о хорошей прическе! Как я продам что-нибудь парикмахеру, если сам скверно причесан? Тут нет вопроса! – Рукой с огромным перстнем-печаткой он пригладил волосы, снова глотнул пива и был явно доволен собой.
– Когда он наконец уйдет? – шепнула мама, когда Виктор помогал ей отнести тарелки на кухню. – Если он сейчас снова скажет: принеси еще пивка! – ты ответишь: пива больше нет! Слышишь?
Эрих тем временем успел наведаться в туалет и вышел оттуда, как всегда, с мокрыми волосами. Прическа и вправду представляла собой для Эриха большую проблему. Волосы у него были на редкость курчавые, непокорно торчащие во все стороны; «в сущности, – якобы сказал однажды Эрих, самокритично и с отчаянием, – это не прическа, а косматый смородинный куст!». Самое милое дело – стрижка в стиле афро-лук, но разве такое допустимо для мужчины, который желает выглядеть элегантным господином! Ни в коем случае! Он без конца мочил волосы, носил с собой пластмассовую щетку размером в ладонь, с петлей для руки, и приминал ею свой косматый куст, ведь волосы должны пригладиться и облегать голову, не вставая дыбом, мокрые, разглаженные! Другие мужчины страдали от перхоти на плечах, а у Эриха на плечах полуночно-синего костюма были пятна от воды, и это укрепляло его самоуверенность.
– Мой Эрих себе все волосы отморозит! – с отчаянием твердила бабуля. – Вечно мочит волосы, а потом часами шастает по улице во всех деревнях и городах, от парикмахера к парикмахеру, в том числе и зимой, в жгучий мороз!
– У меня жар внутри! Я горю, это не проблема! – отвечал Эрих.
– Недавно пришел ко мне обедать, а в волосах сосульки. Сосульки! Впору обламывать их с головы, а ведь там внутри волоски! – Это бабуля.
Через год, в следующие большие каникулы, Виктор узнал: Эрих, который так горячо жаждал подняться по общественной лестнице, имел полностью оплаченный синий костюм, залысины на полголовы и, после кратковременной безработицы, новое занятие: заделался истребителем крыс.
– Если б он хоть раз в жизни отнесся к работе всерьез, то теперь покончил бы с собой! – Мама.
Впервые Виктор порадовался, что он единственный ребенок.
Теперь Эрих ходил в синем комбинезоне, и в его задачу входило раскладывать приманку, ставить ловушки и разбрызгивать отраву в подвалах или, что куда интереснее, в кухнях гостиниц и ресторанов.
– Хочешь как-нибудь отведать у «Захера» телятины? – спросил у Виктора Эрих, лицо его густо раскраснелось от воодушевления. – Я вчера там был! Крысы у них на кухне – во какие! – Он нервно расхохотался. – Или лучше в «Бристоле»? Изысканный «Бристоль»! Тараканы ордами шастают! – Он едва не задохнулся от смеха, чувствуя себя триумфатором: ну как же, получил доступ в большой мир, в желанное жизненное пространство, по крайней мере в передние и подсобки или в подвалы большого мира, и вот ведь какая штука, парень! Пусть этот мир презирал его, не давал ему подняться наверх, он знал и рассказывал: этот мир полон крыс и тараканов.
Виктор так и не узнал, в чем тут дело – в нерадивости дяди Эриха или, наоборот, в излишней старательности, но в следующие каникулы услышал, что дядя Эрих опять остался без работы. Может, в приличных венских домах исчезли крысы, может, Эрих всех их изничтожил и делать ему стало нечего? Он как бы насытил рынок? Или же крысы, невзирая на его усилия, наоборот, расплодились, так что пришлось нанимать настоящего истребителя вместо этого верхнеавстрийского бахвала?
Как бы то ни было, Эрих вытянул выигрышный билет: устроился ночным портье в почасовую гостиницу. В легендарную «Вена-Запад» возле Западного вокзала, известную среди знатоков под названием «Дикий Запад».
В одной из тамошних задних комнат – на двери красовалась табличка «Закусочная» – играли в штосс, запрещенную азартную игру, которая неуклонно разрушала несчетные жизни, однако же золотила жизнь Эриха. Он прогорел как «генеральный представитель», еле-еле сводил концы с концами как коммивояжер, а вот теперь, как ночной портье в почасовой гостинице, имел их, сиречь комиссионные, они прямо-таки текли рекой. Наконец-то он обрел желанное «сподручное представительство». Вальяжно сидел за стойкой, пил виски, а за дверью с табличкой «Закусочная» один спускал все, другой выигрывал дом, но для Эриха не имело значения, кто там выигрывал, кто проигрывал, – он неизменно получал свои «комиссионные». Да, смекнул Эрих, вот где его безусловный талант: смотреть в оба и одновременно в сторону. Самый же большой его талант – как он тоже смекнул здесь, за обшарпанной стойкой, – это кабаре. В нем запоздало раскрылась природная способность к имитации голосов и мимической пародии. Он пожинал бурю восторгов, когда в закусочной подавал напитки, изображая при этом пьяного фраера, которого проститутка только что затащила в гостиницу. Когда устроил этот спектакль впервые, вышло все по капризу, возможно из-за выпитого виски, благодаря чему он и вправду был пьяным, которого изображал. Успех окрылил его. И в итоге он создал свой главный номер, а именно: «Директор Грюн». Улучшал и шлифовал этот номер всякий раз, как исполнял его, а исполнять приходилось часто, ведь господа из «Закусочной» просто обожали «Директора Грюна», снова и снова требовали его и платили чаевыми, далеко превосходившими обычные «комиссионные».
Директор Грюн был то ли владелец, то ли – в точности никто не знал – представитель владельца гостиницы «Вена-Запад». Раз в неделю он появлялся, чтобы произвести «учет». А происходил учет очень просто: директор Грюн пересчитывал простыни. Нехотя. Через силу. Тщательно и с большим подозрением. Что давало кой-какой материал для актерских талантов. Каждая использованная простыня – это постоялец, полторы сотни шиллингов. Никаких списков директор Грюн видеть не желал, никаких записей в регистрационной книге, никаких отчетов портье. Никто же не подписывает регистрационную карточку, забежав с проституткой на полчаса в гостиницу! Директор Грюн пересчитывал простыни. После каждого постояльца стелют новую простыню, таков закон в этом заведении, поэтому простыня – это платящий клиент, полторы сотни шиллингов. Незачем говорить, что Эрих мгновенно сообразил, что нет ни малейшей причины менять простыню после каждого клиента. Сколько таких, что эякулировали, не дойдя до кровати, сколько таких, что не эякулировали вообще, так как были до того пьяны, что уже не могли. А разве же не это есть гордость, цель, пресловутое мастерство проституток – «остаться чистыми», чище «законных шлюх», сиречь жен фраеров, снова и снова ловко получать денежки за несостоявшийся акт?








