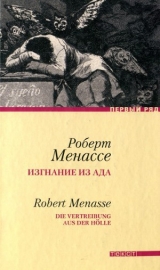
Текст книги "Изгнание из ада"
Автор книги: Роберт Менассе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Эрих сговорился с Сузи, горничной, которой полагалось после каждого постояльца менять простыню, опорожнять пепельницу и убирать волосы из водостока в душе. Каждая не замененная, а просто расправленная простыня, поделенная на двоих, на Сузи и Эриха, помноженная за ночь на двадцать, а вкупе еще на тридцать за месяц, обеспечивала изрядный доход, особенно если ты сам получал деньги и распоряжался ими. Две-три тысячи «ошибок» ежемесячно в пользу Эриха – вполне нормально, и Сузи была счастлива. До такой степени, что занималась с Эрихом тем, чего проститутки в номерах с клиентами избегали, и для Эриха это был дополнительный плюс.
Грюн считал простыни, задумчиво качал головой, считал снова:
– Раньше дела таки шли куда лучше!
– Конец месяца, господин директор, у людей нет денег. На следующей неделе все будет иначе, ручаюсь, господин директор Грюн!
Взрывы хохота, когда Эрих затем в «Закусочной» сервировал напитки, а при этом выпячивал нижнюю губу, сдвигал очки для чтения на самый кончик носа и, брызжа слюной, изрекал:
– Еще что-нибудь? Нет? Раньше дела таки шли куда лучше!
На самом деле директор Грюн, разумеется, слюной не брызгал. Но все знали, что он еврей. И в глазах клиентов Эрих в роли директора Грюна выглядел натуральнее, чем сам директор. Еврейский акцент директора, выбор слов и построение фраз – лишь благодаря Эрихову утрированию все это становилось настоящим: да, еврей должен говорить именно так! Для Эриховой публики как раз имитация была образцовой.
– Господин Эрих! Изобразите директора!
– Ага! Сбацайте номер с Грюнлингом! Давайте, господин Эрих!
Иногда директор Грюн приходил производить учет вместе с сыном, Анастазиусом, которого персонал называл Грюнлингом. Грюнлинг, неуверенный в себе, сутулый, нагловатый парень лет двадцати с небольшим, художник, всегда носил с собой белую крысу. Она то сидела у него на плече, то выглядывала из кармана пиджака, то вдруг припускала бегом по гостиничному холлу.
– Стани! Позови животное обратно, я тебя умоляю!
Получив от отца две крупные купюры, Стани свистом подзывал крысу и уходил, меж тем как отец только головой качал.
– Эта крыса слушается его с первого слова. Умное животное. Как говорят, из всех животных умнее только дельфины!
Особым успехом пользовались Эриховы выступления, когда он изображал директора в диалоге с его сыном, с Грюнлингом:
– Стани! Что такое я вижу у тебя на плече? С виду очень умное! Может быть, это дельфин? Нет, вы видели моего сына? У него на плече дельфин! Ну разве же это не артист!
Эрих как бы брал своего рода реванш за все прошлые неудачи, пожинал запоздалые лавры. Все, в чем жизнь так долго ему отказывала, он получал теперь с такой легкостью и так щедро, будто с процентами за потерянное состояние матери и за все перенесенные унижения: клал в карман комиссионные, ничего не продавая, издевался над крысами, не терпя неудачи с их истреблением, обогащался, пародируя мир, вместо безуспешных попыток сделать в этом мире карьеру.
Эрих богател на Сузи и на «Закусочной». Но вместо того чтобы спокойно, свободно, хладнокровно и цинично пользоваться такой ситуацией, Эрих пал ее жертвой. Номер «Директор Грюн» сломает ему жизнь. Низменный мир хотел видеть его лишь как карикатуру на еврея, а мира возвышенного, способного одернуть его, призвать к порядку, Эрих не имел. Он научился презирать евреев, а одновременно с успехом их изображать. Горячий Эрих стал горячим антисемитом, не замечая, что сам все больше превращается в того, кого так презирает, – в жидовствующего идиота.
Вот так и вышло, что первым евреем, которого Виктор вполне осознанно воспринял как еврея, был антисемит, дядя Эрих.
Эрих, который, брызжа слюной, склонялся над фантазийным супом и без умолку разглагольствовал, выпятив нижнюю губу. По дороге на «ночное дежурство» он заглянул к сестре, в надежде поужинать, словно нюхом почуял – уж на лестнице-то в самом деле мог почуять – и явился, аккурат когда у Марии был готов знаменито-подозрительный супец. На следующие летние каникулы Виктор поедет в Англию, два месяца в Оксфорде – вот это новость с пылу с жару!
– О, там мальчик сможет развернуться! – сказал Эрих. Он уже не замечал, где и с кем говорит, еврейский акцент вошел ему в плоть и кровь, успех, каким он пользовался, стал для него как бы наркотиком. – Англия! Очень недурно! Скажи-ка, мальчик, какой секс знают англичане? – Эрих с нетерпением ждал смеха. – Эссекс, Уэссекс, Суссекс! – Он аж подавился от смеха, закашлялся. – Ты таки многому там научишься!
Последние каникулы перед выпуском. Лето 1972 года. Впервые Виктор очутился в большом мире. К тому же в Англии, которая в ту пору была синонимом мира и происходящего. Не имело значения, что он опять попал в интернат, в лагерь, в summer school [22]22
Летняя школа (англ.).
[Закрыть], сменил тюремную камеру на огороженную зону, тем не менее именуемую свободой, – иной возможности поупражняться в свободе он не имел. Только здесь, на этом тесном поле пересечения множеств, были возможны недоразумения, возникающие между людьми – теми, что пробуют освободиться, и теми, что чувствуют себя свободными.
Речь шла только о нем, его надеждах, его представлениях о свободе. В Вене, садясь на поезд в Англию, он вовсе не думал о том поезде, что в 1938-м привез в Англию, на свободу, его отца. Отец тоже не сказал об этом ни слова.
Мать поцеловала его на платформе, своего отворачивающегося малыша, метр сорок девять впредь до отмены, она плакала, поскольку любила всплакнуть, когда в битве жизни бывало время растрогаться, потом сказала:
– Пожалуйста, будь осторожен, ради Бога, береги себя… и береги деньги: если познакомишься с девушкой, вовсе нет нужды всюду платить за нее. Незачем хвастать и постоянно угощать ее за свой счет! В результате она тебе в жизни не подойдет, а ты только деньги растратишь!
С кривой усмешкой отец выхватил из кармана купюру, дал Виктору:
– Вот, держи! Трать себе на девушек, которые не подходят для жизни!
Летняя школа, summer school.Когда у них в школе появились ее проспекты, Виктор сразу понял: он должен туда поехать, наконец-то вырваться на свободу! Лето у освободителей!
Матери он сказал, что языковые каникулы в Оксфорде очень рекомендуют, ведь таким образом в последние каникулы перед выпуском учащиеся могут подшлифовать свой английский; отец мгновенно углядел перспективу – целых два месяца без стрессов посетительных дней; и обоим Виктор сказал, что в Оксфорд едет весь класс и он не хочет быть единственным, кто останется дома, – стало быть, все ясно.
– Раз это так важно для выпускных экзаменов… – Мама.
– Ты не должен становиться единственным исключением… – Отец.
В эту поездку из всего класса, кроме Виктора, записались только двое, в том числе Хилли.
У двери метрдотель попрощался, в своем смокинге он был сейчас похож на поникшую черную птицу с парализованными крыльями.
– Еще раз покорнейше благодарю, большое вам спасибо! Надеемся, вам все пришлось по вкусу. Позвольте в качестве небольшого подарка от заведения… – Метрдотель слишком устал, чтобы договаривать фразы до конца, просто сунул Виктору в руки бутылку красного вина и пожелал «доброй ночи».
Да, именно доброй ночи желал себе и сам Виктор. Он испытывал облегчение – оттого что все вытошнил, от ночного воздуха, оттого что признан взрослым – и был счастлив. Нельзя, чтобы все сейчас кончилось.
– Где мы ее разопьем? – спросил Виктор, помахав бутылкой, и сел в такси.
Хильдегунда на заднем сиденье вроде бы немедля прижалась к нему… увы, нет! Она просто рылась в сумке и невольно слегка прижалась к нему, когда вытаскивала сумку, торчавшую между ними как толстая защитная перегородка, и ставила ее с другого боку, безобразную сумку из черного кожзаменителя, формой похожую на пакет из супермаркета. Странно. Он ожидал увидеть сумку пошикарнее, последний крик моды. Хотя, возможно, сейчас в моде как раз такие сумки, или оригинальность в том-то и заключается, чтобы ходить со старомодной сумкой, или она, супруга учителя религии и мать пятерых детей, полностью утратила контакт со всем мирским. Он глубоко вздохнул.
– Нашла, вот он! – победоносно воскликнула Хильдегунда, вытащив толстый комбинированный швейцарский ножик, из которого… о нет! она сломала ноготь на указательном пальце. – Ничего страшного! Тут и ножнички есть! – Она извлекла из ножика штопор и улыбнулась: – Держи!
– Куда поедем? – Таксист особого нетерпения не выказывал, счетчик включен, торопиться незачем. Голос его звучал ворчливо, потому только, что звучал так всегда. Виктор и Мария смотрели вперед, на широкий бычий загривок таксиста, он, охая, повернулся, они увидели мясистое лицо и здоровенное пузо, которое он отрастил за долгие годы сидения за баранкой. Они переглянулись и тотчас поняли, что подумали об одном, у обоих возникла одна и та же ассоциация:
– Оке…
– …форд!
– Ты помнишь!
– Еще бы!
Полагаться на это нельзя, но порой все-таки возникает ощущение, будто в устройстве жизни есть некая внутренняя логика. Нож. Этот таксист. «История про плод чрева». Конец детства.
– Поезжайте! – Виктор.
– Извольте! С удовольствием! А куда? – С плохо разыгранным спокойствием таксист побарабанил толстыми пальцами по рулю.
– Вы же слышали: поезжайте! Просто поезжайте! – Хильдегунда.
– Круговой маршрут! – сказал Виктор, забирая у Хильдегунды швейцарский ножик. – Например, прямо, потом по всему Рингу, потом до пристани. Поезжайте! – Виктор воткнул штопор в пробку. – А что это за музыка? Радио?
– Нет, – ответил таксист, – кассета. Списал с компакт-диска. Софт-рок три!
– Софт-рок! – Хильдегунда посмотрела на шофера. – С ума сойти!
– Прелесть! Разве нет? – сказал Виктор. – Сделайте погромче, да, еще немного, вот так хорошо! И поезжайте, наконец! – С тихим хлопком пробка выскочила из бутылки. Шофер, пыхтя, обернулся, недоверчиво взглянул на пассажиров. Виктор бросил на сиденье рядом с таксистом тысячную купюру. – Поезжайте! Мы скажем, когда остановиться.
Машина рывком тронулась с места, и Хильдегунда как будто бы вправду прижалась к Виктору, наконец-то! Нет! Она опять рылась в сумке, искала сигареты.
Свои первые сигареты, по крайней мере для него они были первые, они выкурили сообща, ночью на лужайке в Оксфорде, у Модлин-ривер, сидели рядом, прислонясь к стволу старого-престарого дерева с огромной, как купол собора, кроной. «Пэлл-Мэлл» без фильтра, одна сигарета на двоих, которую они передавали друг другу, отчего курение чем-то напоминало раскачивание кадила.
Поезд в Англию, полный австрийских подростков. Их становилось все больше. После того как состав отъехал от Западного вокзала, они подсаживались повсюду – в Санкт-Пёльтене, Линце, Вельсе, Аттнанг-Пуххайме, Зальцбурге. Но с самого начала внимание привлек один парень, крупнее и шире других, да и постарше, как выяснилось, ему уже стукнуло восемнадцать, пухлый и заносчивый жиртрест: Валленберг Младший, сын могущественного австрийского политика; поначалу все и звали его просто Младший. Этот избалованный толстяк, который ни секунды не задумывался над вопросом «сколько стоит мир?», исходил из того, что мир принадлежит ему, а он продавать не намерен! – этот откормленный принц в конце концов получил прозвище Мистер Оксфорд. С ударением на «оке», сиречь на «бык, болван»! Прозвище было весьма презрительное, и тем не менее он чувствовал себя весьма польщенным: Оксфорд, – и это слово, обозначавшее мир того лета, стало плотию, да как!
По приезде в Лондон ученики пересели в челночные автобусы, которые доставили их в Оксфорд. Младший конечно же сел в первый автобус, в первый ряд, который другие ученики робко оставили свободным – для руководителей поездки. Виктор, желавший непременно сидеть рядом с Хилли, умудрился ее прозевать, блуждал меж автобусов, и в конце концов его втолкнули в тот, где оставалось одно-единственное свободное место – в первом ряду, рядом с Младшим. Ничего себе пара: мальчик, желавший узнать мир, и парень, этим миром владевший. Мальчик, которому все было в новинку и вызывало волнение, а рядом тот, кому все уже наскучило. Мальчик, не имеющий опыта, ничего не знающий, маленький, съежившийся на сиденье, а рядом широкий, дородный детина, монумент нарочитой искушенности: «Любишь ходить в бары „Уимпи“ [23]23
Сеть закусочных, где основное блюдо – котлеты в поджаренной булочке.
[Закрыть]?» Виктор понятия не имел, что это такое, и тотчас испугался, что не сориентируется, не будет знать, как себя держать, если их поведут в такой бар. «Я тоже не люблю, – объявил Младший. – Ерунда это. Нам надо будет найти приличный паб поблизости от колледжа». Он осклабился, а Виктор так растерялся, что поспешил с ним согласиться.
«А какое расстояние от Лондона до Оксфорда?»– спросил Виктор, чтобы извлечь из этой энциклопедии мировых знаний, именуемой Большой Валленберг, информацию, которая не слишком его напрягала.
Такси катило сквозь ночь, и Виктор вдруг почувствовал себя в точности, как тогда, в то английское лето: беспомощным и вместе с тем полным больших надежд, изнывающим от страха и одновременно от страстного, томительного ожидания. Страх стучал в висках, и ожидание тоже, не различить, что сильнее, – они сливались в одно.
«Думаю, ехать часа полтора, – сказал Младший и немедля ухватился за возможность продемонстрировать свой английский. – Hey! Listen! How many kilometers, – крикнул он шоферу, – are from London to Oxford?» [24]24
Послушайте! Сколько километров от Лондона до Оксфорда? (англ.).
[Закрыть]
Шофер не понял ни слова. И вообще, в Англии расстояния в километрах не меряют. Младший, светлая голова, смекнул, что спросил не так, порылся в памяти, отыскивая английскую меру длины, и повторил вопрос: «How many inches are…» [25]25
Сколько дюймов… (англ.).
[Закрыть]
Таков был Валленберг Младший, болван. На следующий же день, когда все сидели на утренних занятиях, он исчез, чтобы добыть себе в городе английские driving licence [26]26
Водительские права (англ.).
[Закрыть]: ему уже стукнуло восемнадцать и в Австрии он сдал на права. Потом он взял напрокат машину, «форд-остин», своеобразного красно-коричневого цвета.
За обедом Виктор впервые в жизни ел баранину. И он единственный щедро воспользовался столь же новым для себя мятным соусом, который вызвал у остальных отвращение, даже ужас, и побудил к циничным комментариям насчет «английской кухни», где, кроме breakfast [27]27
Завтрак (англ.).
[Закрыть],ничего съедобного нет. Виктор не задавался вопросом, пришлось ли ему это по вкусу. Он, питавшийся исключительно интернатскими сборными перво-вторыми да материнскими фантазийными супами, не разбирался в кулинарии и не считал себя вправе судить: это хорошо, а это плохо, это вкусно, а это нет. Мятный соус был для него просто одним из несчетных компонентов окружающего мира, ему неведомого. И вкусовые качества тут дело десятое. Виктору хотелось безоговорочно вобрать в себя весь мир, его вкус, его запахи, его остроту, его кипение. Вполне возможно, что впоследствии он бы присоединился к общеконтинентальной вкусовой оценке и пресыщенно заметил бы, что мятный соус, разумеется, штука сугубо британская, но ему не по вкусу, однако тогда самым главным для него было – вобрать в себя и переработать.
После обеда они вышли в сад, как раз когда подъехал мистер Оксфорд на своей прокатной машине. «Кабриолета у них не нашлось, и я выбрал авто по цвету! Английский кармин!» – сообщил Младший весьма небрежно, так что ему пришлось трижды повторить это заявление, чтобы услышать реакцию. Этой машиной Младший гордо и упорно будет портить гравийную дорожку перед колледжем. Способа сладить с ним не существовало. Могущественная рука отца, казалось, и до Англии дотягивалась, видимо, так, коль скоро тут без обману.
С этой машиной Младший и стал Мистером Оксфордом, символом того лета, центральной фигурой, через него соединилось и сплотилось все то, что иначе бы осталось разорванным, разъятым. Девочки ночевали отдельно, в центре города, а сам Плейтер-колледж, где ночевали мальчики и днем проходили общие lessons [28]28
Уроки, занятия (англ.).
[Закрыть]и трапезы, располагался за пределами Оксфорда.
Каждую ночь Мистер Оксфорд на своей машине цвета окровавленного мясницкого фартука возил Виктора и других ребят к девчачьему дому. Оксфорд работал таксистом влюбленных, дворецким подростков, его использовали и презирали, но он-то считал себя героем этого лета и ходил с таким видом, словно, не будь его, человечество бы просто вымерло. Конечно, тот или иной пронырливый гимназист сумел бы и на автобусе добраться до девчачьей обители, однако ж Мистер Оксфорд обеспечивал дополнительную ночную жизнь, которой без него впрямь бы не было. Наряду с «The House of the Rising Sun»,которую снова и снова наигрывал на гитаре сын одного зальцбургского ресторатора, приближающийся и удаляющийся гул мотора «остина» и стук дверец, захлопываемых подростками, что садились в машину или выходили из нее, – вот музыка этого лета.
Примерно в том же возрасте, в каком его дядя записался в британскую армию, чтобы сражаться за свободу континента, Виктор ехал по ночной Англии к своей любимой, «на такси», за рулем которого сидел смешной толстяк и с видом ветерана разглагольствовал о «траханье», – и в этом не было ничего, ни несвободы, ни свободы, только смутное ощущение, что для него, Виктора, одно как бы переходит в другое.
Останавливаясь на красный, толстяк таксист в зеркало заднего вида разглядывал своих пассажиров. Он явно испытывал большое раздражение. Свершилась мечта любого таксиста, люди хотели просто покататься по городу, без цели, без спешки, на сотни, а то и на тысячи шиллингов, – а он недоумевал. Что это за люди? Почему они так поступают? В конце концов у него вырвалось:
– Слушайте, это что, любовная поездка?
– Нет, ненавистная! – Хильдегунда. – Мы ненавидим друг друга. И нам необходимо это распробовать. Поезжайте дальше!
Минут пять покоя обеспечено, под софт-рок три на полной громкости.
Хилли, без сомнения, была первой красавицей того лета, потому что умела полностью соответствовать тогдашнему идеалу красоты. Каштановые волосы до плеч. Под футболкой обозначалась маленькая крепкая грудь, не стесненная бюстгальтером, по форме и, как с разгоряченным восторгом думал Виктор, по консистенции напоминающая насос для надувного матраса, который, если на него нажать, упруго возвращается в исходную круглую форму. Как ни завораживала Виктора эта упругая грудь, он никак не мог до нее дотронуться, хотя в воображении часами подбирался к этой возможности, но, когда ночью в конце концов оказывался наедине с Хилли, не находил ни слова, ни движения, ни малейшего повода, из которого логически и естественно воспоследовало бы такое прикосновение. Руки у него словно бы связаны, а вот сынок ресторатора, тот, что с гитарой, вскоре уже хвастал, будто не только рукой потрогал, но не больше и не меньше как засунул между этими грудями свой член. Виктор пробовал представить себе, как сидя, лежа или стоя сделать то, что якобы делал с Хилли Йонни Гитара, и пришел к выводу, что это невозможно. Гротескные, немыслимые позы. Чистейшие выдумки. Он не ревновал, он восхищался подобной фантазией. Сам-то никогда бы не додумался. Да, фантастическая штука – мир.
Хилли была очень стройная, чуть ли не тоненькая, чрезвычайно длинноногая. Ходила в мини-юбочках или в коротеньких, очень тесных штанишках, так называемых мини-брючках. Плюс сандалии, ремешки которых крест-накрест оплетали ногу до колена. У нее одной ноги в этих сандалиях выглядели не как перевязанное шнурками жаркое, а именно как ноги, да какие – хотелось самому обвить их вместо ремешка. Хилли определенно могла бы считаться просто типичной девушкой той эпохи, если б не лицо, своенравная и гордая демонстрация яркой, неповторимой индивидуальности: близко посаженные глаза, а главное – рот, чуть искривленный с одной стороны, придававший лицу нагловато-ироничное выражение, хотя это была не более чем физиогномическая особенность. Не забыть еще родимое пятнышко на левой щеке – или на правой? Думая о ней – а Виктор думал о ней, даже когда сидел подле нее в такси, – он не мог твердо сказать, справа это родимое пятнышко или слева, оно металось туда-сюда, ее лицо находилось в постоянном движении. Он пристально смотрел на нее. Теперь-то я обязательно запомню, думал он и в тот же миг опять все забывал.
Будто Виктор вообще знал, где право, а где лево. Если и знал, то разве только в буквальном смысле. В то щедрое лето он усвоил, что буквальное не просто не имеет значения, но вообще ошибочно. Любовь, например, на самом деле не бывает такой, как в книгах. Или Сисси Ар – все о ней говорили, а ее не существовало, это не певица, а группа под названием «Криденс Клируотер Ривайвл», которую искушенные знатоки коротко именовали «Си-Си-Ар», – откуда интернатскому воспитаннику знать такое? Если он и слышал в интернате музыку, то федеральный гимн, или церковные хоралы на школьных мессах, или на уроках музыкального воспитания хоровое пение «Быть счастливым очень просто, а кто счастлив, тот король!», гремевшее из глоток тридцати депрессивных подростков. Или вот одноклассник Хумбольдт – единственный, у кого были пластинки. Но в интернате слушать пластинки негде. И все же Хумбольдт каждый раз после каникул привозил в интернат новые. В свободное время он сидел, ладонью прижимал пластинку к уху, вращал ее другой рукой и с наслаждением улыбался. Часами мог предаваться этому занятию и быть счастливым. Они с катушек съезжали в этой своей школе, их готовили для мира, который, когда их наконец выпускали, продолжал существовать только в закрытых учебных заведениях. Сейчас семнадцатилетний Виктор сидел на оксфордской лужайке, одурев и едва не падая в обморок от «Пэлл-Мэлл» без фильтра, знал наизусть все стихи Катулла о поцелуях, разумеется на латыни, а не в немецком переводе, чувствовал под штанами мокрую траву, а за спиной – жесткую, грубую кору дерева и был так же далек от поцелуя, как Сисси Ар от «Си-Си-Ар». Буквальное: например, кольцо – это кольцо? Да? Ничего подобного! Промах, да такой, что из разницы между кольцом и кольцом, из пропасти между буквальным и реальным, вероятно, и выросло презрение, какое Хильдегунда затем столько лет не иначе как питала к Виктору. История с кольцом, его притча о кольце разыгралась в самом конце лета. Но еще за несколько недель до этого в голове у Виктора упорно вертелся вопрос: почему мир функционирует не буквально? Он владел родным, материнским языком, здесь улучшал свой иностранный, кстати отцовский, однако же в нем постоянно усиливалось ощущение, что ему недостает слов. И, даже выучив сотню языков, реальность, саму жизнь он все равно не освоит, слишком много всего в этой реальности намешано, всякие непонятные ему коды, значения, не совпадающие со значениями слов.
«О чем я сейчас думаю? Да вот как раз вспомнил одну историю, – сказал Виктор Хилли. – Однажды я ехал с отцом в машине, не помню уже куда. Было мне тогда лет двенадцать или тринадцать. Так или иначе… – Хиллй иронически усмехнулась. Уже теперь? Почему? – Так или иначе, отец заехал не туда, а может, просто подумал, что заехал не туда, достал из бардачка дорожную карту и, продолжая тихонько ехать, попытался одновременно изучать эту карту. Задача нелегкая, ведь он то и дело поднимал голову, смотрел на дорогу, потом опять на карту, не знаю, почему он просто не остановился. Дорога-то была пустая, никаких машин, остановиться можно где угодно». Тут снова подъехал «остин», из него выскочили две парочки, а Мистер Оксфорд, дважды прогудев клаксоном, уже отправился за следующими. Здесь, на прибрежной лужайке, сидели и лежали австрийцы из летней школы, по двое либо маленькими группками, разговаривали, курили, целовались или слушали Ионнину гитару. «Ясное дело, отцу не удавалось сориентироваться по карте, ведь он поминутно смотрел на дорогу, и в конце концов он вдруг велел мне держать руль».
Хилли покачивала головой. В такт долетающим до них звукам гитары. «„Попкорн“», – сказала она.
«Прости?»
«„Попкорн“, – повторила Хилли, – песня, которую играет Ионни, называется „Попкорн“. Мне нравится. Между прочим, сыграть ее на гитаре совсем непросто».
«Да, – сказал Виктор, – в общем, я обеими руками схватился за руль, крепко держал, машина медленно катила по дороге, отец изучал карту. До тех пор дорога все время шла прямо, а тут неожиданно возник поворот. Я был в отчаянии. Испугался, вспотел. Как поступить?»
«Ты же не всерьез спрашиваешь?»
«Послушай: отец сказал, чтобы я держал руль. Не сказал, чтобы я рулил. Это же разные вещи – держать руль и рулить. Я очень-очень хотел быть послушным пай-мальчиком, хотел доказать отцу, что на меня можно положиться. И раз он говорит, держи руль, я держу руль, и будь что будет».
Хилли покачивала головой. Слушала ли она?
«Пойми! Ребенку можно приказать: держи руль! А тем самым дать ему сигнал: я тебе кое-что доверяю! Но ты никогда не скажешь ребенку: порули-ка немного вместо меня, будь добр! Я имею в виду, любому ребенку ясно: рулить, по-настоящему вести машину – привилегия взрослых!»
«Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп!»
«Что?»
«Песня, – сказала Хилли, – она мне нравится!»
«Н-да. В общем, у меня душа ушла в пятки от страха. Машина медленно катила по прямой, я крепко держал руль, а впереди виднелся поворот. Я знал: если отец сейчас не поднимет голову, мы съедем с дороги, свалимся в кювет. И понимал, что надо повернуть руль. Но отец не велел рулить, велел держать руль! Можно бы, конечно, сказать: папа! Там поворот! Да только я онемел. Был так поглощен великой задачей держать руль, не разочаровывать отца, показать, что я способен выполнить поставленную задачу, а там будь что будет! С другой же стороны, я понимал: надо рулить! И я…»
«Повернул руль!»
«Нет. Упрямо его держал. Тут отец, к счастью, поднял глаза от карты, в последнюю секунду успел вывернуть руль, машина чиркнула по краю кювета, выехала на дорогу, а отец сказал: поверить не могу, что мой сын такой дурень. Тебя, случайно, не подменили в больнице?»
«Пошли, давай пересядем к ребятам!»
Виктор не сумел произвести впечатление на Хилли. И когда они встали и направились к беспощадной гитаре, игравшей « House of the Rising Sun»,опять упрямо подумал: он же не сказал, чтобы я рулил, он велел крепко держать руль! А ты спросила, о чем я думаю, а вовсе не о том, чего мне хочется.
«Отвези меня домой!»– сказал он Мистеру Оксфорду.
Виктор отхлебнул глоток красного вина, передал бутылку Хильдегунде, которая иронически усмехалась. Тем самым уголком рта.
– В сущности, – сказал он и рыгнул, – безразлично, говорим ли мы сейчас о тысяча девятьсот семьдесят втором годе или о тысяча шестьсот двадцать втором. То и другое – история, в сущности, словно кратеры на чужой планете!
– Тебя на философию потянуло!
– Нет, я просто говорю как профессиональный историк, – сказал он, чуть ли не прокричал – успел привыкнуть за длинным столом «Золотого тельца».
– Не кричи, пожалуйста!
– Конечно. Извини! – отозвался он, почти заговорщицким шепотом. – История, нет, историография в последнее время функционирует именно так: сорокалетний рассказывает с авторитетностью пережившего то, о чем семнадцатилетний уверенно рассказывал как о пережитом в двенадцать лет. Понятно?
– Нет!
– Помнишь нашу притчу о кольце?
– Нет!
Хильдегунда лгала. Вот сейчас она прижалась к нему. Наконец-то. Хотя нет. Просто поворот. Центробежная сила. Виктор спросил себя, не потому ли так восхищается Хильдегундой, что она всегда способна перевернуть физику с ног на голову: сумела развить центробежную силу, прежде чем жизнь сделала поворот.
Так называемая притча о кольце, по сути, была банальной историей, простым недоразумением. Нужно быть семнадцатилетними, причем именно в те времена, и принадлежать к двум разным мирам, чтобы подобное переживание могло оставить глубокий кратер по меньшей мере в одном из двух миров.
Быть счастливым очень просто, усвоил Виктор, достаточно с воодушевлением включиться в общий хор, когда Йонни пел « Born to Be Wild».Усвоил он и еще кое-что: это блаженство называется «жизнерадостность». Наконец-то у него есть жизнерадостность. Ночные вылазки вошли в привычку, все уже наизусть знали тексты Йонниных песен. Йонни сделался предметом обихода, музыкальным автоматом, как Валленберг – такси. Теперь к привычным восторгам примешивалась грусть: лето шло к концу. Виктор нервозно наблюдал, как все ускорили темп, последний рывок перед финишем. Финиш именовался «опытом». А он ни разу даже не дотронулся до Хилли. Не поцеловал ее. Впрочем, он не жаловался, уже был счастлив, если она сидела рядом и слушала его, а выслушать ей пришлось немало, ведь он боялся молчания. Если они оба станут молчать, что тогда? Тогда немедля возникало напряжение. Перенапряжение, до того сильное, что безмолвный взгляд мог пустить его в распыл. Но теперь напряжение возникало, даже когда он говорил. Потому что вокруг почти не разговаривали. Последний рывок, спурт. Там пели, целовались, обнимались – и исчезали. Поначалу вокруг Йонни сидело три десятка ребят, теперь же – максимум половина, меньше половины, намного меньше. Горстка. А остальные? Виктор разглядывал свои руки. Почему он не мог протянуть руку, схватить? « Somebody in Love».Виктор громко пел вместе со всеми. Жизнерадостность.
«Слушай, – сказала Хилли, – английское произношение у тебя вправду очень хорошее, но поешь ты жутко фальшиво, просто уши вянут! Не умеешь петь, так лучше помалкивай!» Очень мило, что Хилли сперва похвалила его, а уж потом уничтожила. Ясное дело, она обожала Йонни. Хотела слушать одного Йонни. Не желала больше сидеть с Виктором в стороне, слушая музыку на расстоянии, не желала с ним разговаривать. Слушать его. Ей хотелось сидеть в кругу, возле Йонни. Виктор понял это еще и по тому, как Йонни ее игнорировал, прежде чем исчез вместе с ней.
В фильмах, которые Виктор на каникулах видел в свой глазок, герои всегда признавались в любви, вручали кольцо, и лишь затем мужчина получал избавительный поцелуй. А если ему, что бывало редко, попадал в руки номер «Браво», то д-р Зоммер, якобы отвечая на письмо некоего Кая-Уве (16 лет) из Равенсбурга или Ханса-Дитера (17 лет) из Букстехуде, советовал: «Нет, твоя подружка не фригидна, если не целует тебя! Сперва ты должен показать, какие чувства к ней испытываешь, тогда все остальное произойдет само собой!»
Как Йонни это сделал? Как показал, какие чувства к ней испытывает? Может, Хилли решила, что этот музыкальный автомат играл только для нее? А если да, то как Иоганн Гёльс, по прозвищу Йонни Гитара, это сделал? Себялюбивый юнец, в свои семнадцать уже непомерно толстый, которого, если не знать, что в свое время он станет ресторатором, можно было принять за будущего серийного убийцу, а фамилия – ну точь-в-точь название провинциальной австрийской железнодорожной станции. Гёльс! Остановка одна минута!








