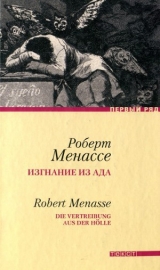
Текст книги "Изгнание из ада"
Автор книги: Роберт Менассе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Существует ли воскресение из мертвых? Мог ли отец видеть его, мог ли наблюдать с небесных пажитей, что он, Самуил, Мануэл, Мане, Манассия, все ж таки стал тем идеальным сыном, который мог исполнить желания и мечты отца, служил ему и подчинялся? Что он, слепец, стал провидцем, фальшивый христианин – гордым евреем, наивный простак – ученым книжником, подданный – гражданином? Никакого презрения, отец, никакой ненависти к происхождению, никакой ностальгии по тому миру, где для таких, как ты, не было места. Да будет и твоя воля! Слезинка. Получил ли он отпущение и от отца? Получил ли?
Рука в бороде, глаза закрыты. Получил ли?
Еще одна слезинка. Удастся ли ему наконец в новой жизни то, что в прежней потерпело столь жестокую неудачу? Построить свою жизнь внутри жизненных условий, не быть отщепенцем, аутсайдером. Приспособиться… нет, одного этого слишком мало!.. быть принятым, интегрированным, признанным в своем окружении, достойным уважения, да, непременно достойным уважения, так, чтобы на улице с ним здоровались и за этим не пряталось ничего, никакого подозрения, никакой фальши, только признание того, кто он и что он. Добьется ли он когда-нибудь от общества этого отпущения? От мира? От собственной души? Странно: ведь это одно и то же, это тождественно – мир и душа. Если мир скажет «да», то и душа скажет «да». И страх исчезнет из мира, вибрация исчезнет из души.
И эта слеза скатилась в бороду. Все образуется. Родителям не удалось это увидеть. Увидеть… просто увидеть, своими глазами.
Манассия учился, проявлял ученость и пожинал похвалы наставников. Когда он дискутировал, хвалили его начитанность, многообразие продуманных аргументов, которые у него всегда выступали попарно и в своем стремлении к взвешенности регулярно взаимно уничтожались. Когда он выступал в ешиве, а в скором времени и в синагоге, хвалили его риторику, богатство применяемых им речевых фигур, каковое он черпал из систематического изучения античных образцов. Если он готовил речь, то сидел до тех пор, пока ему не удавалось включить в dispositio [54]54
План (лат.).
[Закрыть]каждый или почти каждый известный ему ораторский прием. При выборе слов – гиперболу, синекдоху (особенно изящно: pars pro toto [55]55
Часть вместо целого (лат.).
[Закрыть] ),перифраз, эвфемизм, метонимию, метафору и символ. В словосочетании – хендиадиойн, плеоназм, катахрезу, тавтологию (странным образом она всегда действовала!), оксюморон (гарантировал «глубину» речи), литоты. В построении фраз – анафору, хиазм (его он особенно любил, пока Абоаб не упрекнул его в «предательской страсти к распятию языка»!), эллипс и риторический вопрос… нет, этого последнего он избегал как излюбленного стилистического приема Абоаба. В логике мыслей – паралипс, прокаталептику (очень редко!), апорию (жаждая ее разрешить), параболу и аллегорию.
Он знал, что речь, умело использующая означенные приемы, удостоится похвалы, однако знал и что эти самые приемы приводили любую речь на грань, а то и за грань демагогии, а потому всякий вихрь риторических фигур охотно предварял фразой: «И заметьте, я говорю это без демагогии! А от сердца!» А в сердце у него хранились все эти правила.
Пожалуй, это были и все его «оригинальные» достижения. Он не принадлежал к числу оригинальных мыслителей. Он был одержим и в своем страхе перед провалом обречен на систематическое подражание. Сам чувствовал, что все это приемы, в смысле «чистые приемы», фокусы, ухватки, формализмы, благодаря которым неоригинальная мысль выглядит лучше оригинальной, изложенной без подобных выкрутасов. Он освоил этот способ, получал за него похвалы, даже когда сам еще оставался недоволен блестяще представленными формулами, прямо-таки ругал себя за то, что недостаточно хорош, слишком глуп и ограничен, – и вдруг понял: ему с легкостью удавалось снискать похвалу, мерило находилось не в нем, а в окружающем мире, он был лучше для других и чем другие, хотя себя самого не удовлетворял. Это понимание поразило его как молния, обожгло, ночью он глаз толком не смыкал, вслушиваясь в себя и слыша, как потрескивает внутри огонь, пожирает его, катастрофа и счастье: ведь благодаря этому, как он осознал, можно построить жизнь. Добиться почета, признания.
Однако: вправду ли он достиг искупления? Достаточно ли было этих фокусов? Заглажена ли вина? И возможно ли вообще загладить эту вину? Какую вину?
Этот кошмар.
Будь как камень! Он был слишком мягок. Но до сих пор всегда своевременно слышал призыв Эсфири: «Будь как камень!»
Вот ты сумел! – думал он, поднимая голову и глядя на сосуд с окаменелым эмбрионом на столе. Брат. Окаменевший в состоянии абсолютной невинности. Ты сумел! Ты теперь… Что? Нет, он не был оригинальным мыслителем. На нерожденном окаменелом брате не было надписи, не было ничего, что он мог бы цитировать, варьировать в ораторских фигурах и так сделать содержанием своих мыслей. И лишь эти два слова на миг оставались в мозгу, яркие, горящие, но недвижные, словно вот сейчас каменеющие: ты теперь!..
Трудно быть как камень. Стоило ему подумать, как родители ложились в гробы almocreve,и его тотчас одолевали сантименты. При одной мысли о Сеньоре, о коте, голос становился тонким и плаксивым, потому что он напрягал нижнюю челюсть, пытаясь сдержать слезы. Увидев лошадь, впряженную в тяжеленную телегу, он готов был от сострадания обнять бедолагу. «Отец говорил мне…» или «Мама все время твердила, что…» – любимые патетические присказки, предваряющие банальные истины, какими он, как ребенок, увещевал, себя самого. Эсфирь не могла припомнить ни одной из фраз, которые он приписывал родителям. Она лишь смотрела на него и качала головой:
– Вот что я тебе скажу! Делай что хочешь, но будь добр, так и говори, что это твое желание. И перестань, сидя полночи за книгами, твердить, будто так хотели родители! Будто ты у них в долгу! Они умерли. Что ты им задолжал? Если уж тебе требуется обвинительный приговор, пожалуйста: родители умерли и ты приговорен самостоятельно строить свою жизнь!
– Как ты можешь так грешить? Вдруг родители слышат нас?
– Ты веришь в воскресение из мертвых?
– Да! Если Бог всемогущ, а душа вечна, логично заключить, что…
– Слушай, братец! Не так уж это и логично! В чем тут логика? Я уже не говорю о том, можно ли вообще рассуждать о НЕМ в категориях логики! Стало быть, шаг за шагом: ГОСПОДЬ всемогущ. Согласен? Хорошо. Если ОН всемогущ, то в ЕГО власти и даровать людям вечную жизнь, то есть воскресить мертвых. Согласен?
Хорошо. Поскольку телесная оболочка истлевает, должно принять, что ГОСПОДЬ дарует вечную жизнь именно душе. Поэтому если они нас слышат, то находятся рядом как бы незримо. Верно? Да? Видишь, вот тебе первое противоречие твоей так называемой логики: если душа бессмертна и только душа продолжает жить на том свете, именно потому, что бессмертна, тогда я спрашиваю себя: при чем тут воскресение? Вечно живое продолжает жить вечно – где тут воскресение? Ведь тут все равно как если бы я вышла за мужчину, с которым только что познакомилась, и назвала это воссоединением. Минутку, погоди! Послушай меня. У нас же было второе условие, мы исходили из того, что это – доказательство всемогущества ГОСПОДА. Верно? Верно! Отлично! Как ты трактуешь всемогущество?
– Всемогущий может все – все сделать, все решить, все осуществить! Может все, что хочет! Примерно так.
– Он может все, что хочет! Хорошо! И потому может даровать людям вечную жизнь! А значит, жизнь после смерти существует. Так? Почему ты киваешь? С чего это вдруг забыл свои собственные слова?
– Какие собственные слова?
– Ты не только сказал, что ОН может; ты сказал: ОН может все, что хочет! Вот! И теперь я спрашиваю тебя: ты, именно ты знаешь, чего ОН хочет? Ты хочешь вечной жизни, ты говоришь, ОН всемогущ, а значит, уже веришь, что ОН дарует тебе вечную жизнь, потому что может. А вдруг ОН не хочет? Всемогущество означает «мочь», но не обязательно означает «хотеть»! Если ОН захочет, то может даровать миру вечный мир… Может или нет? Может. Но хочет ли? Очевидно, нет! Вот видишь, как обстоит с всемогуществом! Как с завтрашней погодой: может пойти дождь, но необязательно! Ты уверен, что хочешь стать раввином?
– Ты же сама сказала, что мы, мы оба, знаем тайну воскресения. Ты, именно ты мне сказала: никогда не забывай об этом!
– Мы откопали мертвого кота! Собственными руками. Я думала, ты понял. Слушай, ты не задумывался о возможности заняться какой-нибудь светской профессией? Просто зарабатывать деньги?
На досуге Манассия предпочитал сидеть на ступеньках «Макома», глядя на своего сандака, драящего башмаки, слушал его рассказы и частенько с печальным выражением в глазах ронял:
– Отец всегда говорил, что…
Чем целыми днями занималась Эсфирь, Манассия не знал. И не спрашивал. Ей виднее, что делать. У него дел было по горло, и об Эсфири он думал примерно как о матери, к которой после напряженного дня приходят ужинать. Шесть часов занятий в ешиве, каждый день. Только в пятницу всего четыре часа, чтобы вовремя, до захода солнца, вернуться домой и успеть совершить очищение перед субботой. Сама суббота, конечно, от занятий свободна.
Ежедневно после четырех часов занятий они устраивали сообща полуторачасовой перерыв. Им подавали густой суп, большей частью крупяной. За трапезой разговаривать воспрещалось – недаром перерыв назывался суповым. «Суповой перерыв» предназначался для того, чтобы после изучения Священного Писания воспрепятствовать праздной мирской болтовне. Впрочем, никому из студентов вовсе и не хотелось нарушать запрет, все воспринимали его как отраду. Они ведь и так уже четыре часа непрерывно говорили, поневоле говорили: «изъясняя», то бишь продумывая, талмудические вопросы. Во время «допросов» – так именовались въедливые вопросы раввина по заданной теме, когда короткий ответ всегда был плох, ибо выдавал нехватку начитанности. И во время «защиты», сиречь диспута, когда студентов приучали после выступления коллеги, даже если они соглашались с изложенным тезисом, отыскивать и формулировать любые возможные критические возражения, дабы проверить, сумеет ли оратор опровергнуть оные. Ни дружбы, ни дешевой похвалы, ни вежливого согласия – здесь царила только истина и ее извилистые пути. После четырех часов изъяснений, допросов и защиты никто не горел желанием поболтать, тем более что после перерыва ждали еще два часа таких же занятий.
За супом следовало так называемое затемнение: каждый студент приносил себе из кладовой один из хранившихся там лежаков, легких, плетенных из ивовых прутьев коек, которые расставляли в ряд в школьной передней. Всем надлежало лечь и с закрытыми глазами дожидаться, пока не пересыплется песок в часах. Спать не обязательно. «Нельзя заставить человека спать» (рабби Узиил), но можно каждого человека научить благодаря затемнению (то есть закрытию глаз) расслаблять голову и тело!
Затем еще два часа занятий. Точно молния, указка раввина тыкала в книгу, скользила по строчкам, а студент, читая вслух текст на языке пророков, должен поспевать за ее движением.
Дважды в неделю после уроков в ешиве Манассия спешил прямиком в Свободный университет, где записался на «физику». И здесь за его обучение тоже платила португальская община Амстердама. Физика включала изучение законов природы и медицину. Его интересовала в первую очередь медицина. Сила тяготения и подобные феномены его не занимали. Их он принимал как данность. Тот, кто начинал научно размышлять над этим, оглянуться не успевал, как полжизни уходило на раздумья, почему человек не ходит на голове. Так казалось Манассии. То ли дело медицина: он слушал лекции Хёйгенса, ван дер Веена и Давида да Кошты, прозванного Давид ван Иоденхук, первого в Амстердамском университете врача-еврея, который был весьма спорной фигурой, ведь, нарушая с позиций науки какой-нибудь еврейский запрет, он тотчас сталкивался с ненавистью и резкими нападками единоверцев, а пытаясь соединить еврейские и природные законы, пожинал за свою ограниченность критику коллег-христиан.
Более всего Манассию увлекали анатомические уроки Хёйгенса и Тульпа, их он почти никогда не пропускал. Заглянуть в нутро человека! Но и видеть снаружи то, что напоказ не выставляют! Половые органы! Он не был вуайеристом, которому охота увидеть у мертвых женщин то, чего он не видел у живых. Его интересовали мужские гениталии. Обрезанные и необрезанные. Принципиальное строение пениса. Над Самуилом Манассией «Двухвостым» поначалу посмеивались из-за этой «зацикленности». До ушей рабби Узиила дошло, что его талантливый ученик не иначе как некрофил или гомосексуалист, и он вызвал Манассию на беседу. Научные рассуждения Манассии успокоили его – и привели к революции в технике ритуального обрезания. Изучая трупы мужчин-евреев, Манассия заметил, что даже при так называемых удачных операциях никто из мохелов не обращал внимания на проблему уздечки и тем более не решил ее. Уздечка – это маленькая кожная связочка, которая при необрезанном пенисе эластично связывает изнутри головку с крайней плотью. Не существовало ритуального закона, предписывающего удалять при обрезании эту связку. Вообще ни слова не говорилось о том, как с нею быть – сохранять или удалять. Манассия заметил, что обрезания, при которых уздечка волею случая сохранилась, почему-то «выглядели лучше» других. Рубец на конце ствола пениса казался меньше и не так выпирал, кожа на переходе к головке была эластичнее и менее подвержена повреждениям в случае… ну, очевидной нагрузки. И скоро он пришел к выводу, что при обрезании необходимо сохранять означенную связку. Завет с Богом, аргументировал он, создается через удаление крайней плоти, а не иссечение уздечки. В восемнадцать лет он не только опубликовал памятную записку для мохелов, но и разработал соответствующий инструмент, каковой сперва назвал «щит обрезания», а затем по-еврейски – «маген». Инструмент этот не только препятствовал ошибочному удалению уздечки, но и защищал от несчастных случаев, могущих привести к повреждению головки, как случилось с самим Манассией.
После факультета он спешил на Бреестраат, к гостинице «Маком», к своему сандаку, горя желанием послушать новые Ариэлевы истории. Никто не знал такого множества удивительных, мудрых, необычайных историй, как чистильщик обуви Ариэль Фонсека. Потом, тоже беглым шагом, направлялся домой, где немедля опять садился за книги и читал до самого ужина. О чем он говорил с Эсфирью за столом? Не о ней, не о том, как прошел ее день. Он рассказывал про ешиву, хотел, чтобы она похвалила его за похвалу, полученную от раввина. Думал, что она будет счастлива и горда. Рассказывал ей новую историю Ариэля и думал, что завораживает Эсфирь. Сообщал о своем инструменте, о «магене», и о том, что первые две операции, произведенные с его применением, разумеется с разрешения родителей мальчиков, дали блестящий результат. Он предполагал, что Эсфирь воспримет сей факт с глубокой благодарностью – заместительной благодарностью всего еврейства. Увы, в последнее время Эсфирь вела себя весьма капризно. Шваркала тарелки на стол, да так, что Манассия просто немел. Если забывала подать ложку, коротко бросала: «Сам возьми!» Порой, когда он рассказывал о своем дне, вставала посреди рассказа, выносила тарелки и принималась мыть. Манассия шел следом, ведь ему хотелось еще так много поведать, но он словно бы все время путался у нее под ногами и в конце концов снова уходил в комнату, ссутулив плечи, как старик. Непонятно, почему она так себя вела. Ведь он делал ее счастливой. А она не принимала этого счастья. Ее что же, мучают заботы? Проблемы? Какие же?
Может, дело в деньгах? Чем Эсфирь занималась целый день? Что делала с деньгами, которые они получили в наследство? Просто тратила, расходовала капитал – платила за жилье, ежедневно покупала провизию, чтобы вечером было что подать на стол? Или приумножала деньги, вкладывала их, инвестировала, отдавала в чужие руки, чтобы их стало побольше? В чьи руки? Он тревожился, от этих мыслей аж дыхание перехватывало. Но потом снова – ешива, факультет, Ариэль.
Эсфирь наверняка знает, что делает!
Склонив голову над книгами, он прятал свои страхи под видом занятий и в итоге на самом деле о них забывал.
Манассия и Абоаб стали последними выпускниками школы раввина Исаака Узиила, homem santo,святого мужа, как его называла португальская община Амстердама. Последними, что получили из рук великого учителя аттестат, подтверждавший их широкую духовную и научную подготовку и позволявший им исполнять профессию раввина. Еще спустя годы после смерти Исаака Узиила в Амстердам приезжали молодые люди из Константинополя, Венеции, Александрии и даже из Нового Света, чтобы послушать этого великого мужа, лично с ним познакомиться и учиться у него. Так далеко сияла в мире и жила его слава. Только здесь они узнавали о кончине раввина и могли всего лишь совершить паломничество на Бет-Хаим и положить камешек на его могилу, первую на этом кладбище, что соблюдала запрет на изображения. Втиснутое между соседних могил, украшенных множеством изображений Бога, ангелочков и ангелов, надгробие раввина с выбитыми на нем письменами словно метало громы и молнии в своей простоте и суровости. Облака плыли по небу, как плывут от веку, но каждый паломник клялся, будто в ту самую минуту, когда он подошел к могиле Исаака Узиила, меж облаков вдруг прорвался луч света и озарил скромный камень, разом погрузив в тень еретические рельефы вокруг и наполнив святое место тишиной. «Таков же он был и при жизни, – говорили в общине. – Просветленный, проповедовавший громами и молниями!»
Манассия и Абоаб были не только последними, но, по единодушному мнению всей общины Неве-Шалом, также и лучшими учениками, каких когда-либо наставлял Исаак Узиил. После первых своих проповедей они стали прямо-таки считаться его воплощениями – и каждый паломник, что, привлеченный славою великого раввина, приезжал в Амстердам уже после его кончины, увозил к себе на родину, в широкий мир славу Манассии и Абоаба. Энциклопедичностью познаний Манассия ничуть не уступал своему учителю, наоборот, даже превосходил его в современных областях знания, как то: в анатомической медицине или в новом аспекте исторической науки, которая стремилась изучать судьбу еврейского народа и в постбиблейские времена, после разрушения Второго Храма. «Весьма впечатляет, что Манассия знает все даты от Сотворения мира и до нынешнего дня… но разве не знает их каждый ребенок, умеющий считать? Тысяча пятьсот первый, второй, третий, четвертый…» – насмехался Абоаб. В своем язвительном, прямо-таки уничтожающем остроумии, каковое пользовалось огромным успехом у всех, кого не задевало, Абоаб был точной копией учителя, если не сказать, что даже перещеголял его: словом и насмешкой, высказыванием и аллюзией он крушил все, что стояло у него на пути, ловко раздувал смех и издевку, причем с таким видом, будто презирает восторги рыночной толпы, с иронической усмешкой принимал знаки уважения и восхищения. Если Исааку Узиилу этот дар снискивал приверженцев, то Абоаб таким манером поистине плодил их. Если Манассия, как учитель, искал похвалы, то Абоабу ее навязывали, подсовывали, потому что он отвергал ее, как учитель. Если Манассия выказывал огромную начитанность, как учитель, то Абоаб бичевал изъяны и нехватку начитанности у других, как учитель. Манассия был одержим идеей целого, Абоаб – поиском пробелов. Манассия желал завершенности, как его учитель, Абоаб же, как его учитель, знал, что всякая систематика раскрывает свой смысл лишь относительно одногонамерения. Манассия знал, чего хочет, Абоаб знал и как этого достичь. Рабби Исаак Узиил был великий книжник, общинный политик и дипломат. Его ученейшие ученики, по сути, лишь сообща являли собою воплощение Узиила: жаждущий гармонии дипломат Манассия и властный политик Абоаб. Лишь один из них мог стать главным раввином, преемником учителя. Один из них станет им, несмотря на молодость. Другие раввины, старшие годами, добровольно отступились: Гершкович, раввин горстки бедных восточных евреев в Амстердаме, имел слишком мало влиятельных приверженцев, как и Гольдштюккер из Глюкштадта, призванный в Амстердам еще не вполне сложившейся немецкой общиной; рабби Саул Леви Мортара, серьезный книжник и ученый без ораторского таланта и интереса к политике, предпочитал руководство ешивой, что ему вскоре и поручили; точно так же равнодушно отнесся к означенному посту и престарелый, «гниющий живьем» рабби Кайфа, который, жуя табак и склоняясь над Талмудом, лишь ненадолго очнулся от своего транса, чтобы сказать: «Я стар и утомлен. Отдайте сей хлеб другому. Я доволен подаянием!»
Манассия и Абоаб, оба едва достигшие двадцати лет, – одному из этих юных, совершенно неопытных выпускников семинара раввинов предстояло сразу стать главным раввином еврейской общины Амстердама, блистательного, сияющего на весь мир Нового Иерусалима.
Перед тем как будет принято решение, оба выступят в синагоге с речью на тему «О вавилонском смешении языков».
Создать семью – что за странная идея? Именно сейчас!
– Я знаю, что ты думаешь! – сказала Эсфирь. – Ты думаешь: у тебя же есть семья. Это я. Все, чего ты можешь ожидать от семьи: кров, пища, любовь и попечение, постоянное внимание, общие воспоминания. Однако… и здесь нам компромисса не найти, его просто нет и быть не может… пока ты окончательно не сделал из меня свою мать, я хочу стать женой и матерью собственных детей!
Именно теперь, когда все силы и сосредоточенность необходимы ему для подготовки речи! Именно теперь, когда он вот-вот доведет их счастье до совершенства: станет главным раввином, с четырьмястами пятьюдесятью дукатами годового жалованья при бесплатном жилье. Надежность и признание! А она хочет… да чего, собственно, она хочет?
– Я…
– Не хочу слышать об этом. Не сейчас. Я должен написать речь! Должен! Как ты только можешь, знаешь ведь, что я должен написать речь! – Лучшую речь, какую когда-либо писал. Что Эсфирь имела в виду, когда сказала, что не хочет быть ему матерью? И насчет компромисса? Что это вообще за разговоры? Смешение языков! Манассия снова и снова думал о том, как они приехали сюда, в Амстердам, обжились тут, как для того, чтобы удалось стать людьми, поневоле сделались этакими чудовищами о семи ушах, которые пришлось держать востро среди здешних языков, каждый из коих требовал особого внимания, особого слуха, – португальский, испанский, портаньол, древнееврейский, латынь, нидерландский, немецкий/идиш. Никакой жизни не было, одни языки. Жить можно только с этим множеством ушей. А теперь они жили, наконец были в состоянии жить, и на тебе: она заявляется с новым языком; после испанского, португальского, голландского, древнееврейского – разрушительский. Теперь, именно теперь, когда он искал слова для важнейшей в жизни речи!
Оригинальным мыслителем он не был. Ему в голову не пришло в связи с темой «Смешение языков» поговорить о собственном опыте и углубиться в актуальность этого библейского рассказа. Он сосредоточился на классической литературе по означенному вопросу. Чем Эсфирь целый день занималась? Что имела в виду, говоря: стать матерью собственных детей? Он ведь уже не ребенок. Скоро станет главным раввином. Четыреста пятьдесят дукатов и бесплатное жилье. Красивый дом на Ауде-Сханс, открытый дом для ученого мира. Бюргерская шляпа и тонкое сукно. Он станет таким же, каким был отец в Вила-душ-Комесуш, правда горделивее, без страха и прятанья. Стать отцом? Он заучивал, и компилировал, и ваял, и мастерил свою речь из всевозможных ссылок и цитат, какие только мог найти, и в конце концов создал безупречный образец классической риторики на основе классической же вторичной литературы.
Абоаб уже в самом начале своей речи снискал восхищение. На семи языках он задал вопрос тем, к кому обращался. Его заявление, что избранный народ, несмотря на смешение языков, ныне вновь соединяется в одном общем языке, а именно языке пророков, вызвало аплодисменты. Все засмеялись, когда он заметил, что древнееврейский – единственный на сегодняшний день доказанный случай воскресения из мертвых. Смех этот еще не одну неделю горел в жилах Манассии, ибо явился пощечиной, адресованной ему: понятно, что приезжающий в Новый Иерусалим не владеет безупречно ни устным, ни письменным еврейским, но от раввина конечно же можно потребовать такого. Восхищение – когда Абоаб с наигранным удивлением, с чуть ли не утрированным сожалением указал, что «есть коллеги», которые рассуждают о Бытии 11:1–9, не упоминая о том безымянном авторе XII века, который так метко писал о стихе 4 («Построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли»), а писал он вот что: «Жажда славы истребила понимание меж людьми. Каждый, коль скоро встречал такого, вспомнит человека, который жил согласно законам, прилежный и работящий, любящий и готовый помочь. Кто же хочет жить в памяти всех, кто не знал его, подобен тому, кто говорит на непонятном языке, предполагая, что его тем не менее понимают!» Абоаб поднял вверх книгу и воскликнул: «Написано четыреста лет назад, ибо в полном соответствии со своею мыслью он умолчал о своем имени – и по сей день все алчущие славы умалчивают о нем!»
Манассия так и не докопался, откуда Абоаб извлек этого анонима, не нашел ни книги, ни ссылок на оную. Однако в соперничестве двух ораторов Манассия после речи Абоаба не имел шансов: сам он произнес блистательную речь, но после речи Абоаба он произнес речь, которая в своей жажде славы обошла молчанием блистательную интерпретацию того анонима, пыталась отвлечь внимание от скудного владения еврейским и вообще была совершенно невдохновенна с точки зрения актуальности Бытия 11 для ситуации в Новом Иерусалиме.
Рабби Ниссан сформулировал впечатление всех, слышавших обе речи: «Манассия говорит то, что знает, Абоаб знает то, что говорит».
Абоаб стал главным раввином. Манассия, уже видевший себя главой общины, стал третьим: подчиняясь главному раввину Абоабу и начальнику ешивы рабби Мортаре, он занял место руби,учителя в школе, преподавал древнееврейский начинающим. Сто двадцать пять дукатов в год плюс двадцать пять в качестве возмещения за жилье, а нынешняя квартира, как он лишь теперь узнал от Эсфири, стоила двадцать пять дукатов за три месяца. Эсфирь считала, что надо поменять квартиру.
– Да, надо съезжать. Но куда? Ты навела справки, подыскала жилье подешевле?
– Ты не понимаешь, братец, или не желаешь понять. Слушай. Объясняю еще раз. Я собираюсь замуж. И ты должен сам подумать, как тебе поступить. Остаться здесь, или переехать в меньшую квартиру, или…
– Замуж?
– Да. Или жениться и вместе с женой…
– Нет. Погоди! Ты собираешься замуж? За кого? – У тебя же есть я, а ты нужна мне, именно сейчас. Именно сейчас.
Третий. Возможно, Манассия был бы вполне доволен, если б стал руби в иных обстоятельствах. Он горел честолюбием, но не настолько, чтобы начисто сгореть, раз не вышло немедля стать первым, и чтобы не ведать покоя, пока не удастся стать первым, и чтобы при каждом шаге и вздохе тщательно проверять, поможет ли ему это подняться на вершину. Если бы два года назад или хоть год назад ему напророчили, что он вскоре сделается руби, он бы не поверил и одновременно почувствовал себя польщенным: ну как же, вон на какое его считают способным! Его честолюбие было другим. Честолюбием слабых, карьеризмом неуверенных, прагматической страстью мечтателей. Он хотел заниматься тем, что ему интересно, зарабатывать таким образом на хлеб и, выходя из дома, встречать почет и уважение своего мирка. Не бояться, не мерзнуть, не голодать, иметь время на удивление. Почему бы и не стать руби?
Сидеть над своими книгами. Подняв голову, видеть учеников, тоже склонившихся над книгами. Идти домой и по дороге раз-другой слышать почтительное: «Добрый вечер, рабби! Добрый вечер, сеньор!» Дома – ужин, огонь в камине. Книга. Постель.
Однако хотя так и могло случиться, но, увы, не случилось. Его поманили не морковкой, но короной. И потому он не радовался теперь морковной грядке. Его обставили. Он стал не учителем, а посмешищем для всей общины. Честолюбивый Абоаб изобразил его так болезненно честолюбивым, что старые честолюбивые идиоты из махамада,коллегии раввинов, сочли интригана – ах, он такой самоотверженный, цитирует анонима! – своим и подняли на щит. Он готовился изо всех сил, добросовестно, второй же умышленно и бессовестно готовился против него. Он оказался слишком наивен. А Эсфирь собиралась съехать от него, выйти замуж, зажить своим домом. Вместо общины он начальствовал над классом подростков, которые больше интересовались бухгалтерией и торговлей пряностями, нежели Талмудом, больше любили развязные песенки, нежели молитву. Он рассчитывал на надежные, спокойные будни, а остался ни с чем. С пустой квартирой, какую в одиночку едва мог оплатить.
Ночами он лежал без сна. Смотрел в темноту, видел перед внутренним взором грозные призраки собственных чувств, нет, чувствовал и пытался не видеть, пытался в темноте закрыть глаза на свои ощущения, но лишь перетасовывал все это и по-прежнему видел – как бы глазами женщины, которая внезапно заметила, что он там прикрывает и ощупывает ладонью, эту раздвоенную головку, изуродованный пенис, причинявший сильнейшую боль, от напряжения, когда он тер вниз по стволу и оттого наверху открывалась щель, точно лягушачья пасть. Поначалу наслаждение, а затем тотчас боль, тянущая, отдающая в живот, в грудь, в горло и дальше, в голову, словно разверзающийся ствол открывается все шире и, того гляди, расщепит его до темени.
Эсфирь сказала ему не все. А Самуилу Манассии не дано было постигать чутьем, по обрывочным сведениям делать вывод о целом, вживаться в мысли другого человека. Пожалуй, Эсфирь имела куда больше необходимых раввину способностей, нежели ее брат, только вот, увы, родилась женщиной. И при всех своих духовных задатках интересовалась исключительно мирскими делами. Из изгнания и бегства она извлекла для себя урок: коль скоро вера, не важно какая, могла стать угрозой для жизни, привести к гонениям и убийству, бегству и бедам, жизнь по-настоящему существует лишь за пределами религии. В поступках, способных обеспечить благосостояние, в дозволительных удовольствиях, вознаграждающих усилия в трудах, а еще в любви к дарам жизни, например к запахам природы, к жаре и холоду, к ветру и лунному свету. Она хотела прикосновений, не вопрошая Бога о своей чистоте, хотела любви, а не утешительных слов, что-де Бог любит ее, хотела испытывать сострадание по собственной воле, а не потому, что его предписывает Бог. Хотела, чтобы красивые слова брали ее за душу, и даже хотела быть… циничной, по собственной воле, не страшась быть циничной и непочтительной ко всем представителям неземного на земле.








