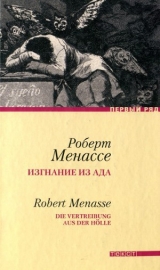
Текст книги "Изгнание из ада"
Автор книги: Роберт Менассе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Роберт Менассе
Изгнание из Ада
Сфинкс должен сам разгадать собственную загадку. Если вся история заключена в одном человеке, то все можно объяснить из индивидуального опыта.
Р.У. Эмерсон. Эссе по истории
Одна лишь сила способна Правду победить: Сила. Одна лишь сила способна Силу победить: Правда. В итоге обе видят себя проигравшими.
Самуил Манассия. Жизнь
You arrive, confused, disoriented.
All you know is, you're looking for your partner.
All you carry with you is the knowledge
you've grown to accept as the truth.
But you're about to discover
that what the truth is depends
on what world you're in [1]1
Ты приезжаешь, смятенный, растерянный.
Знаешь только, что ищешь партнера.
У тебя есть лишь это знание,
которое ты привык считать правдой.
Но скоро тебе предстоит понять:
Правда трактуется по-разному,
В зависимости от того, в каком мире ты живешь.
Описание видеоигры OBSIDIAN
[Закрыть].OBSIDIAN. An incredibly challenging CD-ROM Mystery, SegaSoft lnc.
Будь осторожна, свет очей моих! Перед тобой любовное письмо.
Его ты не читай, ведь станешь презирать меня —
Пустоту словес и за комизм невольный
выдумок моих. Или же:
Напейся, отведай, не скупясь, вина – а тогда,
пожалуй, ты меня полюбишь, читая это,
за чувств моих глубины и
вместе с тем за остроумье слов.
Пей! А потом прочти любви моей признанье!
Уриэль да Кошта. Carta de dispedida
Я бы легко умер,
будь я бессмертен.
А так буду плакать и кричать,
когда запалят костер.
Как мне сдержаться,
если знаю я,
сколь много не написано осталось…
вовеки!
Эфраим Буэну. Дневник ада
Вдобавок у меня странное представление, будто я захочу рассказать это все моим внукам. Хотя я вовсе не собираюсь заводить детей. Но это сидит во мне. Так, как рассказывала моя тетя. Она уже очень стара и могла бы быть мне бабушкой. Я тоже буду рассказывать, и для внуков это будет таким же далеким и непостижимым… Все истории, какие мне рассказывают, всегда лишь малые частицы. Речь идет об одном дне, и о нем слышишь раз десять, ведь именно это особенно их тронуло. Сейчас всего много, потому что… переживаешь это сам. Но останутся всего-навсего крохи, ничего не поделаешь… И тем не менее не знаю…
Аня, 23 года. Из: «Венские разговоры» Видеофильм Й. Хольцхаузена, Вена, 1999 г.
чтоб никогда
не плачущий Барух
вокруг тебя
отшлифовал
ребристую,
непонятую, зрящую
слезу.
Пауль Целан
Они подожгут дом. Мы сгорим. А выбежим на улицу – убьют.
В прорезях ставен мелькали огни факелов, он слышал громкий шум, толпа под окнами распевала, кричала, вопила.
А было это погребальное шествие. По улицам двигалось огромное погребальное шествие, в городке Вила-душ-Комесуш никогда такого не видывали, и что самое странное, никто из участников процессии не скорбел.
Пара вороных, украшенная лиловыми матерчатыми розетками, тянула катафалк, на котором лежал гробик, подходящий разве что для новорожденного младенца. За катафалком, обеими руками поднимая вверх распятие, шел кардинал Жуан д'Алмейда из Эворы, в алом облачении и алой же шапочке, на плечах отороченная горностаем мантия, шлейф которой несли четверо каноников в лиловых ризах. Далее следовали приходские священники Комесуша и окрестных общин, все в черных сутанах, белых стихарях и лиловых епитрахилях. Дворяне, в пурпурном бархате, препоясанные широкими кожаными ремнями, шагали, обнажив шпаги и опустив их острием вниз. Представители общинного управления и третьего сословия, в черной одежде и больших черных шляпах, несли факелы, черный дым которых заволакивал солнце траурным флером.
Вся эта помпа, вполне бы приличествовавшая государственным похоронам, отнюдь не могла скрыть, что общий настрой насыщен злобой, ненавистью и жаждой убийства. Почти весь Комесуш был на ногах и примкнул к процессии, которая провожала в последний путь кошку. Люди бормотали не молитвы, а проклятия, не сплетали набожно руки, а потрясали кулаками. Лица их раскраснелись не от солнца, а от крепкой виноградной водки багасейры, и сквозила в них не скорбь, а жажда убийства, поджога, грабежа.
Клирики затянули хорал «Martyrium Christi», «Муки Христовы», но звуки его тонули в воплях толпы, которая, проходя мимо иных домов, орала идущим впереди факелоносцам:
– Подпалите крышу!
Шествие свернуло на улицу Консоласан, в гробике лежала кошка, успевшая прожить всего-то восемь-девять месяцев, маленькая черная кошка с белыми пятнышками вокруг глаз, словно в маске.
– Давайте! Подпалите крышу!
На сей раз это был дом семьи Соэйру.
Антония Соэйра – одна из немногих, что не вышли на улицу. Вместе с детьми, Эштрелой и Мануэлом, она стояла у окна, боязливо поглядывая в щелки закрытых ставен, а когда гвалт снаружи угрожающе усилился, отвела детей в глубь комнаты и сказала:
– Эти безумцы, чего доброго, объявят кошку божеством. Пускай она сожрет голубя на католических небесах.
Причиной великого возбуждения, охватившего Комесуш и окрестности, послужило то, что означенная кошка была распята. Прибитую большими железными гвоздями к деревянному кресту, ее нашли возле Каза-да-Мизерикордиа, Дома милосердия. Церковные мужи мигом смекнули, что, устроив пышные похороны и тем вернув крестной смерти священное ее достоинство, они сумеют сплотить население, подогреть фанатизм и двинуть людей на борьбу с еретиками и вольнодумцами – двумя неделями ранее в Комесуш прибыла инквизиция.
Пение и крики удалялись, мальчик стоял в темной комнате, ему хотелось убежать, как можно скорее и как можно дальше, но он совершенно оцепенел. Перед тем как мать оттащила его от окна, он успел увидеть гробик на катафалке и тут только впервые подумал, что, наверно, никогда больше не увидит отца. Тот был одним из первых, кого арестовал Священный трибунал.
Вороные кони, черные как ночь, гроб, облитый красноватым светом, будто солнце заходит и кардинальский пурпур вот-вот вспыхнет огнем. Последний солнечный закат, конец света.
Мануэлу строго-настрого велено до захода солнца быть дома. С тех пор как он однажды вечером убежал на улицу к друзьям, отец неумолимо твердил: до захода солнца. Опоздаешь – пеняй на себя. Почему? Объяснений не последовало, и в конце концов он сам понял, но слишком поздно.
Отец его, человек тучный, начисто лишенный вкуса, одевался всегда очень аккуратно, но без аристократизма. На щеке у него был большой шрам в форме полумесяца, который вызывал у Мануэла отвращение и страх. То и дело отец вырастал перед своими детьми, одергивал их, призывал к порядку. Говорил тихо, почти что хриплым шепотом, невнятно. По вечерам сидел над книгой, прямо-таки чахнул над нею. Мануэл безропотно называл его сеньор,однако не воспринимал его как господина, сеньора, скорее как плохого лицедея, изображающего господина. И, стоя перед отцом, смотрел в пол, от страха, а еще от презрения: не мог глядеть ему в глаза.
Но сейчас мысль, что он никогда больше не увидит отца, внушала ему беспредельный страх. Издали еще доносился шум похоронной процессии, и Мануэл чувствовал, как удары сердца отдаются в голове, резко, ритмично, будто сердце отчаянно старается попасть в такт барабанной дроби и размеренным выкрикам толпы. Но в такт уже не попадешь. Они всех нас убьют.
Он услыхал, что мать и Эштрела разговаривают друг с дружкой, тихонько, однако голоса их звучат до странности холодно и деловито. Хотя Эштрела всего на четыре года старше восьмилетнего Мане, держалась она уже как взрослая, уменьшенное подобие, если не сказать копия матери. Личико острое, сравнительно небольшое, с суровыми, жесткими чертами, а тело кругленькое, упитанное, правда – вероятно, в силу впечатления, какое оставляло лицо, – оно казалось не мягким, а энергичным, несгибаемым, сильным, каждая мышца под пышным черным платьем словно вдвое-втрое толще, чем на самом деле. Говорили они о том, какие меры можно бы принять для защиты, и о том, что о бегстве даже думать нечего, пока отец не вернется, так и сказали «пока отец не вернется», словно он просто в отъезде. Этот разговор раздражал Мануэла, почему-то вызывал у него неловкость, как будто мать и сестра неуместными, нелепыми поступками выставляли себя на посмешище.
– Вдобавок у нас еще и сложность с… – сказала Эштрела, как раз когда Мане поднял голову, и осеклась, он пристально смотрел на них обеих, а они молча глядели на него. Мальчик как бы увидел себя их глазами, и ему почудилось, будто увидел он что-то недозволенное. Свой страх, и свою покорность, и что поведение матери и Эштрелы казалось ему неловким и бессмысленным. Что ни говори, одну вещь он все же успел усвоить: участвуя в игре, нужно исполнять назначенную роль. Мысль не вполне понятная, но тем не менее отчетливая: люди на улице не могут иначе, они вынуждены так делать. И он тоже не может иначе и должен с этим примириться. Он не сумел предусмотреть последствия собственного поступка, и все же они были приняты в расчет. Так что надо с ними примириться. В противном случае ярость людей и ужасы лишь наберут силы.
Он едва дышал от страха, однако при всей огромности это был просто-напросто страх ребенка перед наказанием, которого следовало ожидать.
Он знал, что случится скандал, и хотел этого, хотел скандала, который не изгладится из памяти, не в пример всяким мелким пакостям, ведь они были не такими уж и мелкими, а теперь все же забыты или рассказываются как анекдотичные байки, с несуразной взрослой снисходительностью, с ухмылкой, а то и со смехом, с хлопаньем по жирным ляжкам, – все прощено и забыто во имя воспоминаний.
Он к этому приготовился. Постарался заранее представить себе, кто и как станет реагировать. Был готов примириться с чем угодно, принять любые последствия, ради этого спектакля, который непременно хотел устроить и увидеть. А когда все произошло, как и предусмотрено, получилось, однако, куда страшнее, чем он думал. Ожидал он молчания, потом крика, но не такой тишины и не такого крика потом. Злоба, неприязненные выпады – разумеется, он полагал, что готов к ним, но к такой всеобщей злобе, к такой единодушной враждебности? Нет, сколь ни основательно все обдумал, он тем не менее не ведал, что творит.
Двадцать пять лет со дня окончания гимназии. До сих пор Виктор никогда не ходил на встречи одноклассников и, если память ему не изменяет, уже лет двадцать не получал приглашений. Возможно, они решили, что он так и так не придет, а возможно, и встреч никаких не было, ведь и на первые-то мало кто приходил. Их класс отнюдь не соответствовал идеалу тогдашних педагогов, именовавшемуся «неразделимое сообщество судеб». Сдав выпускные экзамены и получив аттестаты зрелости, они просто разошлись, с этакой холодной радостью, что больше нет нужды встречаться. Порвал этот класс и с давней школьной традицией «выпускного путешествия» – как правило, все абитуриенты вместе с классным руководителем и учителем греческого летели самолетом в Афины, к Акрополю, последняя общая фотография перед Парфеноном, первая большая попойка, хмель от узо и рецины. Они стали первым выпуском, который единодушно и без долгих споров объявил, что подобное итоговое путешествие никого не интересует.
И вот теперь, по прошествии двадцати пяти лет, они все до одного собрались в отдельном кабинете «Золотого тельца», ресторана, расположенного в пяти минутах ходьбы от школы. Растроганные, полные любопытства стояли у длинного накрытого стола, где стаканы для аперитива и бокалы для красного и белого вина ожидали начала торжества, которое затем продлится считанные двадцать пять минут либо, если посмотреть с других позиций, всю ночь до рассвета, – впрочем, сейчас никто не мог предугадать, как именно все обернется.
Какое множество восклицательных знаков после каждой фразы! Двадцать пять лет!!! Четверть века!!! Виктор ожидал увидеть корпулентных мужчин с лысинами, полнотелых мамаш, однако в большинстве все физически прекрасно сохранились, и были от этого в восторге, и то и дело хвалили друг друга, и с удовлетворением принимали похвалу. В сущности, только у одного Виктора волосы заметно поредели, а фигура начала зримо расплываться. Но при том что лица сияли счастьем, в настрое сквозила принужденность. Надо ли разыгрывать былого гимназиста, вернуться к давней роли, какую много лет назад исполнял в кругу этих людей по своей либо по их воле, или же просто демонстрировать, кем и каким стал с тех пор, чего достиг в жизни? Виктор никак не мог решить, прикидываются ли солидные, добропорядочные люди инфантильными, или же, наоборот, люди, оставшиеся инфантильными, изображают солидность, а тем временем каждого вновь прибывшего встречали громким «привет!». Вдобавок, к его удивлению, здесь присутствовал не только директор школы, но и многие из тогдашних учителей. Не верилось ему, что они вправду помнят учеников, которым преподавали более четверти века назад, но в первую очередь его удивило, что они еще живы. И собственные чувства, с какими он на них смотрел, приводили его в замешательство: к примеру, г-жа профессор Рехак, учительница математики, которую он ненавидел и боялся и которую все за глаза звали Ехидной, стала на редкость красивой старой дамой, весьма бодрой, весьма любопытной, притом помнящей всех по именам. Или г-жа профессор Шнайдер, преподававшая у девочек гимнастику, с нею он в школе, понятно, дела не имел, однако хорошо помнил, как она влепила Хильдегунде пощечину потому только, что та пришла в школу в джинсах, – сейчас она выглядела точь-в-точь как современная рекламная бабушка, о какой можно лишь мечтать: вместе с внуками она устраивает велопробеги и покупает им фирменные джинсы, непомерно дорогие для родителей. Профессор Шпацирер, латинист: его оживленная, раскрасневшаяся физиономия образцово сияла неистребимой жаждой наслаждений, которую сокрушит только смерть, но не возраст. Как же Виктор ненавидел его, когда на одном из переводных экзаменов Шпацирер задавал ему особенно каверзные вопросы, в результате Виктор засыпался и все каникулы готовился к переэкзаменовке. Проф. Шпацирер сказал ему тогда: «Если хочешь выдержать экзамен в классической, гуманитарной гимназии, тебе в конце концов необходимо уразуметь: гуманитарность не имеет ничего общего с гуманностью! Садись!»
Все уселись за стол.
Четырнадцать мальчиков, восемь девочек – с какой непринужденностью эти мужчины и женщины снова называли друг друга мальчиками и девочками! – семеро тогдашних учителей и директор, три десятка людей, с некоторой чопорностью наблюдающие, как метрдотель в черном и двое официантов в белых куртках сервируют аперитивы. Большинство согласились на просекко, только Эдуард попросил свежевыжатый апельсиновый сок, Томас – кир-ройяль [2]2
Кир-ройяль – смесь черносмородинного ликера и шипучего вина. ( Здесь и далее примеч. переводчика.)
[Закрыть], а Хильдегунда – кампари, каковых предстояло немного подождать. От этого общая скованность еще возросла, ведь никто не решался поднять бокал и выпить, пока этим троим не принесли заказанное; Виктор видел, как д-р Пройс, директор, нервно водит пальцами по ножке своего бокала, вверх-вниз, вверх-вниз, очевидно, ему хотелось поскорей произнести заготовленный тост и, так сказать, официально открыть вечер. Безмолвное ожидание, усмешки, поглядывания по сторонам, словно вот сию минуту ударят в гонг и начнется необузданное веселье.
Ну, наконец-то. Директор встал, откашлялся, заговорил. Виктор ощутил неловкость: каким неуверенным, каким неестественным казался сейчас этот человек, а ведь когда они были подростками, он в два счета мог нагнать на них страху. С гордостью и радостью, говорил директор, он выражает признательность бывшему старосте класса, магистру Фричу, за организацию этой встречи, свидетельствующей об отрадно тесной связи собравшихся со школой, он горд… и надеется… и спасибо, большое спасибо.
В знак одобрения все по-студенчески застучали по столу костяшками пальцев, директор Пройс поднял руки, выражая благодарность и призывая к тишине: он хочет сказать еще несколько слов.
Только одно Виктор не мог предусмотреть заранее, а именно каким способом создаст ситуацию, необходимую для осуществления задуманного плана. Не стоит торопить события, позднее, когда все немножко выпьют, он постучит ножом по бокалу и попросит минуточку внимания, будто собираясь сказать тост. Однако идея, возникшая у директора Пройса, совершенно неожиданно все упрощала и ускоряла. А предложил директор вот что: пусть собравшиеся здесь дамы и господа, экс-учащиеся, по очереди «вкратце, сиречь в общих чертах» расскажут о своей жизни по окончании гимназии. Таким образом, все, по крайней мере в общих чертах, сразу узнают самое важное обо всех, а не только о соседях по столу. Ему кажется, что таким образом и вполне естественное любопытство всех присутствующих будет удовлетворено, и дальнейшее общение, вероятно, упростится. Директор огляделся по сторонам и, когда кое-кто из учителей одобрительными возгласами поддержал его идею, предложил начать с другого конца стола и оттуда продолжать по очереди:
– Итак, господин доктор, прошу вас, да-да, доктор Хорак, начинайте.
Турек, сказал тот, Эдуард Турек, дипломированный коммерсант, у него диплом коммерсанта… На другом конце стола закричали: «Громче! Громче!» Эдуард встал, повторил: «Я, стало быть, имею диплом коммерсанта и…» Виктор мгновенно замер. Он будет на очереди третьим либо четвертым, если, «как полагается», пропустит вперед свою визави Марию. Он не ожидал, что возможность осуществить план представится так быстро, и теперь нервно шарил по карманам в поисках заготовленной записки, в правом, в левом – неужели забыл? Речь Эдуарда журчала мимо него, до боли шумно, фразы вроде «теперь у меня две сотни подчиненных» вызывали у него чуть ли не стон; между тем слово уже взял Вольфганг, конечно же он стал адвокатом, конечно же унаследовал отцовскую контору и заодно конечно же как «почетный член» по-прежнему «занят в студенческой корпорации», в «Баюварии», а не в модной нынче «Тоскане». Смех.
Теперь все смотрели на Виктора, который сделал учтивый жест в сторону Марии и, когда она зашептала «нет-нет, сперва ты!», вдруг нащупал искомую записку в нагрудном кармане пиджака. Он встал и мгновенно успокоился, даже почувствовал удовольствие, стоя здесь и неторопливо обводя взглядом лица этих знакомых незнакомцев, которые так дружелюбно смотрят на него, с интересом, хотя наверняка не ждут, что он сделал столь же впечатляющую карьеру, как большинство других.
– После выпуска я изучал историю, – наконец сказал он, – историю и философию.
Нетрудно догадаться, что дальше всем хотелось услышать короткую справку о том, магистр он или доктор, учитель или ученый, женат ли и сколько у него детей.
– Изучение истории, – продолжал он, – есть не что иное, как исследование условий, сформировавших нашу собственную жизнь. – Фраза чересчур напыщенная, Виктор сразу понял, сделал небольшую паузу, достал из кармана записку и, разворачивая ее, сказал: – Нам предложено рассказать свои биографии, а между тем мы сами совершенно ничего не знали и не знаем о жизни тех, что были нашими учителями, воспитывали нас и, несомненно, так или иначе на нас повлияли, я имею в виду…
Виктор вспотел, очки немного съехали с переносицы, он пальцем вернул их на место. С каким удовольствием он играл в футбол. Играл бы. Но как очкарик…
– По-моему, чтобы понять, кем человек стал, весьма полезно и поучительно спросить: кто были его учителя? Так кто же в общих чертах, как выразился господин директор Пройс, были наши учителя?
Он бросил взгляд на другой конец стола, на учителей: улыбаются, неужели всерьез ожидают чего-то забавного? Опоздавших на двадцать пять лет убогих шуточек из выпускной газеты, которые в ту пору никто не захотел сочинять? Виктор сглотнул, глянул на свои бумаги и сказал:
– Профессор Йозеф Бергер, член НСДАП, партбилет 7 081 217. Профессор Ойген Буцек, член НСДАП, партбилет 1 010 912. Профессор Альфред Дайм, член НСДАП, партбилет 5 210 619. Госпожа профессор Адельхайд Фишер, занимала высокие посты в руководстве БДМ, то бишь Союза немецких девушек. С тридцать девятого года возглавляла венский отряд, куда входило пять дружин по четыре отделения в каждой, а каждое отделение в свою очередь состояло из трех звеньев по пятнадцать девочек. Иными словами, под ее началом находилась без малого тысяча венских девушек и…
За столом воцарилась потрясенно-оцепенелая тишина, никто не шевелился, не говорил ни слова, Виктор назвал еще два имени с номерами билетов НСДАП, а затем перешел к проф. Карлу Найдхардту:
– Кстати, особенно интересный случай, уже во время войны он изучал английский, язык врага… Почему же убежденный шовинист изучает английский? А как раз в силу особой убежденности. Нацистам требовались особо доверенные люди для радиоперехвата, и именно с этой целью в августе сорок третьего года профессор Найдхардт, в чине обер-лейтенанта, получил назначение в Главное управление имперской безопасности. Возможно, кое-кто помнит, как в шестьдесят пятом он, наш учитель английского, однажды пришел в класс, чтобы в связи с кончиной Уинстона Черчилля произнести траурную речь. Министерство просвещения вменило это в обязанность учителям английского по всей Австрии. Он, стало быть, зачитал рескрипт министерства, где давалась высокая оценка заслугам Черчилля в деле освобождения Австрии, но я по сей день помню выражение его лица, было видно, что он с трудом удерживается от крика: сдох сволочь!
Неожиданно – резкий, трескучий звук. Выстрел? Удар грома? Директор Пройс вскочил, да так стремительно, что опрокинул свой стул; проф. Шпацирер и г-жа проф. Рехак тоже встали.
– «Сдох сволочь!» Вот что ему на самом деле хотелось крикнуть… – Виктор успел выложить на удивление много, однако теперь, ясное дело, в его распоряжении считанные секунды, поэтому он быстро сказал: – Отто Пройс, член НСДАП, партбилет…
– Всё! Довольно! – гаркнул директор, пресекая все шумы в этом зале: и голос Виктора, и двиганье стульев, и первые возмущенные реплики учителей и учеников, и кашель, и даже дыхание. И в наступившей драматической тишине повторил: – Довольно! Вы с ума сошли! – Он стоял неестественно прямо, тяжело дыша, скрестив руки на груди, раз-другой качнулся с пятки на носок, подыскивая слова, и в конце концов произнес: – Полагаю, вы не ожидаете, что я здесь останусь. – Ногой он отшвырнул упавший стул и ринулся к выходу, учителя последовали его примеру, не глядя по сторонам, лица у всех красные, похожие на застывшие маски.
Виктор вдруг невольно прыснул, стоял и хихикал, зная, что сейчас это неуместно и даже глупо, но остановиться не мог, смех был выражением триумфа и в то же время отголоском страха, бесконтрольной, нарастающей паники. Он выпустил на свободу нечто такое, что уже не мог удержать под контролем, бурные волны захлестнут его, накроют – так и вышло, причем куда хуже, чем он себе представлял.
Он сел, «бледный и неподвижный, словно восковая фигура», как позднее скажет Хильдегунда. Директор и учителя ушли. Виктор сидел, зато остальные повскакали на ноги, окружили его, награждая тычками и руганью. Он видел лица, которые наклонялись к нему, рты, которые возмущенно открывались и захлопывались, глаза, полные ненависти, все путалось, он просто сидел и смотрел: вот большие черные очки Вольфганга, вот жесткий рот Эди, вот кто-то ударил его по плечу; он видел фразы, брошенные ему в лицо, нет, слышал фразы и видел брызги слюны, летящие к нему вместе со словами, яростные выпады, которые он воспринимал лишь с опозданием. Ну, ты гад! Зачем тебе это? Каждый из нас все-таки чего-то достиг. В частности, и благодаря им. Какое отношение имеют к нацистам математика, греческий, латынь? Дерьмо ты фрустрированное!
Застенчивая Мария Нет-Нет-Сперва-Ты сказала:
– Ты вправду набитый дурак.
Вот к нему наклонился Тони Нойхольд:
– Самоуверенный идиот… Ты же всего-навсего попутчик… а еще других попрекаешь…
– Что ты делал все эти годы? В дерьме копался? Вонючка!
Кто это сказал?
– Вонючка! – повторил Карл Церга, не кто-нибудь, а именно он, которого в школе за хроническое недержание мочи как раз и дразнили Вонючкой.
Виктор заметил, как за спиной Нойхольда маленький, субтильный Фельдштайн, втянув голову в плечи, не поднимая глаз, пробрался к двери, – и вообще перестал что-либо понимать. Все уходили, следом за учителями, почему? И почему Фельдштайн тоже ушел?
Как долго это продолжалось? Выбранив его, они уходили, уходили без задержки, только бросали мимоходом «идиот», «болван» или «мерзавец». Считаные минуты – и все кончилось. Что это значит? Может, обиделись за испорченный вечер? Или сочли, что их образование втоптали в грязь? Или этим наследникам аризированных врачебных практик и аризированных адвокатских контор показалось, что осквернили их происхождение и поставили под вопрос собственную их дельность? Но чтоб все как один? Откуда столь единодушная ненависть? Виктор хотел встать, однако тотчас опять рухнул на стул. Огляделся. Пусто. Никого. Хотя нет. У стены за его спиной, возле тяжелой ярко-розовой драпировки с узором из темно-красных роз, стояла Хильдегунда, улыбалась. Он еще раз огляделся – никого, только он да Хильдегунда. И в этот миг подали суп, тридцать порций.
Дверь распахнулась – артистически балансируя большими подносами, вошли метрдотель и двое официантов. При виде пустого зала – только мужчина за столом да женщина у стены – они остановились как вкопанные, едва не уронив на пол подносы.
– Однако. Где же господа?
– Ушли.
– Ушли. Однако. У нас… заказ на тридцать персон. С вином. Как положено. Кто будет платить?
– А кто бронировал зал? Кто делал заказ?
– Как положено. Я могу сию минуту. Проверить.
Метрдотель поставил свой поднос на стол и быстро вышел, официанты так и стояли с подносами в руках, толком не зная, как им поступить. Виктор взглянул на Хильдегунду, которая между тем уселась напротив. Поворотный пункт, мгновение, предваряющее непредусмотренную маленькую вечность. Если б Хильдегунда в этот миг не подсела к Виктору, эта история не получила бы продолжения. Метрдотель вернулся с какой-то бумагой, прочитал:
– Господин директор Пройс из здешней федеральной гимназии.
– Ну вот, – сказала Хильдегунда, – он заказывал, он и заплатит. Подавайте угощение, а счет отошлите в гимназию. Все тридцать порций, – добавила она и улыбнулась Виктору. – Ведь оплатят, разумеется, только то, что было подано.
Трое мужчин обслуживали единственную пару за длинным столом, подали и снова унесли тридцать порций супа, тридцать порций телятины с классическими гарнирами, тридцать порций шербета с лесными ягодами.
– Рюмочку для пищеварения не желаете? К примеру, рябиновой водочки? Очень рекомендую.
– Да, пожалуйста. Тридцать порций.
Почему-то Хильдегунда настаивала, чтобы
Виктор называл ее именно так: Хильдегунда. В
школе она предпочитала откликаться на Хилли, позднее, студенткой, решила, что «Хилли» звучит слишком по-детски, и переименовала себя в Гундль. А теперь вот извольте звать ее Хильдегундой. Всенепременно.
– Не могу. Звучит как-то… в смысле, я же всегда звал тебя Хилли. Хильдегунда звучит… очень уж по-германски. По-арийски.
– Сукин ты сын, право слово.
– Ты ведь сама никогда это имя не жаловала. И твои родители наверняка… скажи-ка, чем они раньше занимались?
– Чем занимались? Жили. В свое время. И уже умерли. А мое имя – Хильдегунда.
У этого ребенка много имен:
Мануэл Диаш Соэйру – почтенное португальское имя. Мануэл – как тот португальский король, который особенно люто преследовал евреев и принуждал к крещению. Излюбленное мужское имя в старинных христианских семействах страны. Официально крестить таким именем отпрыска тайных иудеев – это же явный знак подлаживания, а может быть, еще и попытка именем опасности устранить саму опасность. Одновременно в этом маскировочном имени или под оным укрывалось древнее еврейское имя, оно-то и было настоящим, произносившимся лишь в самом узком семейном кругу: не Эммануил, от которого вел происхождение и успел целиком обособиться христианский Мануэл, а Самуил, последний из ветхозаветных судей Израилевых, провидец и пророк. Называли это имя тихонечко, мимоходом, так что случайный свидетель, а зачастую и сам ребенок слышал опять же всего-навсего не то «Муил», не то «Муэл», как бы невнятно произнесенное «Мануэл».
У этого ребенка много имен, не только имя истребления и имя обетованного спасения. В ласковых речах родителей и в играх с другими детьми они сливаются в Мане, двусмысленное прозвище, ведь в обиходном португальском Манё вдобавок означает глупыш, простодушный,а какой ребенок не простодушен? Но может ли ребенок быть таким под двойным гнетом публичного и тайного имен?
У этого ребенка много имен. В Манё уже угадывается и то имя, какое он получит позднее, в Амстердаме, на свободе, когда спасшиеся бегством мараны [3]3
Мараны – испанские и португальские евреи, принявшие христианство по расчету.
[Закрыть]смогут отказаться от маскировочных имен и открыто принять еврейские, – Манассия.
Под этим именем он в конце концов и прославился – как писатель и философ, раввин и дипломат. Но сколь ни блистательным станет со временем в обществе это имя – имя свободного и удачливого мужа, имя, которое будет отождествляться исключительно с тем, за что поручится его носитель, – в сокровенных его глубинах вечно будут эхом отдаваться Мануэл, Самуил и Манё, отголоски давно минувших времен, но и предвестие той славы, какую он еще обретет. Мануэл, приспособленец, Самуил, провидец, и Мане, простодушный.
Прежде чем сделался раввином, он был антисемитом. В ту пору, когда с ребятишками из своего переулка играл в знатных господ.Этот мир Мане знал вдоль и поперек. Предел мечтаний, тем не менее принадлежащий всем. Простая система правил, тем не менее всегда по-новому увлекательная и праздничная. И его восхищал Фернанду, мальчик немного постарше, который всегда знал что-то, чего не знали остальные, а вдобавок был среди них самым сильным. Прирожденный вожак.
Глядя на Фернанду, он чувствовал, что уважение, даже трепет способны привести в восторг, дома так не бывает. Ноги Фернанду – длинные, изящные, но сильные пальцы, с твердыми плоскими ногтями, как на красивых руках. Не чета его собственным – толстым мягким пупырьям, которые на бегу вечно обо что-нибудь да спотыкались и сразу же начинали болеть.
Когда они затевали возню, Мане отбивался только для виду, не потому, что все равно бы не выстоял, а потому, что лишь при некотором сопротивлении мог вполне изведать силу, с какой Фернанду клал его на лопатки. Придавленный коленом Фернанду к земле, он любовался мощными голубыми жилами, четко проступавшими на внутренней стороне его предплечий.
А дома, когда никто не видел, снова и снова напрягал руки, проверяя, не проступит ли наконец и у него такая вот голубая жила, но, увы, с тем же успехом мог бы высматривать сквозь молоко дно горшка.
Возбужденная поспешность, с какой он подчинялся Фернанду, делала его вассалом оного, но как таковой он приобщался к неизменно победоносному, благородному могуществу, разве нет? Фернанду, сын столяра, воплощал для него идеал аристократа. Ореховую палку Фернанду носил с таким аристократизмом, словно это настоящая шпага, босиком ходил, словно в сапогах из отменной кожи, а мускулы, приобретенные за отцовским верстаком, казались наследием упорной многовековой борьбы против сарацин и язычников. Разве родной отец Мануэла с ним сравнится? Жалкий торговец скобяным товаром, в сущности, продавец гвоздей, одетый всегда аккуратно, однако ж без малейшей изысканности. А послушать, как он говорит! В лавке – угодливо, с домашними – весьма решительно, но тихо, чуть ли не сипло, невнятно, без всякого аристократизма. Вдобавок до невозможности мелочный. Тобой что, улицы подметали? – сказал он намедни, когда запыхавшийся Мане предстал перед ним. Всю пыль в Комесуше на себя собрал.








