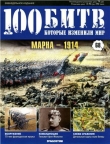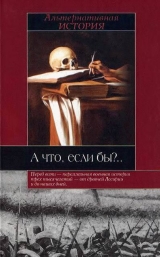
Текст книги "А что, если бы"
Автор книги: Роберт Коули
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц)
Точное время появления манипулярного легиона, к сожалению, пока не вполне установлено. Начало появления манипулярной тактики согласно относят ко времени Самнитских войн, завершение же этого процесса, в зависимости от степени доверия к источникам, ко времени от 280 г. до битвы при Заме (202 г.). Некоторые (как Г. Дельбрюк) разделяют введение манипулярной системы на два этапа – собственно манипулярной тактики (после Самнитских войн) и эшелонной тактики (после Сципиона Старшего), полагая, что в полном объеме манипулярная система могла появиться лишь тогда, когда римская армия приобрела должную выучку в многолетней войне.
Однако, по крайней мере, до нас дошли подробные описания манипулярного легиона в его классическом виде. Традиционно лучшим и наиболее подробным признается описание, данное Полибием в его «Всеобщей истории» (Polyb., VI, 19—42), хотя следует понимать, что Полибий описывал идеальный вариант римской военной организации и что его описание относится уже к середине II в.
Новый легион (Полибий определяет их штатное число в 4, но начиная со Второй Пунической войны Рим, видимо, редко возвращался к столь малому числу) состоял из 4200 пехотинцев и 300 всадников. Набору подлежали все граждане с цензом более 4000 ассов (пролетарии оставлялись для службы на флоте) в возрасте от 17 до 46 лет. Гражданин обязан был совершить 20 годовых походов. Вид вооружения теперь определялся не имущественным цензом, а возрастом призывника. Лица младшего возраста зачислялись в легковооруженные (rorarii или, позднее, veliti). Следующих за ними записывали в число hastati – копьеносцев (они носили уже полное вооружение и составляли первый эшелон строя). Далее, в возрастной последовательности, набирались второй (principes) и третий (triarii) эшелоны. Рорариев, гастатов и принципов в легионе было по 1200, а триариев – 600. Механизм набора легионной конницы у Полибия не прояснен, по всей видимости в его время она все еще набиралась из римских всадников.
Высшие сословия (сенаторы и всадники) выставляли старший командный состав [80]80
Служба римских всадников в коннице со временем все более становится фикцией, хотя еще при принципате 15 июля каждого года проводился смотр, на котором все римские всадники призывного возраста проезжали верхом, объединенные в 6 турм во главе с севирами из числа сыновей сенаторов.
[Закрыть], что и составляло их основную службу Республике. Верховное командование войском по-прежнему принадлежало высшим магистратам или бывшим магистратам, а в помощь им ежегодно избирались военные трибуны (по 6 на каждый легион) из числа людей, совершивших не менее 5 ежегодных походов. Тем самым звание военного трибуна было одной из начальных ступеней «дороги почестей» – уже для самых младших магистратур требовалось 10 походов.
Пехота легиона подразделялась на 30 манипулов, по 10 в каждом эшелоне, легковооруженные распределялись по манипулам поровну. Командовали манипулом два центуриона, один на правом крыле, второй на левом. Звания центурионов выстраивались в иерархию от командира левого крыла последнего манипула гастатов (hastatus posterior) до командира правого крыла первого манипула триариев (primus pilus, «первое копье»), функцией которого было помогать в командовании легионом зачастую еще неопытным аристократическим командирам. Хотя формально центурионы при каждом новом наборе все еще получали новое назначение, на практике сложилась система последовательною повышения от hastatus posterior до primus pilus и ее нарушения приводили к серьезному недовольству (см. историю Спурия Лигустина у Ливия – XLII, 32—35). Именно на мужестве и выучке центурионов, постепенно становившихся своего рода профессиональными военными, основывалась мощь римских легионов. Образ центурионов Республики ярко обрисован в научно-популярной книге известной исследовательницы Древнего Рима М.Е. Сергеенко «Простые люди древней Италии» [81]81
Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии. М.—Л., 1964. С. 79-92.
[Закрыть]. В художественной литературе можно рекомендовать образ Гая Филиппа в фантастической тетралогии Г. Тертлдава «Пропавший легион». Легионная конница подразделялась на 10 турм, каждой из которых придавалось 3 декуриона. Из них выбранный первым командовал турмой, а остальные являлись его заместителями и командирами половин турмы.
К этому времени относится появление устойчивой системы жалования воинам. Простые легионеры получали 60 денариев [82]82
Римская серебряная монета в 1/84 фунта серебра (3,9 г). 1 денарий = 4 сестерция = 10 ассов.
[Закрыть], центурионы – 120. Значительную часть доходов легионеров составляли награды по случаю триумфов. По некоторым подсчетам [83]83
Штаерман Е.М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996. С. 60.
[Закрыть], за 20 годовых походов простой легионер мог получить 2134 асса, а центурион соответственно вдвое больше. Зачастую бывшие легионеры получали от сената землю в колониях римских граждан.
Помимо собственно римского войска, набирались также и войска италийских союзников Рима. Римское гражданство распространилось на всю Италию только в результате Союзнической войны 90 – 88 гг. до н.э., но это не освобождало покоренные Римом племена от необходимости помогать Риму на войне. Союзники выставляли пехоту, равную по численности римской, и втрое больше конницы.
Если следовать достаточно убедительным построениям Г. Дельбрюка, то первоначально манипулярный строй сводился к тому, что строй фаланги был разделен небольшими интервалами, проходившими между разными манипулами. Это позволяло строю фаланги не нарушаться в бою и при движении по пересеченной местности, а также давало возможность принципам, а затем триариям (в исключительных случаях, отсюда поговорка «Дело дошло до триариев») вдвигаться в бреши в строю гастатов. Интервалы позволили также найти применение легковооруженным не только на флангах (именно поэтому их придали манипулам). При этом три шеренги легиона двигались без разрывов, ощущая следующую за спиной. Только в битве при Заме Сципион Африканский Старший разделил легион на три эшелона, что дало ему возможность противодействовать маневрам Ганнибала.
К эпохе манипулярного легиона относится и появление римского военного лагеря в его классическом виде. Значение этого события трудно переоценить. Не зря классическая формулировка гласила, что Рим побеждает врагов при помощи «virtus, opus, arma» («доблести, трудов, оружия»). «Труды» – это прежде всего работы по возведению лагеря. В отличие от греков римляне, во-первых, возводили лагерь после каждого дня похода и, во-вторых, возводили его по всегда неизменному плану. Поскольку многие европейские города выросли из зимних стоянок римских легионов, этот план оказался увековечен (его можно увидеть во многих изданиях – например, наиболее подробно, на вклейке во втором томе последнего русского издания Полибия). Преимущество такого способа состояло в том, что при размещении на стоянку все части заранее знали свое место и не возникало никакой суматохи. К тому же лагерь всегда предоставлял римлянам укрепленное убежище на случай поражения или превосходства противника. Вследствие неизменности плана лагеря римляне не стремились размещать его в укрепленных самой природой местах и больше полагались на валы и рвы.
В период Первой Пунической войны (264 – 241 гг. до н.э.) впервые начинает играть серьезную роль римский флот. Он существовал и раньше, но мог использоваться только против эскадр небольших италийских городов (так, знаменитые Ростры были возведены на Форуме после победы консула Гая Мения в морском бою над жителями Анция в 338 г.). Теперь же римляне всего лишь за год построили флот, способный состязаться на море с Карфагеном, исконно морской державой. Именно в ходе этой войны римляне, с тем чтобы превратить морское сражение в знакомое им сухопутное, изобрели абордаж и впервые в истории морских войн создали сильную морскую пехоту. Римские граждане шли во флот только в командный состав и в морскую пехоту. Экипаж кораблей набирался из вольноотпущенников, приезжих с греческого Востока и т.п. Это способствовало тому, что Рим так и не стал морской державой (после Пунических войн Рим не держал большого флота вплоть до действий Помпея против пиратов в 67 г. до н.э.) и сохранил зависимость в морском деле от греков (именно это было не последней причиной тому, что помпеянцы, опиравшиеся на восточные провинции, всегда имели на море серьезное превосходство над партией Цезаря во время Гражданских войн).
Важным водоразделом в римской военной истории явилась Вторая Пуническая война. Основными последствиями с точки зрения военной организации стали значительный рост численности армии (в 218 г., в начале войны, Рим считал достаточным набрать шесть легионов и усиленные союзнические контингента – 24 000 римских пехотинцев, 1800 римских всадников, 40 000 союзнической пехоты, 4400 союзнической конницы; в 202 г., к ее концу, Рим выставлял 16 легионов, и это не было предельным напряжением его военных усилий, хотя и было огромным усилием для государства, насчитывавшего к концу войны 214 000 граждан призывного возраста), начало постоянных войн за пределами Италии (в итоге войны Рим получил владения в Испании, требовавшие постоянной военной защиты, и был втянут в греческие дела), определенная профессионализация армии в результате долгой службы во время продолжавшейся 16 лет войны. Выше уже говорилось, что именно к этому времени относят появление эшелонной тактики.
Однако уже ко времени Второй Пунической войны относятся первые признаки разложения вышеописанной системы набора. Дело прежде всего в исчезновении фактического значения набора возрастных контингентов в легионы. Если в «старослужащих легионах» даже гастаты были уже ветеранами многих походов, то в т.н. городских легионах, набиравшихся для защиты самого Рима, служили, вне зависимости от возраста, новобранцы, неспособные к участию в реальном сражении. Подвергается серьезному испытанию и система годичного командования. В ходе Второй Пунической и более поздних войн римлянам зачастую приходится или переизбирать одних и тех же людей консулами несколько лет подряд, или даже создавать экстраординарные командования.
Знаком большей роли полководцев и большей их связи с войском стало присвоение им войсками в случае победы почетного титула «император», обозначавшего претензию на триумф. Впервые этот титул принял Сципион Старший после взятия Нового Карфагена.
Новая система появилась в итоге реформ, которые провел веком позже знаменитый полководец Гай Марий, став в 107 г. консулом и командующим в Югуртинской войне. Позднее он получил возможность утвердить их благодаря тому, что избирался консулом в течение пяти лет подряд (104 – 100 гг. до н.э.). Ко времени Мария система набора, лежавшая в основе римского легиона, вовсе пришла в упадок. Второй век был временем тяжелого кризиса крестьянского землевладения в Риме и, несмотря на принимавшиеся меры по наделению землей (наиболее заметной попыткой исправить положение были реформы Гракхов), социальная база гражданского ополчения стремительно сокращалась. К тому же, по мнению некоторых исследователей [84]84
См., напр.: Штаерман Е.М. Ук. соч. С. 68.
[Закрыть], после походов против Карфагена и Коринфа Рим довольно долго вел войны, приносившие мало добычи, так что крестьян больше не привлекало в армию стремление поправить свое финансовое положение.
Марий стал производить не на основе возрастного или имущественного деления (силу сохранило лишь правило о комплектовании старшего офицерского состава из высшего сословия), «а зачисляя каждого желающего и, главным образом, из среды неимущих» (Sallust., Bell. Jug., 86, 2), т.е., по сути, перешел от набора к вербовке. Хотя комплектование армии еще и в императорский период оформлялось как набор, что позволяло прибегать к решительным мерам в случае серьезной угрозы, на практике подобное предприятие становится крайне редким. Социальное значение допуска в армию пролетариата огромно. Новый солдат в очень существенной мере зависел от полководца: только благодаря его политическим успехам он мог рассчитывать получить награды при триумфах и, в конце концов, земельный надел – вершину стремлений римского солдата Поздней Республики. Долгая служба в армиях одного и того же полководца способствовала формированию между военачальником и солдатами патронатно-клиентельных отношений, лежавших в основе римского общества. Еще более разовьется связь полководцев со своими солдатами после Союзнической войны, когда римское гражданство распространится на всю Италию и полководцы получат возможность набирать легионы в районе своих имений [85]85
См., напр.: Syme R. The Roman Revolution. – Oxford, 1939. – P.31 (о наборе Гн. Помпеем легионов в Пицене).
[Закрыть].
С именем Мария традиционно связывают также реформу структуры легиона. Неясно, впрочем, что в новой системе связано именно с его преобразованиями. Так, термин «когорта» употребляется уже и по отношению к более раннему периоду. По всей видимости, первоначально когорта была подразделением союзнических войск, из которых не составлялись целые легионы. Новый легион, согласно традиционному мнению, по штатному расписанию насчитывал 6000 человек, хотя комплектные легионы были редки (например, в легионах Цезаря обычно было по 3 – 4 тыс. чел.). Легион разделялся на 10 когорт равной численности. Из его состава были выведены легковооруженные и, тем паче, невооруженные, и он окончательно превратился в соединение тяжелой пехоты. Учреждение когорт позволило отдельным частям легионов оперировать самостоятельно в тактическом отношении. Манипулы были для этого слишком малы.
Руководство когортой обычно осуществлял старший центурион первого манипула когорты, самостоятельного командира когорта не получила. Иногда, по специальному приказу командующего, начальство над когортой поручалось одному из военных трибунов легиона, но поскольку их было шесть, всеми когортами командовать они не могли.
Для улучшения управляемости легионов в бою Марий провел и еще одну важную реформу – учредил значки легионов, когорт, манипулов и центурий. Знаками легионов стали знаменитые орлы (первоначально серебряные). В обычной манере древности, значки были сакрализованы: в легионах устанавливался специальный культ своего орла, легион, утративший орла, расформировывался и это название никогда более не появлялось в списке римских легионов.
Содействие легиону, как и прежде, оказывали выставляемые зависимыми общинами вспомогательные войска (auxilia). После Второй Пунической войны в составе римской армии появляются контингенты подвластных племен неиталийского строя (балеарские пращники, ну индийские всадники, галлы, испанцы), а после Союзнической войны только они и имеются в виду под вспомогательными войсками, так как контингенты италийцев вливаются в состав легионов. Именно вспомогательные войска должны были содействовать легионам легковооруженными и конницей.
Период Гражданских войн, которым закончилась эпоха Республики, много дал с точки зрения полководческого искусства (чего стоит одно имя Цезаря), но с точки зрения военной организации не принес существенных новаций.
В качестве тенденций данного периода можно отметить рекордный рост численности армий (возможно, отчасти объясняемый тем, что контингенты италиков перешли в разряд легионов) – например, на стороне Суллы сражалось 23 легиона, а в год битвы при Акции число легионов обеих сторон вместе взятых равнялось 75, а также продолжающуюся профессионализацию армии. Профессионализация коснулась и высшего командного состава. Все наиболее знаменитые полководцы конца Республики командуют своими армиями по много лет и повсеместно утверждаются практика брать в легаты (помощники) уже опытных военных и передавать им командование легионами, не доверяя его военным трибунам. Растет и значение центурионов – так, Цезарь многократно упоминает о роли рекомендаций центурионов на военном совете в своих «Записках о Галльской войне». Один из центурионов Цезаря, Гай Фуфиций Фангон, даже стал сенатором – явление, совершенно немыслимое в предшествующую эпоху. Растет жалование войскам – Цезарь устанавливает в своей армии жалование в 150 денариев для простого легионера и 300 для центуриона (вместо обычных в предшествующий ему период 75 денариев).
Однако если римская тактическая организация имела явное преимущество над всеми соседями (кроме, разве что, парфян) и римские полководцы не испытывали серьезной потребности что-либо в ней менять, то военная система в целом оказалось чрезвычайно тесно связана с социально-политической организацией Республики, и, как и она, оказалась не приспособлена к превращению полиса в мировую империю, будучи подвержена тем же кризисам. «Марианские» солдаты, набиравшиеся из пролетариата, были вовлечены во все социально-экономические беды государства и надеялись получить от военной службы удовлетворение своих чаяний. При этом мало что связывало их с традиционным устройством Республики. Солдаты все более становились преданы своим полководцам, а не Республике, и римляне все больше сражались друг с другом, а не с внешним врагом. И хотя все угрозы извне и отражались даже в годы Гражданских войн, несостоятельность этой организации стала ко времени битвы при Акции всем очевидной.
5. Римская армия периода принципата (I в. до н.э. – II в. н.э.).
После завершения Гражданских войн в Риме установился новый политический строй – принципат, органически соединивший личную власть, основанную в значительной мере именно на военной силе, и республиканские учреждения. Из сказанного в конце предыдущего раздела ясно, что создатель принципата, Октавиан Август, не мог в своем всестороннем преобразовании римского общества обойти стороной армию. И действительно, именно в его долгое правление создается военная система, просуществовавшая в основных чертах до конца II в. н.э. Именно она обычно имеется в виду, когда говорится о римском легионе.
Для ее исследования мы обладаем поистине уникальным для истории античности богатством источников – нарративных, юридических, эпиграфических, папирусных и археологических, в результате чего этой теме посвящено практически необъятное количество научной литературы.
Можно предполагать, что Август поставил перед своей военной реформой ряд задач (или, по крайней мере, что реформа привела к решению этих задач), а именно – обеспечение политической стабильности и ликвидацию угрозы военного переворота; отсутствие угрозы социальной структуре империи при сохранении военной эффективности; соответствие финансовым возможностям; надежная охрана границ империи от вторжений извне и защита провинций от попыток восстания. При самом Августе армия еще должна была вести завоевательные войны (в действительности он был крупнейшим завоевателем в истории Рима), но преемникам он завещал не расширять границ Империи, и чем далее, тем более наступательная война становится для римской армии экстраординарной задачей, хотя вплоть до начала III в. н.э. ее удавалось, при необходимости, успешно решать.
Армия подверглась решительному сокращению: от 75 легионов в год битвы при Акции до восемнадцати. Правда, уже к моменту смерти Августа их число возросло до 25, а ко времени Септимия Севера до 30, а численность нового легиона была несколько выше, но все равно сокращение было значительным. Даже с учетом гвардии, вспомогательных войск и флота империя имела во II в. вооруженные силы всего в 350 – 400 тыс. чел. на 60 млн. чел. населения (т.е. всего ок. 0,67% от населения). По отношению к числу собственно римских граждан призывного возраста число легионеров колебалось, по таблице, приводимой французским историком Ф. Жаком [86]86
Romeet integration de Г Empire (44 av. J.-C – 260ар. J.-C.). – T.l: Les structures de l'empire romain / F. Jacques, J. Scheid. – P., 1990. – P. 140.
[Закрыть], от 10,5—15,5% при Августе до 11 – 16% при Клавдии. Это позволяет предположить, что распространение римского гражданства было обусловлено в значительной мере именно военными нуждами, т.к. процент оставался примерно одинаков для 18 легионов при Августе и 27 при Клавдии.
С целью нейтрализации политического влияния армии легионы, вопреки республиканской практике, были полностью выведены из Италии и размещены на границах империи (в Италии остались лишь части преторианской гвардии – см. ниже).
Согласно первому же «конституционному соглашению» Принципата (27 г. до н.э.), провинции были разделены между принцепсом и сенатом. Уже сразу в числе провинций принцепса оказались те, в которых находились основные военные силы (Галлия, Испания, Сирия), но все же поначалу сохранялись самостоятельные командования в Македонии и Африке. Македония лишилась собственных войск после завоевания дунайских провинций, а Африка продержалась дольше, до времен Калигулы, который вывел командира III Августова легиона из подчинения проконсулу Африки. В провинциях принцепса наместники (они же и командующие войсками, т.к. Рим и после Августа не знал разделения гражданской и военной власти) были лишь заместителями императора – легатами (legati Augusti pro praetore). Во избежание угрозы мятежей под командованием одного наместника не соединялось, со времен Клавдия, больше трех легионов. В результате принцепс концентрирует в своих руках как реальную военную власть (все назначения на офицерские должности, награды и т.д.) в подчиненных ему войсках, так и все почести, установленные римским обычаем для победоносных полководцев, – только принцепс справляет триумфы и только он носит титул императора, который становится одним из атрибутов верховной власти [87]87
Последней и тут была Африка. Последним непринцепсом, получившим триумф, был наместник Африки Луций Корнелий Бальб в 19 г. до н.э., а последним был провозглашен императором наместник Африки Квинт Юний Блез в 22 г. н.э.
[Закрыть]. Принцепс сам являлся патроном всех отставных солдат. Принцепсу были подчинены и воинские части, оставшиеся в Италии. Во главе их были поставлены префекты из числа всадников, которых римская традиция не допускала к военной власти и которые в силу этого были полностью зависимы от него в своем положении.
Ядром армии Принципата остаются легионы [88]88
Подробную справку о римском легионе, включая обзор истории каждого отдельного легиона, см.: Pauly-Wissowa-Kroll. Real-encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, или Daremberg-Saglio. Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, s.v. Legio.
[Закрыть]. Легион сохранил когортную структуру, введенную Марием, с небольшими изменениями. По сообщению Вегеция (Veget., II, 6), автора IV в., написавшего трактат о классической римской армии, в легионе насчитывалось 6145 пехотинцев (1150 в первой когорте, по 555 в остальных) и 718 всадников (132 в первой когорте, 66 в когортах со второй по восьмую и 62 в девятой и десятой когортах). Первая когорта, двойной численности, носила название тысячной (milliaria), остальные назывались пятисотенными (quingenariae). Имел каждый легион и свой собственный парк метательных машин – 55 карробаллист (по 1 на центурию) и 10 онагров (по 1 на когорту). Впрочем, как и в более ранний период, легионы далеко не всегда были комплектными. Исследователи считают более надежным принимать реальную среднюю численность легионов за 5500—6000 чел. Легион представлял собой соединение вполне самостоятельное – он имел собственный лазарет, казну, канцелярию и даже собственные алтари.
Были созданы также набиравшиеся из римских граждан войска, не входившие в структуру легионов и находившиеся на привилегированном положении. Прежде всего это преторианские когорты (cohortes praetoriae), более известные как преторианская гвардия – личные войска императора. Уже со времен Сципиона Старшего у республиканских полководцев была для нужд охраны и т.п. своя преторианская когорта (от претория – места палатки полководца в римском лагере). У принцепса их было уже девять (предположительно, до 10 их число сначала не доводилось для того, чтобы не возник преторианский легион). Преторианские когорты размещались в Италии. Первоначально в Риме находились только три, а остальные были разбросаны по италийским городам, но Луций Элий Сеян, командовавший преторианцами при Тиберии, построил для них единый лагерь около Рима. С этого момента преторианцы стали серьезной политической силой как основной инструмент дворцовых переворотов. Помимо преторианцев существовали несколько менее привилегированные городские когорты (cohortes urbanae)Э подчиненные префекту города Рима. Их нумерация начиналась с десятой, как продолжение нумерации преторианских. Когорты с X по XII находились в Риме, а XIII располагалась в главном городе Галлии – Лугдуне (Лионе). Калигула создал три дополнительные преторианские когорты, распущенные Клавдием, а позднее Домициан вновь довел число преторианских когорт до десяти, каким оно и осталось до Септимия Севера. Веспасиан перевел XIII городскую когорту в Карфаген, а в Лугдуне создал I Флавиеву. Помимо этого военизированный характер имели 7 когорт вигилов (пожарных), размещенных в Риме. Вигилы не считались в полном смысле слова солдатами, и центурионская карьера для них была закрыта [89]89
Описание римской пожарной службы на русском языке см.: Сергеенко М.Е. У к. соч. С. 51—60. Есть капитальное зарубежное исследование: Sablayrolles R. Libertinus Miles: Les cohortes des vigiles. – Rome, 1996.
[Закрыть]. Ранее полагали (и это все еще можно прочесть в большинстве отечественных комментариев), что преторианские, городские и пожарные когорты были тысячными, но в настоящее время господствует точка зрения Марселя Дюрри, согласно которой они были нормальными пятисотенными [90]90
См.: Durry M. Les cohortes pretoriennes. – P., 1938. Противоположную точку зрения см.: Passerini A. Le coorti pretorie. – Roma, 1939.
[Закрыть].
Помимо войск, состоявших из римских граждан, император имел в Италии и некоторые гвардейские части, набранные среди варваров. Самым значимым из таких подразделений была германская конная стража (equites singulares Augusti), набиравшаяся в основном среди прирейнского племени батавов. После битвы в Тевтобургском лесу (9 г. н.э.) она была распущена, но позднее восстановлена и даже увеличена: если при Августе она насчитывала 400 чел., то Траян довел ее до 1000 чел. и построил для них специальный лагерь в Риме на Целии [91]91
См. о них: Speidel M. Die equites singulares Augusti. – Bonn, 1965; Idem. Riding for Caesar: The Roman Emperor's Horse Guards. – L., 1994.
[Закрыть].
Кроме этих привилегированных варварских частей в состав армии по-прежнему входили вспомогательные войска (auxilia), набираемые среди подданных империи, не являвшихся римскими гражданами. По некоторым оценкам, в 150 г. их численность составляла ок. 220 тыс. чел. против 140—168 тыс. легионеров. Конкретное соотношение по провинциям могло быть разным. Если в Дакии при Адриане на один легион приходилось 34 000 солдат вспомогательных войск, то в Испании – 2500. Командование вспомогательными войсками принадлежало римским командирам, и они были организованы по римскому образцу в когорты и алы, хотя и не сводились в легионы, т.к. это считалось опасным. Части вспомогательных войск были трех типов: кавалерийские алы (alae), пехотные когорты (cohortes peditatae) и смешанные когорты (cohortes equitatae), и подразделения каждого из этих типов могли быть тысячными и пятисотенными. Вспомогательные части придавались легионам и со времени Веспасиана почти полностью уподобились войскам римского строя. Хотя они продолжали носить этнические наименования, но из-за региональных диспропорций набора комплектование по этническому признаку постепенно было оставлено. Например, в 88 г. фракиец Бит служил в Сирии в когорте мусуламиев [92]92
Мавританское племя.
[Закрыть](CIL, XVI, 35).
Зависимые царства и племена, не входившие в провинциальную структуру, также зачастую должны были выставлять свои контингента в римскую армию. Эти части, называвшиеся numeri, nationes и symmachiarii, не организовывались по римскому образцу и вообще вплоть до времен Траяна не имели ни определенной численности (она колебалась от 100 до 1000 человек), ни сколь-либо единой структуры.
Система комплектации армии при Принципате была ориентирована в основном на добровольную вербовку. В случаях тяжелых кризисов могли производиться полноценные наборы (как во время Паннонского восстания 6 – 9 гг. н.э. или Маркоманнских войн при Марке Аврелии), но это было скорее исключение. Даже при наборе призванные могли выставить за себя заместителей. Пока служба в легионах оставалась привлекательной, с обычными потребностями набора (по имеющимся подсчетам, 9—14 тыс. ежегодно в легионы, 10—18 тыс. во вспомогательные войска) удавалось справляться без проблем. В легионы набирались только свободнорожденные римские граждане, вольноотпущенники (т.н. латинские граждане) шли в ряды вигилов и на флот, а провинциалы – во вспомогательные войска. Вспомогательные войска служили инструментом романизации, так как от их солдат требовалось знание латыни, а по завершении службы они получали римское гражданство. Латинские граждане получали римское гражданство после 3 лет службы.
Со временем (особенно начиная с Веспасиана) легионы все в большей мере набирались из римских граждан, живших в провинциях и транспаданском регионе Италии, а обитатели Средней и Южной Италии в основном шли лишь в преторианские и городские когорты (предполагают, что императоры считали более надежным набирать в армию провинциалов, т.к. они не были заинтересованы в римской политической борьбе). Со времени Адриана утверждается практика, пагубные последствия которой сказались в годы кризиса III века, – набирать войска каждой провинции на ее территории. Существование определенной политики по социальному составу новобранцев остается предметом споров [93]93
Интересный вариант решения проблемы см. в капитальном труде М.И. Ростовцева: Rostovtzeff M.I. The Social and Economic History of the Roman Empire: In 2 vol. – Oxford, 1957 (начал выходить русский перевод: Ростовирв М.И. Общество и хозяйство в Римской империи: В 2 т. Т. 1. СПб., 2000).
[Закрыть].
Август приложил значительные усилия к изоляции солдат от гражданской общины, не свойственной прежде античному миру. Сроки службы были установлены весьма длительными – 16 лет для преторианцев, 20 лет для легионеров, 25 лет для вигилов (и отставка зачастую затягивалась). Бракам солдат было отказано в юридическом признании (зато на солдат не распространялись ограничения законов против холостяков). Имущество солдат (реculium castrense) выводилось из-под власти отца семейства. Даже в театре солдаты были отделены от граждан (Suet., Aug., 44, 1). Принципом Ранней Империи (нарушавшимся лишь в некоторых восточных провинциях, где этого требовали стратегические соображения) было не размещать солдат в городах, во избежание их вовлечения в городские беспорядки.
Императоры сосредоточили в своих руках дело жалования и награждения солдат. Для выплаты им выходных пособий (praemia) Август создал специальную военную казну (aerarium militare), обычное же жалование и подарки по случаю восшествия на престол, триумфов и других торжеств (donativa) платились из императорского фиска. Жалование было существенно увеличено в сравнении с республиканскими временами. Август установил жалование простого легионера и вигила в 900 сестерциев (225 денариев), солдата городских когорт в 1500 сестерциев, преторианца в 3000 сестерциев. Размеры жалования во вспомогательных войсках остаются предметом споров, оно могло составлять от 2/3 до 5/6 жалования в легионах [94]94
См. об этом: Speidel M.The Pay of the Auxilia // Idem. Roman Army Studies. – Vol.1. – Amsterdam, 1984. – P.83-89.
[Закрыть]. Солдатское жалование было достаточно велико – это видно из того, что по данным египетских папирусов солдаты откладывали 20 – 30% жалования. Домициан увеличил жалование легионеров до 1200 сестерциев (и прочие размеры жалования соответственно), что, впрочем, ненамного опередило снижение веса денария за время между Августом и Домицианом с 3,9 до 3,27 г. Во II в. солдатское жалование не повышалось до правления Коммода, инфляцию же компенсировали увеличением донативов. Так, при восшествии на престол Марка Аврелия и Луция Вера в 161 г. преторианцы получили по 20 000 сестерциев. По окончании полного срока службы (почетная отставка, honesta missio) солдаты получали выходное пособие в размере 12 000 сестерциев (у преторианцев – 20 000), привилегии ветеранов (освобождение от действия некоторых законов) и зачастую земельный участок в колонии.
Римская армия времен Ранней Империи была первой армией, в которой утвердилась развитая табель о рангах (и единственным римским общественным институтом, в котором о ней можно с какой-то уверенностью говорить – существование в Риме бюрократии современными исследователями поставлено под сомнение), хотя и в ней она все-таки не коснулась самой верхушки.