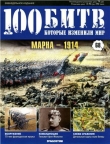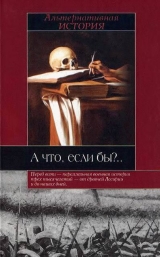
Текст книги "А что, если бы"
Автор книги: Роберт Коули
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 39 страниц)
Тед Морган
Не увязли в трясине?
Тед Морган, служивший ранее во французской армии, является автором книги «Тайная жизнь», представляющей собой биографию коммунистического лидера (а впоследствии агента ЦРУ) Джэя Лавстоуна.
Если бы президент Эйзенхауэр одобрил операцию «Гриф», имевшую своей целью спасение французских войск, окруженных под Дьен-Бьен-Фу, французы вполне могли выиграть это сражение – а вслед за ним и всю кампанию. То есть Америка не увязла бы на дюжину лет в трясине Второй Вьетнамской войны.
Дьен-Бьен-Фу представлял собой небольшой опорный пункт в северном Вьетнаме, на границе с Лаосом. Французские силы заняли этот городок в конце 1953 года для того, чтобы перерезать вьетнамцам пути снабжения и обзавестись базой, откуда можно проводить операции по пресечению вражеских рейдов. Однако генерал Зиап, командующий войсками Вьетминя, понял, что изолированный гарнизон, размещенный близ границ Китая и Лаоса, может стать для него легкой добычей [327]327
Всего французы имели в этом районе примерно 21,5 тысячи человек, из которых 14 500 человек (17 пехотных и один танковый батальоны и три артдивизиона) составлял гарнизон крепости.
[Закрыть]. Для достижения своей цели он прибег к классической тактике, окружив французов сорокатысячной армией [328]328
Четыре пехотные дивизии, соединения артиллерийской поддержки (вооруженные в основном не «тяжелой артиллерией», а куда более удобными и эффективными в условиях джунглей пехотными минометами) и вспомогательные части.
[Закрыть]и подтянув для обстрела французских оборонительных сооружений тяжелую артиллерию. Доставка припасов осажденным могла осуществляться только по воздуху.
В рамках операции «Гриф» рассматривалась возможность посылки с американских баз на Окинаве и Филиппинах бомбардировщиков Б-29 для проведения ковровых бомбардировок вьетнамских позиций под Дьен-Бен-Фу. В январе 1954 года французы обратились к «Айку» с просьбой о выделении им в помощь двадцати бомбардировщиков Б-26 и четырехсот авиационных специалистов, которую американский президент удовлетворил ровно наполовину. В марте он согласился направить французам и несколько «летающих цистерн» С-119, способных поливать артиллерийские позиции Зиапа напалмом. Но когда французы попросили еще и две-три атомные бомбы, им ответили отказом. В Конгрессе президент словно заклинание твердил, что он «не допустит новой Кореи», а офицеры Пентагона заключали между собой пари, когда же французская крепость падет. Это случилось седьмого мая, и стало одним из тех катастрофических поражений, значение которых выходит за рамки военной операции – ибо оно подорвало волю нации и решило исход войны [329]329
В плен сдалось 12 000 французских солдат во главе с генералом де Кастри.
[Закрыть]. Спустя два месяца последовало прекращение огня и разделение страны, а спустя десятилетие воевать во Вьетнаме настала очередь Америки.
Роберт Л. О'Коннел
Заключение
Роберт О'Коннел является автором исследования о причинах войн под названием «Скачка Второго Всадника»
Как быстро мы забываем. Проведя большую часть жизни в тени ядерного противостояния и лишь недавно в связи с окончанием «холодной войны» выбравшись на свет, мы тут же поспешили предать прошлое благостному забвению. Кто ныне всерьез задается вопросом «а что, если бы Дамоклов меч упал?» Даже вспоминая «Карибский кризис», многие умники готовы доказывать нам, что единственный урок этого события заключается в демонстрации того, как в условиях глобального устрашения хорошо может срабатывать стратегическая связь. Но они практически никогда не упоминают другой кризис схожего масштаба – случай, когда стратегическая связь не только не была задействована, но одна из сторон вообще едва ли знала, что происходит.
В начале ноября 1983 года, во время учений НАТО под кодовым названием «Эйбл Арчер» («Меткий стрелок»), американские и британские наблюдатели с удивлением отметили резкую активизацию систем связи «Восточного блока». По ряду признаков можно было судить, что там сработали средства предупреждения о готовящемся ядерном нападении и в войсках была объявлена тревога.
То был вовсе не мираж. Тогдашние хозяева Кремля действительно верили, что Запад близок к нанесению превентивного ядерного удара.
Корни этого заблуждения следует искать в начале восьмидесятых годов, когда Владимир Крючков, тогдашний руководитель КГБ, а впоследствии лидер провалившегося путча против Горбачева, выдвинул идею упреждающего удара. Дело в том, что, по его мнению, новые американские ракеты средней дальности «Першинг-2» с их коротким подлетным временем и боеголовками, способными поражать подземные убежища, являлись идеальным оружием первого удара. В таком случае размещение этих ракет в Европе нельзя было трактовать иначе как намерение развязать войну. По настоянию Крючкова советская разведка развернула активную деятельность, направленную на раннее обнаружение признаков подготовки к атаке.
Эти страхи являлись совершенно безосновательными, поскольку стартовые комплексы «Першингов» на тот момент еще не были развернуты, а сама эта ракетная система даже не испытывалась в учебных стрельбах на дистанции, необходимой, чтобы поразить Москву. Но это не имело значения для пребывавших в маразме, правивших рассыпавшейся империей «кремлевских старцев» – особенно для стоявшего во главе страны тяжело больного выходца из КГБ Юрия Андропова. Их ответом на усугублявшиеся трудности системы были лишь гнев и маниакальная подозрительность [330]330
Интересно знать, следствием каких физиологических процессов в американском руководстве следует объявить «Карибский кризис» 1962 года – когда лишь появление у противника потенциальной возможности нанести по Соединенным Штатам ядерный удар с близкого расстояния было сочтено достаточным основанием для подготовки к «превентивному удару»?
[Закрыть].
Советско-американские отношения продолжали ухудшаться. В июне 1983 г. Андропов охарактеризовал их, как «отмеченные противостоянием, беспрецедентным за весь послевоенный период». Менее двух месяцев спустя советский перехватчик намеренно сбил корейский пассажирский лайнер, предположительно выполнявший разведывательную миссию. К ноябрю Андропов уже был при смерти, и вопрос о том, кто приказал привести советские стратегические силы в полную готовность, остается открытым до сих пор. Ясно одно – что учения «Эйбл Арчер» повергли его кремлевских соратников в состояние паники.
Однако шло время, и ничего не случалось. Маневры НАТО закончились, а нападения так и не последовало. Войска «Восточного блока» стали возвращаться к обычному режиму несения службы. До лидеров СССР дошло, что никто не помешает им встретить 1984 год живыми. Однако в США лишь спустя годы смогли понять, почему коммунисты реагировали на обычные учения в столь эксцентричной манере – а ведь тогда, при постоянной и неусыпной слежке обоих противников друг за другом, одна из сторон явно галлюцинировала, а другая казалась погруженной в дремоту.
В тот момент опасность миновала, но из истории надлежит извлекать уроки. Военный психоз 1983 года мог закончиться катастрофой, и возможности повторения подобной ситуации должен быть навсегда положен конец.
Комментарии к седьмой части
Приходится признать, что история Третьей Мировой войны до сих пор изучена довольно слабо. На Западе – в основном, из чисто идеологических соображений – принято считать, что Советский Союз всеми силами стремился к мировой коммунистической революции, а Соединенные Штаты оказывали этому отчаянное противодействие.
Но могла ли страна, даже в лучшие периоды своего существования не претендовавшая ни на что большее, нежели доминирование в Восточной и Юго-Восточной Европе, всерьез рассчитывать поставить под свой контроль весь мир? В начале XX века Британия строила свой военный флот, исходя из «двухдержавного стандарта» – так, чтобы он был мощнее объединенных флотов двух следующих по силе морских держав. Но Россия никогда не могла рассчитывать добиться «мультидержавного стандарта», то есть военной и экономической мощи, превосходящей суммарную мощь всего остального промышленно развитого мира, то есть Западной Европы и Северной Америки. Это было невозможно не только из-за промышленной отсталости страны (которую, к слову, хотя бы отчасти удалось преодолеть именно большевикам), но и просто по «физическим параметрам» – Европа и Америка в сумме имеют больше и населения, и природных ресурсов. И если Советского Союза боялись во всем остальном «цивилизованном» мире, значит, это было кому-то очень нужно. Характерно, что в мире «слабоцивилизованном» к России и СССР всегда относились либо хорошо, либо индифферентно.
Отставим в сторону байки о том, что Сталин и коммунисты были клиническими идиотами и стремились силой распространить свою идеологию по всему миру, невзирая на заведомую неосуществимость таких планов. С 1927 года, то есть с момента отстранения Троцкого и троцкистов от управления страной, руководство Советского Союза стремилось в первую очередь любой ценой обеспечить безопасность государства – и лишь потом добиться каких-либо внешнеполитических целей, военных или дипломатических. Такую политику можно называть национализмом, прагматизмом или оппортунизмом [331]331
Именно так характеризовал внешнеполитические действия Сталина, к примеру, Джордж Оруэлл.
[Закрыть]и изменой делу рабочего класса – но нельзя не признать, что в условиях 30-х годов она была наиболее логичной.
Именно с этой точки зрения следует рассматривать и послевоенную политику СССР в Европе. Наиболее предпочтительным вариантом всегда являлся союз России и Германии (его сторонниками были и Бисмарк, и фон Сект, и многие деятели германской дипломатии еще в начале Второй Мировой войны – тот же посол в Москве граф фон Шуленбург). Впрочем, Дэвид Лардж прав – в упомянутом им варианте с заключением сепаратного мира между Германией и СССР в 1944 году военный союз был бы уже невозможен. Но при этом не возникло бы и Северо-Атлантического союза, одной из главных составляющих которого был западногерманский бундесвер. То есть мы опять возвращаемся к планам создания единой нейтральной Германии. Напомним, что исходили они отнюдь не от Запада [332]332
Попутно заметим, что описанная в главе 29 ситуация с захватом Советским Союзом большей части Европы закончилась бы примерно так же – созданием в Северо-Западной Европе коалиции государств, ориентирующуюся на Германию и направленную против Англии и США. Безусловно, позиции коммунистов в этих государствах были бы достаточно сильны – но идеологические моменты оказались бы здесь сугубо второстепенными.
[Закрыть].
Для чего же Сталину была нужна единая и сильная Германия? Увы, «зловещий диктатор» был достаточно умен и прекрасно понимал, что Советский Союз не обладает столь могущественной экономикой для того, чтобы тащить на себе бремя одной из двух «мировых держав». А вот Соединенные Штаты наличие «третьей силы» абсолютно не устраивало. Они предпочитали иметь дело именно с разделенной Европой, крайне нуждающейся в американской помощи и заокеанском покровительстве. И тем более им не нужно было здесь британское влияние, установленное итогами Первой Мировой войны, а затем долгим и упорным устранением с политической сцены французов.
Неудивительно, что в ответ на любые попытки Монтгомери проявить самостоятельность, американский командующий регулярно ставил самовлюбленного британца на место. Эйзенхауэр, как и Рузвельт, был весьма неглупым человеком и прекрасно понимал, что усиление позиций Британии в послевоенной Европе Соединенным Штатам крайне невыгодно. Поэтому американцы целенаправленно разыгрывали против англичан «русскую карту», идя на многочисленные уступки Сталину – малообъяснимые с первого взгляда, но весьма логичные с точки зрения послевоенной геополитики. Для США главной задачей было установить свое экономическое и политическое доминирование в послевоенном мире – и в первую очередь на тех территориях, которые ранее являлись сферой влияния Великобритании. Ради этого вполне можно было пойти на усиление в Восточной Европе (до войны ориентировавшейся на Англию) позиций другого конкурента, который справедливо оценивался как более слабый. Тем более что Советский Союз с его далеко не могучей экономикой и исключительно сухопутной армией не имел и тени возможности занять зависимые от Британии заморские территории силой или обеспечить проникновение туда экономическим путем.
Что же касается целей, которые Москва преследовала при создании Берлинского кризиса 1948 года, то они были гораздо проще и прозаичнее, чем это представляется автору. Сталин вовсе не надеялся помешать созданию западногерманского государства или добиться вывода англо-американских войск из западных секторов Берлина. Ему просто нужно было создать– кризис в центре Европы, чтобы отвлечь внимание американцев от Дальнего Востока – где в это время китайские коммунисты начали решительное наступление на Гоминьдан. Отвлекающий маневр удался с блеском – американские аналитики догадались о его истинном смысле лишь полвека спустя.
Тем не менее все эти достаточно прозаические материи на Западе и поныне сплошь и рядом облекаются в одежды классицистской пьесы, где добро непримиримо и горделиво противостоит ужасному злу. И если при этом логика американских военных иногда выглядит просто потрясающе, то логика историков вгоняет в чувство недоумения: понимают ли они, о чем говорят?
«С точки зрения Паттона американцы пришли в Европу, дабы принести ее народам право самим определять свою судьбу», – пишет Дэвид Клей Лардж. Но так думал не только Паттон – все тогдашнее американское руководство официально основывало свои действия именно на этом постулате. Да и современные американские историки, судя по этому сборнику, вполне его разделяют. То и дело создается впечатление, что у Соединенных Штатов не существует и не существовало никаких интересов, кроме как установить свободу и демократию во всем мире. Какой ценой – об этом автор скромно уточняет чуть ниже:
«...нанесение тактических ядерных ударов по продвигающимся советским войскам нанесло бы страшный ущерб тем самым регионам Центральной и Западной Европы, которые в Вашингтоне собирались спасать».
Поневоле закрадывается мысль о том, что наиболее приемлемым местом для установления этой самой свободы и демократии являлась вьетнамская деревушка Сонгми. Правда, для полного торжества американских идеалов там пришлось вырезать всех жителей – очевидно, как неприспособленных к восприятию упомянутой демократии. Что поделаешь: даже в цивилизованной и просвещенной Европе попадаются народы, которые надо бы «загнать обратно в азиатские степи». Тем более что само их название происходит от корня «раб», так что церемониться с ними не следует.
Кстати, на известном процессе лейтенанта Колли выяснилось, что американские офицеры не имели никакого представления не только о нормах международного права, но и о Гаагских конвенциях, устанавливавших законы и обычаи ведения войны! Ну не преподавали им это в Уэст-Пойнте! И сей факт был учтен судом в качестве смягчающего обстоятельства – проштрафившегося вояку вскоре выпустили на свободу. Стоит вспомнить, что немецкие солдаты в 1941 году тоже были совершенно искренне убеждены, что несут «в азиатские степи» европейскую культуру и цивилизацию...
Впрочем, и Азию тоже можно цивилизовать и гуманизировать. Статья Артура Уэлдрона так и называется: «Китай без слез». То есть автор искренне уверен, что если бы Чан Кай-ши не проиграл гражданскую войну, то в стране установились бы мир и процветание. Правда, сам он мимоходом неоднократно дает режиму китайского генералиссимуса весьма нелестные характеристики – но на итог рассуждений это никак не влияет.
Трудно понять, то ли Уэлдрон просто не знает истории Китая в XX веке, то ли он просто пользовался лишь тайваньскими источниками. Ясно одно – генералы и дипломаты рузвельтовских времен разбирались «в коварных хитросплетениях азиатской политики» гораздо лучше, нежели современные американские историки. Не будем разбирать здесь все перипетии гражданской войны в Китае и правдоподобность их изложения у автора, зададимся лишь одним вопросом: а откуда бы взялось благоденствие и процветание в Центральном Китае в случае сохранения там власти Гоминьдана?
Автор в своих построениях исходит лишь из одного параметра – «экономического чуда», продемонстрированного Тайванем, Южной Кореей, Гонконгом и Таиландом в 80-х годах XX века. Но причиной этого «чуда» стала не «либеральная экономическая система», а массовые инвестиции в экономику со стороны стран Запада, и в первую очередь США. Залогом же эффективности инвестиций являлась политическая стабильность, обеспеченная жесткостью режимов, а также изначально низкий уровень оплаты труда. Кстати, Филиппины, имевшие куда более высокий «стартовый капитал» (как-никак, бывшая американская колония), ныне плетутся далеко позади «азиатских тигров». Не продемонстрировала особых экономических успехов и Индонезия под чутким руководством генерала Сухарто – а ведь по численности населения она обгоняет всех «тигров» вместе взятых. Зато коммунистический Китай, руководствуясь все теми же «идеями Мао Цзэ-дуна», за последние годы совершил значительный рывок вперед.
Вряд ли при существовании «двух Китаев» на материке такое было бы возможно. Скорее всего, вялотекущая гражданская война в стране продолжалось бы еще многие годы. Любая же попытка добиться внутриполитической стабильности гоминьдановского режима путем прямого вооруженного вмешательства (как это было в Корее, в Малайзии или на Филиппинах) стоила бы Соединенным Штатам такого количества ресурсов, что им поневоле пришлось бы забыть о своих интересах в других областях мира – в частности, в том же Индокитае... В этом плане Советскому Союзу его «сателлиты» обходились гораздо Дешевле – даже во время Корейской войны вооружение Мао и Ким Ир Сену поставлялось отнюдь не бесплатно.
(К слову сказать, с момента объединения Германии прошло уже десять лет, а экономика бывшей ГДР все еще не поднялась до уровня Западной Германии. И так было всегда – по уровню экономического развития восточная часть Германии неизменно отставала от западной. Пруссия давала стране солдат, а не станки и машины.)
Интересно, а почему бы, продолжая логику автора, не предложить для Азии другой глобальный сценарий? Затянувшееся на многие годы противостояние в Китае лишь усугубит политическую нестабильность на всем Дальнем Востоке и тем самым лишит его всей инвестиционной привлекательности – основной причины «Азиатского чуда». Ведь если Соединенные Штаты возьмутся поддерживать Гоминьдан в бесконечной гражданской войне, это поневоле вынудит их пойти на снижение своего присутствия в других регионах земного шара. Увы, возможности американских вооруженных сил отнюдь не безграничны, что показала еще Корейская война. И в этом плане существование «двух континентальных Китаев» действительно могло бы снизить накал «холодной войны». Правда, тогда Советский Союз к 1960-м годам не получил бы «конкурента» в виде маоистского Китая (существование которого, если рассматривать ситуацию объективно, для СССР было выгодно точно так же, как присутствие Сталина в Европе – для США). Зато западная китайская провинция Синцзян, с начала 1930-х годов фактически находившаяся под советским протекторатом [333]333
Тогдашний губернатор Синцзяна даже не захотел вступать в Компартию Китая и потребовал, чтобы его приняли сразу в ВКП(б). Кстати, на прилагаемой карте «двух материковых Китаев» художник обозначил Синцзян (наряду с Тибетом) как отдельное государство, хотя в тексте статьи Дэвида Ларджа о судьбе этой провинции не сказано ни слова.
[Закрыть], скорее всего, превратилась бы еще в одну республику СССР.
Фактически к этой альтернативе примыкает и вариант, предлагаемый Тедом Морганом: что бы произошло, если бы США ввязались во Вьетнамскую войну десятью годами раньше? Увы, рассматриваться он может как сугубо теоретический, поскольку Эйзенхауэр, как уже упоминалось выше, был слишком умен, чтобы допускать подобные ошибки. Американское «общественное мнение», на которое часто ссылаются авторы патетических статей, как правило, относится к зарубежным делам гораздо индифферентнее чиновников из Пентагона или Госдепартамента – но только до тех пор, пока «на защите интересов демократии» не начинают гибнуть американские парни. Поэтому вряд ли кому-либо из американского руководства, находящемуся в здравом уме, могла прийти в голову мысль менее чем через год после подписания перемирия в Корее ввязаться в очередную азиатскую войну. К 1954 году генерал Паттон уже разбился в автомобильной катастрофе, отставленный от дел Форрестол умер, а Макартур был снят за разгром в Корее. То есть безумной идее попытаться выиграть авиацией очередную проигранную на земле кампанию (да к тому же – чужую) было просто не к кому являться...
Библиография
Поскольку две первые части данного сборника затрагивают период, не слишком широко освещенный в книгах «Военно-исторической библиотеки», мы сочли необходимым дать к нему наиболее подробную библиографию – естественно, отразив в основном источники и работы по военному делу. Напротив, список литературы по XX веку сознательно сделан небольшим – и Первая, и Вторая Мировая войны достаточно широко освещались в других наших изданиях, поэтому нет необходимости в очередной раз перечислять те же самые книги.
Увы, про историю США XVIII и XIX веков это сказать нельзя. Война за Независимость и Гражданская война в Северо-Американских штатах никогда не являлись излюбленной темой отечественных историков. Большинство имеющихся по этой теме работ носят характер научных монографий и издавались весьма незначительным тиражом.
Редакция выражает благодарность Г. Кантору за помощь в подготовке данной библиографии.
Часть I
I. Публикации источников (на русском языке).
Подбор источников для данного списка представлял определенную трудность, поскольку в абсолютном большинстве античных источников есть какие-либо сведения по военной истории. Поэтому в список включены только источники трех видов: сочинения по военному делу (стратегии, тактике, военным хитростям и полиоркетике); истории войн; сочинения, дающие не повторяемую важную информацию по истории войн и военному делу, даже если это не является их основной темой (например, биографии Плутарха). Не включены сочинения, дающие о войнах древности только политическую информацию (например, «Деяния божественного Августа»). Не входят в список также поэтические и риторические сочинения, даже когда они посвящены каким-либо войнам (как «Фарсалия» Лукана). Краткая характеристика источников дана только с точки зрения военной истории. Более подробные сведения см. в изд.: История греческой литературы: В 3 т. / Под ред. С.И. Соболевского и др. М. 1946—1960; История римской литературы: В 2 т. / Под ред. Ф.А. Петровского, С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассек. М., 1959—1962.
Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер., коммент. Ю. А. Кулаковского; вступ. ст. Л.Ю. Лукомского. СПб., 1994. – (Античн. библиотека). Сохранившаяся часть охватывает период с 353 по 378 г. н.э. и является нашим основным источником по римской истории, в т.ч. военной, этого периода. Автор – бывший офицер и служил непосредственно при magister militum Урзицине, однако в ряде мест страдает риторическими неточностями в военной терминологии.
Анней Флор. Две книги римских войн / Пер. А.И. Немировского, М.Ф. Дашковой; прим. А.И. Немировского // Малые римские историки. М., 1996. С. 97 – 190. Произведение II в. н.э., охватывает время от царей до Августа. Носит панегирический характер и зачастую жертвует точностью в угоду риторическому эффекту.
Аппиан. Иберийско-римские войны / Пер. С.П. Кондратьева // Вестник древней истории. 1939. – №2. С. 265 – 300.
Аппиан. Римские войны. СПб., 1994. – (Античн. библиотека). Из «Римской истории» автора II в. н.э. Аппиана Александрийского, организованной не хронологически, как обычно, а по войнам (от царских времен до парфянской войны Траяна в 114 – 117 гг.), до нас дошли целиком книги VI —VIII, посвященные II и III Пуническим войнам и кампаниям в Испании и XII —XVII, в которых описываются войны римлян с царством Селевкидов, Митридатова война и Гражданские войны, а также небольшие отрывки из остальных книг. Наиболее важен Аппиан как источник по Гражданским войнам. Книга VI («Иберика») не вошла в издание 1994 г., и ее надо смотреть в публикации «Вестника древней истории» (см. [3]).
Аристотель. Афинская полития / Пер. С.И. Радцига // Античная демократия в свидетельствах современников. М. 1996. С. 28 – 86. Сочинение Аристотеля дает нам еще древнее и, судя по всему, достоверное описание военной организации Афин классической эпохи.
Беллей Патеркул. Римская история / Пер. А.И. Немировского, М.Ф. Дашковой; прим. А.И. Немировского / Малые римские историки. М., 1996. С. 9 – 96. Официозный историк времен Тиберия (14 – 37 гг. н.э.). Один их немногих наших источников о войнах, которые вел Тиберий как полководец Августа. Изложение очень сжатое.
Гай Саллюстий Крисп. Югуртинская война / Пер., прим. В.О. Горенштейна // Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. М., 1981. С. 40—105. – (Памятники историч. мысли). История войны Рима с нумидийским царем Югуртой (111 – 107 гг. до н.э.), написанная одним из четырех крупнейших римских историков. Содержит также описание военной реформы Мария.
Геродот. История в девяти книгах ' Пер., прим. Г.А. Стратановского. Л., 1972. – (Памятники историч. мысли). Сочинение «отца истории» посвящено греко-персидским войнам (до зимы 479 – 478 гг. до н.э.) и их предыстории и является основным источником по этой теме. Огромные цифры варварских войск, приводимые Геродотом, бесспорно не соответствуют действительности (хотя масштаб преувеличения служит предметом споров), но численности греческих войск и флотов сейчас большинством историков признаются за достоверные.
Греческие полиоркетики. Флавий Вегеций Ренат– Предисл. А.В. Мишулина; коммент. А.А. Новикова. СПб., 1996. – (Античн. библиотека). Издание включает в себя трактаты по осадным машинам, принадлежащие перу знаменитого архитектора и инженера времен Траяна и Адриана Аполлодора и двух более поздних авторов – Афинея Механика и Византийского Анонима, а также трактат Вегеция «Краткое изложение военного дела». Вегеций писал в конце IV в. и пытался представить легион эпохи Ранней империи как идеальную военную организацию. Сам он был не военным, а чиновником, и его труд страдает рядом неточностей, но тем не менее без этого трактата нельзя представить себе римскую армию.
Демосфен. Речь XIV. О симмориях / Пер. С.И. Радцига // Демосфен. Речи. Т. 3. М. 1996. С. 170—181. – (Памятники историч. мысли). Речь о реформе системы финансирования афинского военного флота.
Дигесты Юстиниана. Кн.ХLIХ. Тит.XVI. О военном деле / Пер. И.И. Яковкина // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 591 – 598. Основной источник по римскому военному праву – фрагменты из сочинений юристов конца II —начала III в., сохранившие значение ко времени Юстиниана (527 – 565). Отрывки из этого титула также даны (с коммент. А.Л. Смышляева) в университетской хрестоматии: Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1987. С. 283-285.
Записки Юлия Цезаряи его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Пер., коммент. М.М. Покровского. М., 1993. – [Репринтн. изд.]. – (Лит. памятники). Записки Цезаря создавались (и дописывались затем его офицерами) в обстановке острой политической борьбы и страдают частым недостатком военных мемуаров – резким преувеличением численности противника и приуменьшением собственных потерь. Тем не менее это неоценимый источник по ведению военных действий в древности (в част: ности, прекрасно показаны отношения в военном совете). Некоторые полезные приложения и иллюстрации содержатся также в учебном издании латинского текста: Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. Кн.1 – 4 / Предисл., коммент. С.И. Соболевского. М., 1946—1947. – Вып.1—3. – (Римские классики).
Иосиф Флавий. Иудейская война Пер. с древнегреч. под ред. А.Б. Ковельмана. М.; Иерусалим, 1993. Рассказ об одной из немногих крупных войн периода Ранней империи – Иудейской войне 66 – 73 гг. Написан иудейским полководцем, сдавшимся римлянам и находившимся на службе победителей.
Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре / Под ред. А.А. Вигасина. М., 1993. Римская история походов Александра, очень популярная в Средние века и Возрождение. Считается, что в военном деле Курций разбирался плохо.
Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах , Пер., коммент. Н.Н. Трухиной // Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги о римских историках. М., 1992. С. 8—98. Сочинение римского историка I в. до н. э. (возможно, дошло в сокращении IV в. н.э.). Даны краткие характеристики знаменитых греческих, пунийских и даже одного персидского (Датам) полководцев. Сочинение Непота страдает многими неточностями (они отмечены в весьма содержательном комментарии), и лучше следовать более надежным авторам, но читается он легко и с интересом.
Корнелий Тацит. Сочинения: В 2 т. / Изд. подгот. А.С. Бобович, Я.М. Боровский, М.Е. Сергеенко. Л., 1969. Т. 1—2; 2-е изд. М., 1993. Т. 1—2. – (Лит. памятники). Хотя Теодор Моммзен и назвал Тацита «самым невоенным из всех римских историков», сочинения Тацита в изобилии дают нам уникальную информацию о войнах Римской империи в I в. н.э. Тацит в целом считается достоверным историком, да и мнение Моммзена и Дельбрюка о его военной некомпетентности в последнее время стало подвергаться сомнению.
Ксенофонт. Анабасис / Пер. С. Ошерова // Историки Греции. М., 1976. С. 227 – 390. Менее удачный перевод (но более подробные карта и комментарии) есть в изд.: Ксенофонт. Анабасис Пер. М.И. Максимовой; под ред. И.И. Толстого. М.-Л. 1951; М. 1994.
Ксенофонт. Греческая история / Пер., коммент. С.Я. Лурье; предисл. Р.В. Светлова. СПб., 1993. – (Античн. библиотека). Ксенофонт, как и многие другие древние авторы, сам был военачальником. Его сочинения («Анабасис» – воспоминания о походе наемников Кира, и «Греческая история», охватывающая время с 411 по 362 г. до н.э.) относятся к числу лучших в области военной истории, какие оставила нам античная древность. Несмотря на явные симпатии к Спарте, Ксенофонт считается довольно точным автором.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. / Изд. подгот. С.П. Маркиш, .СИ. Соболевский. М., 1961 -1964. Т. 1 -3; 2-е изд.: В 2 т. / Изд. подгот. С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. М. 1994. Т. 1—2. – (Лит. памятники). Плутарх писал «не историю, а биографии», но поскольку это были большей частью биографии выдающихся полководцев, то в его сочинениях сохранились многие сведения, не повторяющиеся в иных доступных источниках (например, о войнах Пирра или о фессалийских походах Пелопида). Плутарх был хорошо эрудирован, но сам в военном деле не разбирался.
Полибий. Всеобщая история в сорока книгах: В 3 т. / Пер. с древнегреч., предисл., коммент. Ф.Г. Мищенко. СПб., 1994 – 1995. Т. 1—3. – (Историч. библиотека). Сочинение Полибия – единственный крупный источник по I Пунической войне и один из основных по времени от II Пунической до III Пунической войны (включая, в отличие от римских авторов, войны эллинистических царств между собой). Полибий был военачальником и дипломатом и писал «прагматическую историю», которая должна была быть полезна государственному деятелю. Он пользуется, репутацией беспристрастного автора. Вследствие этого он весьма информативен и точен в области военной истории.
Полиэн. Стратегемы / Пер. с древнегреч. Д. Пападопуло. СПб., 1842. Собрание военных хитростей. Автор – македонянин, адвокат, посвятил свое сочинение в 8 кн. Марку Аврелию и Луцию Веру в связи с началом парфянской войны в 162 г. Пользовался почти исключительно греческими авторами, в т.ч. не дошедшими до нас. Есть исторические неточности. Сочинение Полиэна использовалось как учебник по военному делу в Византии.