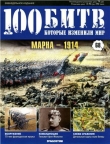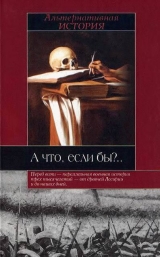
Текст книги "А что, если бы"
Автор книги: Роберт Коули
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
Может показаться парадоксальным, что истолкование отступления Синнахериба в ракурсе пророчеств Исайи и религиозной политики Иезекии стало важнейшим фактором формирования в маленьком Иудейском царстве монотеистической религии, тогда как осуществление Навуходоносором того, чего лишь намеревался добиться Синнахериб, не только не дискредитировало эту веру, но и способствовало ее укреплению, сделав возможным возникновение в будущем дочерних конфессий – христианства и ислама. Но дело обстояло именно так. Во всяком случае так это представляется мне, хотя многие исследователи, чьи взгляды сложились под влиянием позднейшей религиозной истории, попросту не могут или не желают признать судьбоносное значение снятия осады Иерусалима в 701 г. до н.э.
Однако (во всяком случае, для меня) размышления о том, как кучка иерусалимских священников и пророков сумела истолковать случившееся у стен города и как вышло, что их взгляды получили столь широкое распространение и возымели столь далеко идущие последствия, стали прекрасным способом потренировать историческое воображение. Никогда, на мой взгляд, ни раньше, ни позже, столь многое не зависело от убежденности в своей правоте горстки людей, истово веровавших в своего Истинного и Единого Бога, отважно бросая вызов здравому смыслу.
Барбара Н. Портер
Вещий сон способен сотворить чудо
Барбара Н. Портер является признанным специалистом по политической и культурной истории Нового Ассирийского царства.
Что, если бы обеспокоенный приближением киммерийских орд [7]7
Киммерийцы – кочевой народ Северного Причерноморья. Во 2-й половине VIII века до н.э. перешли Кавказ и из района современной Западной Грузии совершали набеги по всему Переднему Востоку. В течение почти ста лет были важной, хотя и трудноуправляемой, силой в передневосточной политике, нанимаясь на службу то к Урарту, то к Ассирии. Приняли активное участие в разгроме Фригии государством Урарту и ассирийцами в 675 году до н.э. В 654 – 652 годах разложившиеся от грабежей киммерийцы были истреблены войсками скифского царя Мадия.
[Закрыть]царь Лидии Гигес [8]8
Лидия – царство на западе Малой Азии, существовавшее с конца VIII века до н.э. до завоевания персами в 545 году до н.э. В период расцвета (при царях Алиатте и Крезе) имело активные культурные контакты с Грецией и установило контроль над греческими городами западного побережья Малой Азии.
[Закрыть]до утра не сомкнул глаз и соответственно не увидел бы знаменитый сон, в котором бог Ассирии повелел ему стать ассирийским данником, а поутру, усталый и павший духом, не смог бы одолеть киммерийцев и встретил смерть не спустя несколько лет, а именно в этот день?
Случись такое, и вполне возможно, современная западная культура выглядела бы несколько иначе. Не увидев этого сна – а уж паче того погибнув! – Гигес, разумеется, не направил бы в далекую Ассирию посольство и не предал бы ассирийцам в качестве дружественного дара двух плененных киммерийских вождей. А не будь этого первого, состоявшегося около 652 г. контакта между двумя народами, Ассирия могла бы и не откликнуться на обращения уцелевших сыновей Гигеса и не призвать своих союзников в Малой Азии поддержать их в борьбе за отцовское наследие. А не окажись киммерийцы в конечном счете вытесненными из Малой Азии, наследникам Гигеса не удалось бы создать богатейшее Лидийское государство [9]9
Лидия находилась на западе Малой Азии, через нее проходили торговые пути на Восток, благодаря чему в сокровищнице Сард, столицы царства, скопились со временем несметные богатства. Последним царем Лидии был легендарный Крез, побежденный персами.
[Закрыть], где процветали торговля, музыка и искусство.
Правда, учитывая, что большинство людей нашего времени слыхом не слыхивало ни о каком Лидийском царстве, в этом можно было бы и не усмотреть особую потерю, не будь подобный поворот событий чреват куда более важными последствиями. Разгромив Лидию, киммерийцы, уже не встречая серьезного сопротивления, продолжили бы свое победоносное шествие к морю, завершив его захватом прибрежных греческих колоний. Получив в свое распоряжение флот этих городов, киммерийцы получили бы и возможность вторжения в лежавшую не так уж далеко на западе материковую Грецию. Мы знаем, что Эллада, находившаяся на пути к культурному расцвету V века до н.э., стала колыбелью современной европейской культуры, но вместо того она легко могла превратиться в огромное пастбище [10]10
В Греции, 80% территории которой занято горами, пастбища практически отсутствовали. Для выпаса скота годились лишь отдельные местности, прежде всего в Фессалии.
[Закрыть]для принадлежавших кочевникам табунов. Представьте себе Геродота, ставшего не «отцом истории», а автором наставлений по верховой езде, а Эврипида не драматургом, а табунщиком!
Из истории Гигеса можно извлечь урок – укладывая свое чадо в постель, чья-то матушка вправе сказать: «Ложись пораньше, сынок, да выспись как следует. Сон дело не пустяковое, ведь от него может зависеть судьба западной цивилизации».
Виктор Дэвис Хансон
Звезда Эллады не взошла
Персы одерживают победу при Саламине. 480 г. до н.э.
Моменты, подобные имевшему место в 480 году до н. э. морскому сражению между греками и персами при Соломине, когда столь многое решалось в столь малое время, не так уж часты в человеческой истории. (Наверное, к ним можно было бы причислить и Хиросиму, но, если не считать развернувшейся в наши дни борьбы за ядерное разоружение, исторические последствия этого события пока еще полностью не выявлены.) Соломин представлял собой нечто большее, нежели просто битва. То был кульминационный момент противостояния между Востоком и Западом, во многом определивший магистральные пути дальнейшего развития человечества. Попытка сдержать распространение эллинистического индивидуализма [11]11
Правильнее говорить об «афинском индивидуализме» – Афины на протяжении трех десятилетий были оплотом рабовладельческой демократии на территории Греции. Использование же термина «эллинистический» неправомерно, поскольку эллинизм как явление возник значительно позже, в эпоху походов Александра Македонского.
[Закрыть]была предпринята под главенством персов, но они несли и насаждали систему представлений и ценностей, общую для всех централизованных деспотий восточного Средиземноморья. Недаром Виктор Дэвис Хансон отмечает, что в языках прочих средиземноморских народов аналогов греческим словам «свобода» и «гражданин» просто-напросто не существовало.С чисто военной точки зрения кампания, которую замыслил владыка персидской державы Ксеркс, по размаху, длительности подготовки и сложности планирования может быть сопоставлена с такими операциями, как поход «Непобедимой Армады» или высадка союзников в Нормандии. Военное противоборство, высшей точкой которого стал Соломин, представляло собой последнюю историческую возможность в зародыше подавить западную культуру.
Виктор Дэвис Хансонявляется автором девяти книг, среди которых наиболее известны «Западный способ ведения войны», «Иные греки» и «Кто убил Гомера?» (в соавторстве с Джоном Хитом). Его исследование «Поля без грез», посвященное проблеме отмирания семейного фермерства, названо Ассоциацией книжных обозревателей Сан-Франциско лучшей нехудожественной книгой 1995 года. Хансон преподает античную историю в Университете штата Калифорния.
Когда б склонилось счастье к большинству была б победа нашей...
Но бог какой-то наши погубил войска, тем, что удачу разделил не поровну – говорит матери Ксеркса гонец, действующее лицо трагедии «Персы» [12]12
Трагедия Эсхила «Персы» была поставлена в 472 г. до н.э. и является редким примером классической греческой трагедии на исторический, а не мифологический сюжет. Учитывая возраст ее автора, сомневаться в его участии в битве при Саламине не приходится. Данные Эсхила и Геродота взаимно подтверждаются.
[Закрыть]автор которой, афинский драматург Эсхил, по некоторым сведениям, сам участвовал в Саламинской битве. Но что, если бы чаша весов и впрямь склонилась в другую сторону? Что, если бы персы взяли верх? Ведь нельзя не признать, что они располагали всем необходимым для победы и едва не одержали ее. Да что там, они должны были победить! А если бы флот, созданный и возглавлявшийся афинским государственным деятелем и военачальником Фемистоклом, потерпел поражение, то не сделало ли бы это невозможным возникновение и развитие западной цивилизации, во всяком случае в том виде, в каком она существует ныне, две с половиной тысячи лет спустя? Или же Фемистокл, случись ему уцелеть при Саламине, сумел бы предоставить свободе и демократии второй шанс, отплыв с остатками афинян в Италию?
«В тот день на дрожащих весах истории балансировала судьба мира. Один другому противостояли не просто два занявших позиции, изготовившихся к бою флота, а вся мощь восточного деспотизма, собранная под властью единого владыки, и разрозненные силы отдельных городов-государств, не обладавших мощными ресурсами, но воодушевленных идеями личной свободы. То был ярчайший и славнейший в истории пример полного торжества духовного начала над материальным».
Приведенный выше отзыв о Саламине и его последствиях принадлежит немецкому мыслителю Георгу Гегелю, нередко становившемуся выразителем апокалиптического взгляда на историю. Но современники битвы – древние эллины – придерживались того же мнения. В трагедии Эсхила «Персы» легшее в ее основу историческое событие, «чудесная победа при Саламине», объясняется тем, что боги покарали мидян (персов) за их высокомерие, вознаградив свободолюбие и отвагу эллинов. Эпиграфические памятники прямо говорят, что эллинские моряки «спасли священную Грецию», не допустив, чтобы она «узрела день рабства». Согласно преданию, Эсхил был участником великой битвы, Софокл танцевал на празднестве в честь одержанной афинянами победы, а Эврипид родился в день сражения. По справедливости все последующие две с половиной тысячи лет Европе следовало бы отмечать годовщину чуда при Саламине, как день спасения, обеспечивший будущий расцвет цивилизации и культуры под эгидой победоносной Афинской демократии. Храмы Акрополя, афинская трагедия и комедия, философия Сократа и сама история как наука – все это явилось миру после греко-персидских войн. Победа при Саламине не просто спасла Элладу: поразительная победа афинян предопределила их последующие культурные достижения
До Саламина Греция представляла собой конгломерат карликовых городов-государств, разобщенных, бедных, слабых и трепетавших пред неодолимой мощью царей Персии, властвовавших над семьюдесятью миллионами подданных. После Саламина эллины не вспоминали о страхе перед иноземным вторжением [13]13
Это несколько преувеличено. Персия продолжала вмешиваться в греческие дела и после битвы при Саламине, причем иногда далеко не без успеха (особенно когда пользовалась противоречиями греческих полисов). Да и македонские завоеватели далеко не сразу стали восприниматься греками как свои. Однако после Саламина вера эллинов в свои силы, безусловно, значительно возросла.
[Закрыть], пока не столкнулись с римлянами. Ни персидские цари, ни иные восточные завоеватели не ступали на землю Греции на протяжении двух тысячелетий, до Османского завоевания, случившегося уже в XV веке н. э. Завоевания, которое, кстати, наглядно показало, что не будь в свое время остановлена персидская экспансия, побежденная Греция оказалась бы под многовековым игом.
До Саламина Афины представляли собой полис с довольно эксцентричной по тем временам системой управления: шел всего-навсего двадцать седьмой год существования радикальной демократии [14]14
Этот срок отсчитан от реформ Клисфена (508 – 507 гг. до н.э.), проведенных после свержения тирании Писистратидов. С этих реформ действительно можно начинать отсчет непрерывного существования демократии в Афинах – но радикальной демократию времен Саламина считать трудно, так как еще сохранялся имущественный ценз. Да и сам этот строй не был столь уж нетипичен для Древней Греции того времени.
[Закрыть]и итоги этого политического эксперимента были еще далеко не очевидны. После сражения Афины встали во главе стабильного и мощного политического союза, а ставшая преобладающей в Эгейском бассейне демократическая культура подарила нам Эсхила, Софокла, Парфенон, Перикла и Фукидида. До морского сражения эллинское единство представлялось эфемерным, а о том, что греки не только отстоят свободу, но и станут вмешиваться в дела соседних держав, никто даже не помышлял. После Саламина на протяжении трех с половиной столетий эллинские войска, имевшие несомненное преимущество и в вооружении, и в тактике, не знали себе равных от южной Италии до берегов Инда. [15]15
Автор вновь смешивает греков (афинян, спартанцев, фиванцев) и македонян, которые, собственно, и распространили славу своего оружия вплоть до Инда. Греческие же армии, до Александра Македонского, не заходили дальше г. Кунакса в Персии (знаменитый поход Десяти тысяч).
[Закрыть]

Персидское царство завоевывает Грецию. Вторжение Ксеркса 479-480 г. до н.э. и Саламинская битва, 480 г. до н.э.
Если греко-персидские войны являли собой один из определяющих этапов мировой истории, то Саламин стал поворотным пунктом греко-персидских войн. И если Саламин представлял собой кардинальный прорыв в судьбах греческого сопротивления персидскому натиску, то в преодолении разногласий и достижении эллинского единства невозможно переоценить роль не столь уж многих людей – горсти афинян и их вождя Фемистокла. Содеянное ими в конце сентября 480 года до н.э. [16]16
Точная дата сражения не установлена, но оно приблизительно совпадает со временем солнечного затмения (2 октября 480 года до н.э.).
[Закрыть]в водах у афинского побережья определило многое из того, что мы на Западе ныне воспринимаем как должное.
Во-первых, следует помнить, что десятилетие греко-персидских войн, ознаменованное такими вехами, как битвы при Марафоне (490 г.), Фермопилах и Артемисии (480 г.), Саламине (480 г.), Платеях (479 г.) и Микале (479 г.), являлось для Востока последней исторической возможностью подавить в эмбриональном состоянии основополагающие элементы будущей общеевропейской цивилизации. Созданное эллинами радикально-динамичное политическое «меню» включало в себя конституционную форму правления, уважение к частной собственности, милиционную систему организации обороны, гражданский контроль над военными силами, свободу научной мысли, рационализм, а также разделение полномочий между духовной и светской властью. Те самые элементы, которые, будучи занесенными эллинами в Италию, распространились впоследствии по всем землям, попавшим под влияние Римской империи. Ведь нельзя не отметить, что в языках прочих средиземноморских народов аналогов таким греческим словам, как «свобода» или «гражданин», попросту не существовало, а в их политической жизни господствовали деспотичные, либо племенные, либо теократические монархии [17]17
Крупными демократическими полисами на территории Греции были только Афины и Фивы, Спарту же вполне можно отнести к «племенным монархиям», Коринф, где правили тираны, к деспотиям и т.д.
[Закрыть]. В наш век сосуществования многих культур будет не лишним отметить, что древняя Греция являлась средиземноморской страной лишь по природным условиям, тогда как духовные ценности ее жителей совершенно не совпадали с таковыми их соседей.
Гегель помнил о том, что, возможно, забыли мы: случись Греции стать западной провинцией Персидской державы – и земли свободных граждан перешли бы со временем во владение Царя Царей [18]18
Данная гипотеза довольно маловероятна. Переход общинных земель в царское владение в Персии не практиковался.
[Закрыть]общественные строения на агоре превратились бы в лавки восточного базара, а гоплиты, наряду с «бессмертными» Ксеркса [19]19
«Бессмертные» – отборный отряд персидского войска, носивший это название потому, что постоянно восполнялся до исходной численности (по Геродоту – 10 тысяч).
[Закрыть]составили бы ударные отряды персидского войска. Вместо эллинской науки и философии, культивировавших дух рационализма и свободного познания, под крылом персидской чиновничьей и жреческой бюрократий расцвели бы разве что суеверия вроде астрологии или ворожбы. Персидские цари свели бы роль выборных органов самоуправления к облегчению задачи выколачивания из народа податей, историю – к восхвалению деяний Царя Царей, а все должности стали бы раздаваться по прихоти сатрапа, считавшегося разве что с советами магов.
Впоследствии афиняне приговорили своего стратега Фемистокла к штрафу и изгнанию [20]20
Ирония судьбы: всегда выступавший с антиперсидских позиций Фемистокл был обвинен афинянами в государственной измене и приговорен к казни, после чего бежал в Сузы, к персидскому царю Артаксерксу I, который доверил Фемистоклу управление несколькими провинциями.
[Закрыть], но представьте себе, чтобы кто-то из подданных персидской державы высказал хотя бы намек на нечто подобное в отношении Ксеркса.
Участь его, надо полагать, оказалась бы горше судьбы Пифия Лидийца. Его разрубили надвое, бросив обрубки тела по обе стороны дороги, по которой маршировало царское войско всего лишь за то, что этот человек дерзнул попросить Ксеркса освободить от военной службы одного из пятерых его сыновей. Несмотря на утверждения некоторых историков, города, подвластные Персии, ни в коей мере не являлись городами-государствами. [21]21
С этим утверждением автора трудно согласиться. Очевидно, оно основано на путанице между понятиями города-государства и демократического города-государства. В действительности и греческие города Малой Азии, и финикийские города, и города Месопотамии сохранили при персах свое внутреннее устройство.
[Закрыть]Не сумей Фемистокл и его моряки справиться со своей задачей, мы, возможно, жили бы сейчас в обществе, где нет места свободе слова, где писателю может угрожать смерть, где женщина угнетена и вынуждена скрывать лицо под паранджой, власть неподотчетна народу, университеты являются не более, чем центрами религиозного фанатизма, а контроль над мыслями проникает в наши жилища.
Примерно тысяча возникших приблизительно в VIII веке до н.э. греческих полисов с самого начала развивались в бесспорно парадоксальных условиях: их успех определялся факторами, грозившими им гибелью, их сила и слабость питались из одного источника. Изолированное положение Греции, ее несхожесть с иными средиземноморскими землями, крайняя степень децентрализации, когда роль государства исполняли крохотные общины, – все это способствовало созданию слоя свободных собственников, опоры гражданского общества. Однако в силу тех же причин Греция отвергала принципы федерализма и даже общей организации обороны. Любые идеи, содержавшие хотя бы намек на централизацию власти, вступали в противоречие с почти фанатической приверженностью эллинов принципам индивидуализма и политической свободы. В древней Греции предложение создать что-либо вроде нынешней Организации Объединенных Наций едва ли могло бы рассчитывать на поддержку, ибо независимым землевладельцам сама мысль об уплате федеральных налогов показалась бы кощунственной. Самых ярых из нынешних приверженцев суверенизации и сепаратизма эллины той поры обвинили бы в робости и непоследовательности. Исходя из представлений греков о региональном суверенитете, истинным эллином вправе назваться Джон Кэлхаун [22]22
Вице-президент США (1825—1832) при Дж. Адамсе и Э. Джексоне. Южанин по происхождению и убеждениям, был «ястребом», выступил со знаменитой воинственной речью в Форт-Хилле (1831).
[Закрыть], а не Авраам Линкольн и не Вудро Вильсон.
Вышло так, что, несмотря на разобщенность и изоляцию, экономическая предприимчивость, политическая гибкость и воинская отвага позволили грекам к VI веку до н.э. колонизовать прибрежные районы Малой Азии, Причерноморье, южную Италию, Сицилию и часть Северной Африки. Около миллиона греков расселились за пределами исторической родины, и всюду, где они появлялись, возникали свободные полисы. Поразительно, что экспансия такого размаха никоим образом не организовывалась и не направлялась из единого центра. Эллинский мир представлял собой около тысячи совершенно самостоятельных городов-государств, не объединенных, по словам Геродота, ничем, кроме языка, религии и приверженности общим ценностям.
Греческая колонизация не осталась незамеченной соседями: несравненно более централизованными деспотиями Азии и теократиями Северной Африки. По правде сказать, к началу V века персы, египтяне, финикийцы и карфагеняне были сыты по горло назойливыми и вездесущими греческими моряками, торговцами, наемниками и колонистами. Представляется естественным, что обладавший несравненно большими материальными и людскими ресурсами Восток должен был попытаться пресечь распространение этой на удивление жизнеспособной и совершенно чуждой большинству средиземноморских народов культуры.
Исторический вызов был принят, но после того, как в течение первых двух десятилетий V века цари Дарий и его сын Ксеркс потерпели поражение, вопроса о примате западной парадигмы в древнем мире более не возникало.
После Саламина греки – будь то афиняне в Египте, собранные со всего эллинского мира наемники в Персии или головорезы Александра Македонского [23]23
После похода Десяти тысяч, описанного Ксенофонтом в «Анабасисе», персидские цари и сатрапы охотно зачисляли греков в свою армию. Можно вспомнить, что наиболее серьезное сопротивление Александру в битве при Гранике оказали именно наемники во главе с Мемноном. Определение же «головорезы» пусть останется на совести автора. Воины Александра были ничуть не более жестоки, чем их противники.
[Закрыть]– сражались в Азии и Северной Африке ради завоеваний или добычи, но им уже не приходилось встречать врага на родной земле, отстаивая ее независимость. После неудачи Ксеркса ни одна восточная держава ни осмеливалась посягать на эллинские владения, которые, напротив, продолжали расширяться. В завоеванных землях греки переустраивали все на свое манер: местную культуру вытесняла эллинистическая, а новые колонии снабжали Элладу рабами и деньгами. Саламин обозначил собой рубеж, за которым эллины лишь наступали, тогда как прочие народы лишь отступали как в материальном, так и в духовном смысле.
Историки посвятили множество трудов более позднему противостоянию Рима и Карфагена, однако, невзирая на кровопролитный характер трех Пунических войн (264 – 146 гг. до н.э.) и даже на ужасающее вторжение в Италию, явно отмеченного манией величия Ганнибала, конечный исход борьбы никогда не подвергался сомнению. [24]24
Представляется, что автор здесь злоупотребляет преимуществами «ретроспективного взгляда». Исход первых двух Пунических войн с самого начала далеко не был очевиден. Это нам, наследникам эллинистическо-римской цивилизации, финикийская цивилизация теперь может казаться слабой. Но ее современники такого мнения вовсе не придерживались.
[Закрыть]К третьему веку до н.э. римский способ комплектования и снабжения войск, римская стратегия и гибкость республиканской системы управления в сочетании с успехами сельского хозяйства, ремесла, строительства и торговли, принципы которых римляне переняли у греков, позволяли определить результат Пунических войн заранее. Учитывая мощь римской армии, единство республиканской Италии и относительную слабость финикийской цивилизации, следует удивляться не тому, что Карфаген пал, а тому, что он смог оказать Риму столь длительное и упорное сопротивление.
В отличие от римлян грекам приходилось обороняться от противника, обладавшего огромным перевесом сил. При Саламине флот персов превосходил греческий в три-четыре раза. [25]25
Это маловероятно. По Геродоту, греческий флот составлял 380 кораблей (цифру 310 у Эсхила обычно считают ошибочной), тогда как персидский флот в начале похода составлял 1207 кораблей и понес значительные потери в битве при Артемисии, а также от штормов, огибая оконечность Эвбеи. Впрочем, не стоит и считать (вслед за П. Коннолли), что у персов осталось всего около 500 кораблей.
[Закрыть]На суше численное преимущество варваров над соединенными греческими силами достигало пяти, а то и десяти раз. Людские ресурсы, на которые могла опереться Персия, соотносились со всем населением Греции и греческих колоний как семьдесят к одному, а в сравнении с несметными богатствами царской казны сокровища славнейших эллинских храмов показались бы смехотворно малыми.
Вдобавок не создавшие никакой общей оборонительной структуры города-государства продолжали ссориться между собой даже перед лицом угрозы персидского вторжения в материковую Грецию. В конце лета 480 г. до н.э., когда Ксеркс высадился в северной Греции, эллинских полисов, подчинявшихся персам или сохранявших нейтралитет, насчитывалось больше, нежели приверженных идее общей обороны. В отличие от Рима периода вторжения Ганнибала, Афины в сентябре 480 г. не просто подвергались угрозе, а были захвачены и разрушены, и население Аттики рассеялось, спасаясь бегством. Сложилась гораздо худшая ситуации, нежели даже та, что имела место в Западной Европе 40-х годов после побед, одержанных нацистами над европейскими демократиями.
Представьте себе оставшуюся без союзников, побежденную и разоренную Францию. Париж разрушен, Триумфальная арка и Эйфелева башня лежат в руинах. Опустели даже деревни: перепуганные жители на крохотных суденышках переправляются в Англию или в североафриканские колонии. И вот, когда кажется, будто страна погибла безвозвратно, горстка патриотически настроенных моряков, собрав в Тулоне малочисленный флот, дает бой несравненно более сильной немецкой морской армаде – и одерживает победу! Более половины нацистских судов потоплены, Гитлер с позором бежит в Берлин, а спустя всего несколько месяцев сухопутные силы Сопротивления уже на территории материковой Франции наносят превосходящей их численно армии оккупантов столь мощный удар, что враг вынужден в беспорядке отступить за Рейн. Но если даже мы признаем, что греко-персидские войны представляли собой последний исторический шанс Востока пресечь развитие юной, но динамичной и экспансивной западной культуры, следует ли считать, что решающим моментом десятилетнего противостояния эллинов сначала Дарию, а потом Ксерксу явился именно Саламин? Да, ибо одержанная афинянами десятью годами ранее победа при Марафоне [26]26
В Марафонской битве афиняне в гордом одиночестве взяли верх над персами (спартанцы прибыли к месту сражения с опозданием, ибо отмечали праздник). Поражение же греков при Фермопилах привело к захвату и сожжению Афин.
[Закрыть]хотя и была блистательной, но смогла всего лишь отсрочить сожжение их города. К тому же предпринятый Дарием в 490 г. поход в Аттику – небольшую равнинную область к северо-востоку от Афин [27]27
Ошибка автора. Аттикой называлась вся область Афин.
[Закрыть]– не представлял собой масштабного вторжения. Перед высадкой на материке персы захватили всего-навсего несколько греческих островов, и все их войско насчитывало не более тридцати тысяч человек. Очевидно, что Дарий вовсе не ставил перед собой задачу порабощения Греции – скорее персидский царь желал покарать Афины за оказанную ими поддержку взбунтовавшимся против него ионийским (расположенным в Малой Азии) полисам. Поражение Афин при Марафоне могло иметь результатом приход к власти в городе проперсидски настроенного отпрыска бывшего тирана Писистрата. Таким образом, в силу ограниченности целей и масштабов этой кампании (практически не затронувшей прочие города-государства материковой Греции) иной исход битвы при Марафоне мог несколько изменить внутриэллинский расклад политических сил, но никоим образом не прервать поступательное развитие эллинской цивилизации.
В 486 г. Дарий умер, и задача отмщения за позор Марафона оказалась возложенной на его сына Ксеркса. Он вознамерился не ограничиться обычной карательной экспедицией, а провести массовое вторжение, превосходящее по масштабам все военные операции, когда-либо имевшие место в восточном Средиземноморье. После четырех лет приготовлений, мобилизовав огромную армию, Ксеркс переправился на европейский берег Геллеспонта и двинулся на юг по территории северной Греции, поглощая по пути эллинские полисы, которым приходилось выбирать между покорностью и полным уничтожением. Разумеется, указанная в древних источниках численность более чем в миллион воинов вызывает серьезные сомнения, однако и половины, и даже четверти этой цифры достаточно, чтобы сделать эту военную акцию крупнейшей из известных Европе до высадки объединенных сил союзников в июне 1944 года. [28]28
Наглядный пример американоцентристского восприятия истории. Даже если оставить без внимания войны древности и Средних веков (так как сведения о 320 000 погибших при Каталаунских полях можно оспорить), выпустить из поля зрения весь Дальний Восток и ограничиться лишь военной историей Запада и Новым временем, с вторжением Ксеркса (если исходить из реалистичных цифр) вполне сопоставимы наполеоновские войны и сражения обеих Мировых войн, предшествовавшие высадке в Нормандии, в том числе и много превосходившие ее по размаху сражения на советско-германском фронте.
[Закрыть]Мы можем не доверять и сведениям, согласно которым персы имели восьмидесятитысячную конницу, но, если даже Ксеркс располагал вдвое меньшим числом всадников, они все равно почти впятеро превосходили конные силы, участвовавшие в предпринятом более полутора столетий спустя завоевании Азии Александром. Что же касается флота, то известия о тысяче двухстах греческих, финикийских и персидских судах представляются вполне достоверными.
Греки предприняли попытку остановить вражеское вторжение в тесном Фермопильском ущелье, где использование характера местности позволяло в известной степени скомпенсировать нехватку сил: ведь в северной, самой узкой части теснины расстояние между утесами и морем составляло менее пятидесяти футов. В августе 480 г. объединенный эллинский флот под верховенством афинян двинулся к мысу Артемисий, а спартанский царь Леонид выступил во главе почти символических сухопутных сил в семь тысяч гоплитов. Расчет делался на то, что моряки смогут отвлечь персидский флот, а перекрывшие горный проход пехотинцы задержат врага. Это дало бы возможность лежащим южнее перешейка полисам сплотиться, послать Леониду серьезное подкрепление и остановить наступление, не допустив неприятеля в процветающие внутренние области центральной и южной Греции.
Однако этому отважному замыслу не суждено было осуществиться. Невзирая ни на отвагу, явленную эллинами при Фермопилах, ни на то, что значительную часть персидского флота у Артемисия разметало бурей, совокупным итогом этой кампании, стало самое крупное поражение греков за всю историю греко-персидских войн. Спартанский царь сложил голову вместе с более чем четырьмя тысячами превосходных гоплитов, многие эллинские суда были повреждены и вышли из строя и теперь вся Эллада севернее Коринфского перешейка была беззащитна перед завоевателями. Афиняне покинули свой город, которому предстояло быть сожженным. Вполне возможно, что в будущем Афинам, подобно Сузам или Вавилону, предстояло стать столицей сатрапии, центром по выколачиванию из населения провинции податей в казну Персеполя.
Таким образом, битва при Саламине представляла собой последнюю возможность остановить победоносное персидское наступление. Легко представить себе, что, если бы греки не дали сражения при Саламине (или проиграли его), они отвели бы все уцелевшие суда к Коринфскому перешейку, чтобы совместно с остатками пехоты Пелопоннеса предпринять отчаянную попытку, сражаясь до последней капли крови, добиться того, что не удалось при Артемисий и Фермопилах. Но в ситуации, когда вся северная и центральная Греция была завоевана, Афины разорены, большая часть эллинского флота выведена из строя, а войска завоевателей воодушевлены одержанными весной и летом победами, попытка удержать перешеек была бы обречена. Персы, подкрепленные ресурсами захваченных греческих городов, наверняка смогли бы прорваться за преграждавшую перешеек стену, тем паче что наличие большого флота позволяло им высадить свои хорошо снаряженные отряды в тылу у ее защитников, в Арголиде и на северном побережье Пелопоннеса. В более поздней военной истории Греции не известно ни одного случая успешной обороны перешейка против значительных сил. В 360-е гг. до н.э., на протяжении одного лишь десятилетия, Эпаминонд, даже не имевший поддержки с моря [29]29
Реформатор воинского строя и греческой военной науки, фиванец Эпаминонд почти два десятка лет командовал армией Фив. Его походы против Спарты подорвали могущество спартанцев.
[Закрыть], одолевал эту преграду четырежды.
Великая битва при Платеях, разыгравшаяся весной [30]30
Битва при Платеях произошла уже летом. Мардоний повторно взял Афины в июне, а сражение случилось после этого.
[Закрыть]после Саламинской победы, завершилась разгромом сухопутных сил персов и привела к их окончательному изгнанию из Греции. Однако как знаковая веха эта битва может быть воспринята лишь в контексте сентябрьского триумфа при Саламине – триумфа тактического, стратегического и духовного. При Платеях персы сражались без своего царя – после поражения на море Ксеркс покинул Грецию и увел с собой лучшую часть войска. У побережья восточной Беотии не курсировал мощный персидский флот. К тому же разобщенные полисы, ожесточенно соперничавшие вплоть до самого Саламинского сражения, воодушевились успехом и при Платеях выступили наконец единым фронтом. Эллины вывели в поле 70 тысяч одних только гоплитов [31]31
Согласно подсчетам Геродота (IX, 29), гоплитов было 38 700. Число 70 000 включает легковооруженных воинов и прислугу.
[Закрыть], не говоря о вспомогательных легковооруженных отрядах – гораздо больше, чем им удавалось собрать когда-либо прежде. Таким образом, деморализованным недавним поражением персам пришлось сражаться без царя, без флота и без привычного для них подавляющего численного превосходства. Подкрепления с моря им ожидать не приходилось. Эллины же рвались в бой, полагая, что отступающие из Аттики персы деморализованы недавним разгромом своего флота и тем, что царь и высшие сановники бросили их во враждебной стране.
Победы при Марафоне и Платеях – так же как неудачи при Артемисии и Фермопилах – не являлись решающими моментами десятилетнего греко-персидского противостояния. Марафон отсрочил завоевание Греции, Платеи покончили с надеждой Персии на такое завоевание, но невозможным его сделал именно Саламин.
Но если согласиться с тем, что победитель в греко-персидских войнах определился при Саламине, следует задаться вопросом – благодаря чему удалось эллинам одержать столь значимую победу?
Источники пятого века до н.э. – «История» Геродота и «Персы» Эсхила, наряду с более поздними, наиболее примечательными из коих являются писания Диодора и Плутарха, а также топографическая реконструкция местности, позволяют восстановить картину сражения с известной степенью достоверности. После долгих споров вожди панэллинского флота согласились принять план афинского стратега Фемистокла, согласно которому греческие суда, числом около трехсот пятидесяти [32]32
Цифра округлена автором, в действительности – 380 или 310.
[Закрыть], должны были сразиться с несравненно более сильной (насчитывавшей по разным сведениям от шестисот до тысячи кораблей) персидской армадой в узком проливе между островом Саламин и побережьем материковой Греции к западу от Афин. Персы к тому времени заняли почти всю Аттику и на юге патрулировали территорию вплоть до города Мегары, что лежит всего в нескольких сотнях ярдов напротив северной оконечности Саламина. Афиняне рассеялись: мужчины, способные держать оружие, сосредоточились на Саламине, тогда как женщин, стариков и детей отправили на более отдаленный остров Эгина и лежавшее на юго-западе побережье Арголиды.
Помимо очевидной – отбить захваченный врагами город [33]33
Конечно же, Фемистокл стремился рано или поздно отбить Афины. Но очевидно, что его непосредственные планы были связаны с морской битвой, а не с этой невозможной на тот момент задачей.
[Закрыть] – Фемистокл ставил перед собой и несколько иную задачу – навязать врагу бой немедленно. Это надо было сделать, пока эллины еще не успели свыкнуться с мыслью о потере оккупированной всего несколько недель назад Аттики и антиперсидская коалиция не распалась. При этом он утверждал, что в тесном проливе, при явной нехватке пространства для маневра, персы не смогут ввести в сражение весь флот одновременно и реализовать таким образом численное преимущество. Оно будет сведено к нулю, в то время как эллинам представится возможность использовать качественное превосходство своих более тяжелых кораблей. Не опасаясь захода с тыла или охвата с флангов, греки могли беспрепятственно наносить таранные удары в борта более легких персидских, ионийских и финикийских судов передней линии, тогда как остальной вражеский флот оставался незадействованным. Экипажи поврежденных эллинских судов могли найти спасение на Саламине, тогда как моряков и воинов, спасавшихся с идущих ко дну кораблей персов, ждала неминуемая гибель от копий засевших на множестве мелких островков афинских гоплитов.
Морское сражение, состоявшееся между двадцатым и тридцатым сентября 480 года до н.э., продолжалось целый день, и к ночи потерявший половину судов персидский флот был рассеян. Успех греков определился тем, что им удалось свести на нет превосходство противника как в численности, так и в мореходном искусстве, причем если достигнут успех был в ходе боя, то его предпосылки созданы еще раньше. Эллины ввели врагов в заблуждение, создав у тех впечатление, будто они отступают на северо-запад по проливу между Мегарой и Саламином, и это заставило персов совершить сразу две роковые ошибки. Во-первых, они отделили часть армады чтобы перекрыть выход из пролива и, таким образом, вывели значительные силы из боя. Во-вторых, оставшимся кораблям Ксеркс приказал войти в пролив между Саламином и побережьем Аттики и плыть всю ночь, в результате чего к утру экипажи его кораблей были измотаны, а сам флот заперт на ограниченном пространстве. В описании деталей сражения древние источники расходятся, но представляется весьма вероятным, что 350 эллинских трирем атаковали, выстроившись в две линии, причем каждая растянулась на ширину пролива, составлявшую около двух миль. Персы, даже если бы они сумели выстроить свой зажатый между островом и материком флот в боевой порядок, не могли одновременно ввести в сражение намного больше кораблей, чем греки. У Геродота и Эсхила, не говоря уж о позднейших источниках, ход самой битвы освещается довольно скудно, однако несомненно, что основой эллинской тактики было использование тяжелых судов для нанесения таранных ударов. Греки, чьи семьи укрылись на Саламине и побережье Пелопоннеса, сражались с мужеством отчаяния и сумели обратить в бегство многоплеменную вражескую армаду, хотя даже после завершения битвы численное превосходство оставалось за персами. Однако завоеватели пали духом, и спустя несколько дней Ксеркс в сопровождении шестидесятитысячной личной гвардии отплыл на родину, поручив ведение войны своему наместнику Мардонию, оставшемуся в Греции с немалыми сухопутными силами. Таким, в основных чертах, представляется нам ход Саламинской битвы.