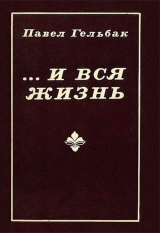
Текст книги "...И вся жизнь (Повести)"
Автор книги: Павел Гельбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Спор о Человеке
1
– Вы понимаете, что сделали? Нет, вы ни черта не понимаете! – лысина Крутковского краснеет, потом становится красной шея – длинная, вылезающая из широкого ворота рубахи.
Соколов молчит. Редактор распаляется пуще прежнего. Он тычет длинным костлявым пальцем в мокрую полосу:
– Какой это шрифт?
– Академический, заглавный, двадцать четвертый кегль, – как заученный урок повторяет Соколов.
– Я вам приказывал академический не употреблять.
– Но поймите, у нас пока еще бедное шрифтовое хозяйство, была война.
– Что? С-с-сылочки на объективные причины! – Крутковский не кричит, а шипит. – С-с-садитесь на мое место, а я пойду за вас работать в с-с-секретариат, в типографию, выпускающим!
Редактор срывается с места и устремляется к вешалке, стоящей в углу. Он накидывает на плечи пальто, нахлобучивает шляпу. Соколов садится за редакторский стол, пододвигает к себе лист бумаги, обмакивает перо в массивную чернильницу, покоящуюся на черной мраморной плите рядом с медным календарем-башенкой. Редактор оборачивается у самой двери:
– Чего вы расселись?
– Согласно вашему распоряжению, – спокойно отвечает Викентий, – сел на ваше место и пишу приказ…
– Какой еще к черту приказ?!
– О вашем назначении выпускающим. Справитесь, шрифты знаете.
Редактор, словно рыба, вытащенная на берег, открывает и закрывает рот. Он силится что-то сказать, но из горла вырываются лишь какие-то хрипы.
Я стал невольным свидетелем этой безобразной сцены. Конечно, Крутковский зря позволяет себе говорить на «высоких нотах» с сотрудниками редакции, но и Соколову не к чему с таким пренебрежением относиться к редактору.
Моя попытка успокоить обоих вызвала новый приступ ярости у Крутковского. Оказывается, он совсем не умеет владеть собой. А ему это крайне необходимо. В запальчивости он может незаслуженно обидеть человека, наговорить всякой ерунды. Вот и сейчас его занесло.
– Я редактор! – кричит Крутковский.
– Прискорбный факт, – с деланным спокойствием подтверждает Викентий, – но мы о нем осведомлены.
– Я сумею заставить вас всех мне подчиняться. В газете может быть только один редактор – диктатор.
– Ну уж и диктатор, – не выдерживаю я. – Газету делает творческий коллектив и тут, пожалуй, диктатор будет не на своем месте.
– Вот как! Тогда поговорим в обкоме.
Вместо принципиального разговора нас заносит на кухонную склоку. Этого никак нельзя допустить. А поговорить по душам нужно. Крутковский, словно стараясь оправдать свою фамилию, уж очень крут с людьми. За каждую мелочь распекает, приклеивает обидные ярлыки. Он может назвать человека «пособником врагов народа» лишь за то, что запятая в статье стоит не на месте. В коллективе его боятся, не любят. Мне искренне хочется предостеречь Ивана Кузьмича. Ведь нам вместе работать.
Говорю, что мне хочется искренне помочь Крутковскому, хотя отлично знаю, что в мою искренность редактор меньше всего верит. Он убежден, что его назначение ущемило мое самолюбие. Думают так и другие. Вечно я ловлю на себе сочувственные взгляды, постоянно должен быть готовым к ответу на дурацкий вопрос:
– За что тебя турнули?
– Да ни за что… Просто так.
Собеседник обычно многозначительно хмыкает: «Просто так не бывает». Одни считают, что со мной расправились за речь на пленуме, другие – за то, что в газете подверглись критике некоторые руководящие деятели областного масштаба. Зарвался редактор – вот его и осадили. Что меня осадили – беда невелика. Хуже, что редакция страдает. Так уж получилось, против моей воли, – себе-то я могу признаться, – что коллектив разбился на две группы. Большинство сотрудников, тех, что начинали делать газету, не принимают Крутковского. К нему, пожалуй, ближе других лишь Задорожный да Рындин. Его восстановил на работе новый редактор. Со мной Рындин теперь не разговаривает.
Групповщина погубит редакцию, разъест ее словно ржавчина. Надо искать путей сближения с Крутковским. И делать это, очевидно, следует мне. Ведь его знания, работоспособность могут пригодиться газете. Не к чему нам вести дворцовую борьбу за трон.
2
Крутковский словно прочитал мои мысли, и сам пошел на сближение. Сегодня он заглянул ко мне в кабинет и, попытавшись выжать на лице подобие улыбки, сказал:
– Сопите, обиделись? Напрасно. Нам с вами надо работать согласованно, поддерживать друг друга. Зачем вы влезли в мой спор с Соколовым?
– Простите, Иван Кузьмич, но спора не было. Вспыхнула самая настоящая кухонная свара.
– Да, – согласился Крутковский, – Соколов вел себя по-хамски, он ни в грош не ценит авторитет редактора.
– Криком авторитет свой не утвердишь, Иван Кузьмич. – Убедившись, что Крутковский слушает меня, я продолжал более уверенно: – Редакция – коллектив творческий. Вне зависимости от должности мы дополняем друг друга. Значит, нам надо с большим уважением относиться к сотрудникам. Иначе не создать творческую обстановку в редакции.
– Поймите, Павел Петрович, наш человек любит чувствовать власть. Он тогда будет дисциплинирован, когда знает, что у начальника решительный характер.
– Отсюда и стремление к диктатуре в редакции?
– Попробуйте приблизить свою точку зрения к моей. Сразу станет легче. Я к этому выводу не вдруг пришел. Жизнь научила правильно мыслить и действовать.
Беседа ни к чему не привела. Мы по-разному понимаем, каким должен быть стиль работы редакции.
3
Перед глазами появляется призрак Виктора Антоновича. Он барабанит пальцами по письменному столу. Это видение меня часто навещает. Неужели смерть Урюпина произвела на меня такое впечатление? Все-таки он подло поступил по отношению к своей жене, да и в редакции вел себя недостойно.
Интересно, сработался бы Урюпин с Крутковским? Сцены, подобные той, что произошла между редактором и секретарем, у нас теперь разыгрываются ежедневно. У всего коллектива несколько часов уходит на выслушивание руководящей ругани, а еще несколько – на переживания. Когда же серьезно над материалами работать?
Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что переоценил свои силы, когда решил остаться в Принеманске. Надо было принять предложение Сергея Борисовича. В «Красном знамени» Крутковские не приживаются.
Телефонный звонок прерывает невеселые мысли. В трубке Тамарин голос:
– Скоро приедешь?
– Тебе что, плохо? Надо в больницу?
– Нет, схватки еще не начались.
– В случае чего – звони.
Тамара долго молчит, потом выпаливает в трубку:
– Сегодня вызывал секретарь обкома и предложил уйти из редакции.
– Как уйти? Почему уйти? Ведь ты в декретном отпуске.
– Почему ты на меня кричишь? – обижается Тамара. – Я ему об этом тоже сказала. Но он говорит, что вопрос следует решать именно сейчас. Есть вакансия корреспондента Всесоюзного радио по Западной области.
– Сейчас ты не можешь ехать в Москву. Я тебя не отпущу в таком положении.
– Он сказал, что сейчас надо только оформить документы.
– Подумаем.
– По-моему, за нас уже решили. Крутковскому и тебя одного достаточно.
– Возможно.
Вот, оказывается, что прикрывает редактор своей вымученной улыбкой. В десятый раз принимаюсь читать один и тот же абзац в статье Задорожного о совхозе имени Дзержинского.
«За время гитлеровского хозяйничанья в совхозе земля одичала. Ее плодородие крайне снизилось. 230 гектаров земли хорошего качества оккупанты превратили в пустырь, поросший бурьяном и чертополохом».
– Бурьяном и чертополохом! – громко повторяю прочитанное. Отодвигаю папку с оригиналами. Первый час ночи, а я еще ничего не заслал в типографию. Значит, Крутковский уже добрался до Томки. Помешала она ему! Да они всего раз и виделись. Следующий удар теперь по мне. Нажимаю кнопку. Входит секретарша. Беру папку оригиналов:
– Отправьте… Впрочем, не надо. Принесите мне вторую полосу.
Секретарша ушла. Снова пододвинул к себе папку с материалами, начинаю читать: «…превратили в пустырь, поросший бурьяном и чертополохом».
4
Д-з-з-з-зинь… Д-з-з-з-з-зинь… Надрывается в приемной звонок. Крутковский вызывает к себе то одного, то другого сотрудника. Сегодня он нервничает. В номере стоит несколько, с его точки зрения, «опасных» материалов. Всю вторую полосу занимает письмо группы легализовавшихся участников националистических банд. Они призывают своих бывших коллег по разбою сложить оружие, прекратить бессмысленную борьбу, прийти с повинной в органы. Авторы письма на собственном опыте убедились, что повинную голову меч не сечет. Им предоставлена возможность честным трудом искупить вину перед согражданами. На третьей полосе подвалом поставлена статья старого учителя, который предлагает организовать смешанные школы, где бы одновременно обучались ребята разных национальностей. Такие школы, где можно создать классы с русским, польским, литовским и белорусским языками обучения, способствовали бы интернациональному воспитанию детей, укреплению дружбы между ними. Даже передовая статья о развертывании агитационной работы на селе, написанная Платоновым, кажется редактору излишне смелой.
Постепенно я убеждаюсь в проницательности Соколова. Наделавшая много шума критическая статья о Бурокасе была из серии «беспроигрышных билетов». Иллюзия, что Иван Кузьмич глубоко проницателен и смел быстро рассеялась. Вся его практика свидетельствует о крайней осторожности. К каждому нестандартному материалу он относится как к стихийному бедствию. Крутковский требует, чтобы такие материалы до опубликования визировались различными должностными лицами. Но даже такие визы не рассеивают редакторских сомнений. Так было и сегодня. Все три статьи, показавшиеся Крутковскому опасными, были посланы для ознакомления, помимо заинтересованных организаций, еще и в обком партии.
Секретарша открыла дверь моего кабинета.
– Павел Петрович, он просит вас зайти.
Откладываю недочитанную полосу. В приемной сталкиваюсь с Ольгой Разиной. Она только что вышла от редактора. Щеки покраснели, глаза грустные.
– Вот и расстаюсь я с редакцией, Павел Петрович.
– Что произошло, Оля?
– Уволилась.
– Подожди меня в кабинете, сейчас освобожусь, поговорим.
– В редакции? Я счастлива, что ухожу.
– Где же мы встретимся?
– В сквере. У подножья горы… Завтра в шесть.
Крутковский протягивает мне клочок бумаги. Читаю заявление Разиной. Ольга просит освободить ее от работы в редакции по семейным обстоятельствам.
– Ерунда, нет у нее никаких обстоятельств, которые мешали бы работать в редакции.
– Вы так думаете?
– Уверен.
– Полноте, Павел Петрович. Мы не дети. Все же знают.
– Что знают?
– Мне не хочется с вами ссориться. Верьте слову, я уговорил Разину подать это заявление, только заботясь о вашей репутации. Еще потом спасибо скажете.
– Что я потом скажу – не знаю. А пока говорю, что все это отвратительная сплетня.
В кабинет вошел Викентий.
– Товарищ редактор, надо матрицировать внутренние полосы, а из обкома партии «добро» еще не поступило.
– Все редактор, редактор, – возмутился Крутковский, – а секретариат у нас что – не боевой штаб, а тихая заводь, а?
– Сами вы потребовали, чтобы ничто через вашу голову не беспокоил секретарей обкома. Материалы по вашему указанию посланы на согласование второму секретарю.
Редактор взглянул на часы, неохотно протянул руку к телефону:
– Вот вы, Павел Петрович, все толкуете о творческой обстановке. Когда же редактору думать, если его ближайшие помощники ничего самостоятельно решать не могут.
– Создали бы редколлегию, – сказал Соколов. – Легче работать стало бы и вам, и нам.
– Не созрели мы еще для редколлегии. Пока работа не наладится, надо не митинговать, а порядок наводить. Вам бы, товарищ Соколов, следовало в секретариате большими буквами написать сталинские слова: «Болтайте поменьше, работайте побольше, и дело у вас пойдет наверняка!»
Телефонная трубка наконец снята. Иван Кузьмич поднимается с кресла, становится по стойке смирно, словно секретарь, номер телефона которого он только что набрал, может его увидеть.
– Андрей Михайлович, добрый вечер… Крутковский беспокоит… Мы вам посылали три статейки… Прочли? Очень приятно. Какое ваше мнение? Мое мнение? Не очень, знаете, но все ж таки. Островато. Что?.. Не понимаю, как же это так… Спокойной ночи… – Иван Кузьмич не сразу решился положить на рычаг телефонную трубку, словно она могла сообщить что-то дополнительное.
– Подождите матрицировать, – сказал он Соколову, – еще раз прочитаю материал.
Когда Соколов ушел из кабинета, я спросил:
– Андрей Михайлович сделал какие-нибудь замечания?
– Вместо того, чтобы принципиально сказать свое мнение, – острит, – вздохнул редактор. – Под статьями, говорит, напишите: «Согласовано с секретарем обкома партии», а внизу на четвертой полосе, где стоит подпись ответственного редактора, не забудьте свою фамилию поставить.
Узнаю почерк Андрея Михайловича. Снова предметный урок, предостережение против чрезмерного увлечения «согласованием». Ох, как мы любим все на свете согласовывать!
Ухожу к себе в кабинет. Субботний вечер – не грех и домой пораньше уйти. Материалы в очередной номер прочел еще днем.
На моем столе лежит белый конверт. Рядом с моей фамилией большими буквами Ольга написала «Лично!!!». Что это она? Зачем письмо, раз договорились завтра встретиться.
Листок бумаги оторван неровно. На нем торопливо, видно, писала стоя, Ольга извиняется, что опрометчиво назначила свидание на завтра. Никакого свидания не нужно. Так лучше. Просит не обижаться, а чтобы я лучше понял ее мотивы, прилагает письмо, которое раньше написала мне, но все не решалась передать. Сейчас, когда мы все равно больше не будем встречаться, она считает возможным познакомить меня со старым письмом. И в заключение просит: «Прочтите, порвите и строго меня не осуждайте».
Письмо было длинным и, как видно, писалось в несколько приемов. Возможно, даже в виде дневника. Не представляю, как она могла все это написать, не привлекая внимания Разина. Прочитав исповедь Ольги, я сразу же порвал ее письмо. И не только потому, что она об этом просила. Мне стало страшно и за нее и за себя. Без вины мы можем стать виноватыми. Эти страницы – чистые и искренние, попади они в руки Крутковского, Рындина и того же Разина, могли послужить обвинительным актом против Ольги.
«Жизнь моя не удалась, – заканчивала письмо Ольга, – вы были маленьким лучиком света в моем темном мире. Спасибо вам за это. Я ухожу из редакции. Мы не будем видеться. Страшно об этом подумать, но так нужно!!!»
Только успел порвать письмо Ольги и бросить в корзину, как в кабинет вошел Иван Кузьмич. Он прижал руку к щеке, болезненная гримаса исказила лицо. Не вырвавшись еще из плена Ольгиного письма, я мрачно спросил:
– Что стряслось?
– Болит, проклятый. Нет ли у вас пирамидона или аспирина?
– Нет.
– Дайте хоть папиросу.
Крутковский закурил, стараясь подольше держать дым за щекой. Я посочувствовал:
– Нет ничего противнее зубной боли.
– И не говорите, глаза на лоб лезут, – выпустил клубы дыма. – Нет, не проходит… Придется вам, Павел Петрович, за меня подежурить. Я уж во вторник за вас отбуду. Ой, ой, как болит…
– Не возражаю.
– Спасибо.
Держась за щеку, редактор пошел к себе. Я вызвал Викентия:
– Матрицируй вторую полосу, я ее раньше читал. Третью сейчас дочитаю.
– А он? – Соколов кивнул в сторону редакторского кабинета.
– Заболел.
– Живот схватило?
– Нет, зубы.
– А ты еще им восхищался: ах, какой смелый, ах, какой проницательный!
В этот вечер из кабинета редактора больше не доносилось ни одного звонка.
5
Приснится же такой дурацкий сон! Я увидел свою могилу. Да, могилу, обвалившуюся, затоптанную. Из-под земли торчит кусок гроба, крышка сползла. Какой-то шутник вложил в гроб осколок зеркала. Я сам, невесомый, откуда-то издали внимательно разглядываю свою могилу. В зеркале отражается скелет. У меня не возникает сомнений, что скелет это мой, мои пожелтевшие кости. Рядом надрывается оркестр. Еще одного покойника, по соседству со мной, опускают в могилу. Но что это – ноги в офицерских начищенных сапогах ступают на мою могилу, топчут гроб. Я хочу поднять глаза, взглянуть, кто же это топает по моему последнему пристанищу. Голову поднять не могу, лица обидчика не разглядеть. Музыка неожиданно умолкает, что-то звенит, дребезжит в ушах. Сквозь сон прорывается голос Тамары:
– Нет, нет, вы ошиблись. Это квартира.
Дурацкий сон, нелепое пробуждение. Сегодня воскресенье, можно бы и подольше поспать. Кто это звонил? Ах да, ошиблись номером. Терпеть не могу утренних телефонных звонков. Утром звонит дотошный читатель. Он обнаружил в газете опечатку – ему нетерпится «порадовать» редактора. Утром звонит рассерженный опровергатель – ему тоже не хватает терпения, надо поругаться, доказать свое «алиби». С утра пораньше вызывают в обком для «вливания» и «чистки мозгов».
Перед глазами подписанные ночью полосы «Зари Немана». Я панически боюсь опечаток. В них, проклятых, прежде всего и таится погибель редактора. Мне кажется, что даже всевышний, будь он дежурным редактором, мог бы запросто проглядеть пропущенную или оказавшуюся не на месте букву. Она, коварная, изменит слово, придаст ему политическую окраску.
Слышу в коридоре грузные шаги Тамары, вскакиваю с кровати, иду к ней навстречу. С пафосом декламирую:
Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивою…
– Как давно, Павочка, мы не встречали с тобой новый день стихами и песней… Почитай Симонова.
Тамара обожает стихи Константина Симонова. Многие страницы сборника «С тобой и без тебя» она помнит наизусть. Да разве только Тамара в эти военные годы заучивала на память симоновские стихи! Однажды в полку тяжелых бомбардировщиков я был свидетелем, как возвращавшиеся с задания пилоты сообщали свои позывные полюбившимися строками стихов поэта:
Жди меня, и я вернусь…
С аэродрома отвечали следующей строкой. Стихи на войне стали шифром.
Я обнимаю Тамару:
Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай…
– Сумасшедший, пусти, слышишь – картошка сгорела.
Мы дружно выбрасываем в ведро обуглившуюся картошку. Вкусный завтрак не состоялся. Раздается звонок.
Иду открывать. На пороге – Иван Кузьмич Крутковский. Ранний и неожиданный гость.
– Шел мимо. Решил проведать. Да и объясниться мне с Тамарой Васильевной следует…
– Проходите, садитесь, – Тамара поневоле входит в роль хозяйки. – Что вы, Иван Кузьмич, какие между нами могут быть объяснения.
Крутковский ставит на стол бутылку шампанского. Хлопает о буфет пробка. Из бутылки с шипением вырывается нетерпеливое вино.
Чокаемся.
– Верьте слову, Тамара Васильевна, работать с вами мне доставляло истинное удовольствие.
– Возможно, – погасив улыбку, отвечает Тамара, – но нам собственно и не пришлось вместе работать.
– Можете не сомневаться: характеристику из редакции вы получите превосходную. Кстати, перевести вас, Тамара Васильевна, собкором Всесоюзного радио нам посоветовал сам товарищ Беркутов из Центрального Комитета.
Наш гость, потупив очи, старательно катает по скатерти кусочек хлеба. Он весь ушел в это увлекательное занятие. Мне неприятен начатый им разговор. Поднимаю бокал:
– Выпьем за нашу «Зарю», за ее коллектив. Пусть он всегда будет дружным. А ведь есть у нас хорошие люди-человеки. Выпьем за них!
Иван Кузьмич, склонив голову к плечу, прислушался к мелодичному звону бокала, учтиво произнес:
– Человек – это, безусловно, звучит гордо, но выпить этот бокал я предложил бы не за отдельного человека, как такового, не за отдельный коллектив, а за весь героический народ, народ, который своим невиданным подвигом возвысил себя над всем человечеством. За того, кто поднял наш народ на такую высоту, за нашего вождя и учителя!
Стоя, мы выпили бокалы до дна. Не дав им просохнуть, я снова налил пенящегося вина:
– Без героического человека – нет героического народа.
– Кто это сказал? – полюбопытствовал Крутковский.
– Возможно, я и сам придумал.
– Похоже, что сам. Но до конца не додумали. Мы коллективисты. Мы не можем мыслить малыми категориями, сосредоточивать внимание на отдельной личности.
– Возражаю. Категорически возражаю. Надо, прежде всего, думать об этой личности, что в окопе с тобой сидит, у станка рядом работает. Плох тот командир, который посылает бойца в разведку и не думает о нем как о человеке, безразличен к его судьбе.
– Интеллигентщина, Павел Петрович, типичная интеллигентщина. Представляете полковника, который вызвал к себе лейтенанта на командный пункт и слезы рукавом шинели вытирает.
– Не представляю, – чистосердечно признался я.
– Как же не представляете. Полковнику надо послать лейтенанта в пекло, к врагу. Оттуда он вряд ли вернется живым. Вот полковник и прослезился, вспомнив, какой лейтенант замечательный человек. Ему бы жить да жить. А он через час будет лежать мертвым. Заплачут его мать и отец, заголосит молодая вдова, детки останутся сиротами. Нет, тот, кто распоряжается судьбами тысяч, не может, не имеет права думать о каждом отдельном человеке. Иначе он не оправдает доверия, оказанного ему народом. Мягкотелость не к лицу руководителям. Каждый, кто берет в свои руки власть, должен осознать мудрость народной поговорки: «Лес рубят – щепки летят». Руководителю не пристало рукавом шинели слезы утирать.
Тамара расширенными от удивления глазами глядела на Крутковского, наконец не выдержала, перебила:
– Ой, да как вы можете так говорить, Иван Кузьмич! Мать всегда оплакивает своего погибшего сына, жена горюет об убитом муже. У каждого свои слезы, и их не высушит сознание, что рядом другие погибли.
– Так да не так! – воскликнул Крутковский. – Даже совсем не так, дорогая Тамара Васильевна. В часы испытаний нет ничего страшнее, чем слезы отдельных индивидуумов. Мы не можем допустить, чтобы у народа были заплаканы глаза, а поэтому надо быть непреклонным, беспощадным к тем людям, которые подчиняются личному горю. Допустим, заболела у меня жена, тяжело заболела. Неприятно, но я как коммунист, прежде всего, должен не вешать нос. От ее болезни коммунизм не страдает, фронту не убыток, ну а значит, никаких трагедий! Больна моя Матрена или не больна, я должен работать как будто ничего не случилось.
– Не понимаю, – снова перебила гостя Тамара. – Не понимаю и никогда не пойму. Тот, кто не заботится о своем близком, не станет заботиться и о дальнем. Без деревьев нет леса. Нет человека, значит и народ – пустое понятие.
Крутковский снисходительно улыбается:
– Примитивно рассуждаете, хозяюшка, женская психология. Не так ли, Павел Петрович?
– Хотя вы не можете заподозрить наличия у меня женской психологии, – ответил я, – но Тамара безусловно права. Кстати, ее здоровье меня очень беспокоит. Вот почему я и предлагаю выпить за ее здоровье, благополучные роды.
– Сдаюсь, – Крутковский поднял вверх руки, но не признаю себя побежденным. Не противореча своим убеждениям, присоединяюсь к вашему тосту, Павел Петрович, – он чокнулся со стоящим на столе бокалом Тамары. – Желаю вам доброго здоровья и, как это поется в песне, «…а если и двойня прибудет, никто с вас не спросит, никто не осудит».
Вскоре Крутковский ушел. Прощаясь, он забросил удочку, – очевидно, ради этого и приходил:
– Человек-то вы хороший, Павел Петрович. Не пойму, почему никак не сработаемся?
– По-разному о человеке думаем.
– А, вот оно что! Извините за вторжение. Прощайте.
6
Вот и закончился воскресный день. Тамара, утомленная, по-детски счастливая, мгновенно засыпает. Только что разговаривала со мной, чему-то смеялась, и уже посапывает. Я лежу с открытыми глазами. Сказывается многолетняя привычка бодрствовать ночами, засыпать на рассвете.
Вспоминаю минувший день, странное посещение Крутковского. Чего он добивается? Ведь он привез с собой Самсонова. Сообща они так завинтят гайки людям-человекам, что те не вздохнут. Было бы естественнее, если бы Крутковский на меня наскакивал, как на Соколова и других, придирался. Он же со мной корректен, даже, порой, проглатывает мои колкости. Возможно, он боится. Не меня, конечно, а ответственности. Ответственности за газету. Ему удобно, что есть под рукой я, можно всегда неприятный номер переложить на мои плечи. Поначалу мне казалось, что Крутковский крепкий редактор, только характер у него мерзкий. Теперь начинаю сомневаться и в его редакторских способностях. Он знает полиграфию, но становится в тупик, когда надо принимать самостоятельное решение по той или иной принципиальной статье. В особенности, когда не в его власти сократить все, что внушает беспокойство.
– Хватит! Хватит! – командую себе. Если буду продолжать думать о Крутковском, то наверняка не засну. Не он ли прошлой ночью топтался на моей могиле. Нет, у него не сапоги, а ботинки с тупыми, задранными кверху носами.
Надо думать о чем-нибудь хорошем, приятном. Вглядываюсь в освещенное луной лицо Тамары. Вспоминается первое знакомство. Она шагала в громаднейших валенках по двору Горьковского автозавода. Ни дать ни взять мужичок с ноготок. Я окликнул, шутя:
– Здорово, парнище.
– Шагай себе мимо, – в тон ответила она.
– Уж больно ты грозен, как я погляжу.
Бывают в жизни случайности. Томка оказалась тем самым комсоргом центральной заводской лаборатории, которого я разыскивал по рекомендации комитета комсомола. Дважды мы встречались по делам, потом написал о ней зарисовку в «Вечерке». Через месяц мы отправились в ЗАГС. Родня и ее и моя были в ужасе, твердили хором:
– Дети, совсем еще дети. Ни кола, ни двора. Месяц проживут и разбегутся.
Да, начали мы семейную жизнь с решения такой острой проблемы, как «чайная ложечка». В первую зарплату купили стаканы и чайные ложки, столовые покупали потом.
Прошли не месяцы, а годы. Нелегкие годы скитаний. Мы вдвоем, вместе. Скоро появится третий – наш сын. Каким он будет?
Мне видятся светлые города, взметнувшиеся к небу лестницы, плывущие в голубизне чудесные корабли. Мысли о будущем, о сыне постепенно переходят в спокойный, на этот раз приятный сон.








