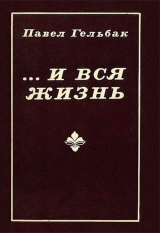
Текст книги "...И вся жизнь (Повести)"
Автор книги: Павел Гельбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
– Спасибо, Оля… Пойдем в типографию, проверим, работает ли движок.
– Пойдемте, – соглашается Ольга и, как мне кажется, облегченно вздыхает.
На улице Ольга говорит, что завтра из Москвы идет первый эшелон в Принеманск, едут семьи работников обкома и облисполкома. Может, с ними приедет и Николай. Впервые она назвала мужа по имени. Я думаю, что с этим же поездом может приехать и Тамара. В последнем письме она писала, что начала выходить из дома. Очевидно, бог с Арбата действительно хороший врач.
За квартал до «Луча» слышно тяжелое пыхтенье движка. Газета начинает жить. От радости я сжимаю руку Ольги. Зеленые глаза вопросительно смотрят на меня.
– Хорошо, Оля, очень хорошо.
6
Согнувшись над талером – так называют типографские столы, на которых стоит подготовленный к печати набор, – подписываю вторую полосу. Третью, сельскохозяйственную, подписал еще вечером. Заканчивается верстка первой полосы. Четвертую читает корректор. Это высокий, седой мужчина по фамилии Крижевский. Урюпин уверяет, что Крижевский знаток русской словесности. Еще при царе преподавал этот предмет в юнкерском училище.
– Смотри, чтобы этот знаток нам ятей не понаставлял, – предупредил я заместителя.
– Не волнуйся.
Крижевский выставляет на полях гранок обилие запятых и тире. Линотипист правит корректуру и ворчит:
– Запятых в кассах не хватает.
Приносят вторую полосу. Разворот готов. Урюпин, Платов и я, словно почетный эскорт, сопровождаем метранпажа в стереотипный цех. Сейчас отольют матрицы. Виктор Антонович подмигивает, щелкает пальцами по горлу. Словно передразнивая его, подмигивает электрическая лампочка. Свет становится тусклым.
Платов, успевший сбегать в линотипный цех, возвращается удрученный:
– Пропала «третья фаза».
Метранпаж матерится:
– Когда же этому будет конец!
Мне тоже хочется вспомнить всех святых и их родственников. «Пропала „третья фаза“» – это значит упало напряжение, остыл металл, не успели выправить первую полосу.
Урюпин шутит:
– Роды переносятся на завтра. Родовые схватки продолжаются.
– Никаких «завтра», – размахиваю я руками. – Платов, покажите, на что вы способны. Бегите к «кобыле», погоняйте ее с часик.
– Кончились дрова, – протирает очки Платов.
– Достаньте дрова! Чему вас только в институте учили? – серьезно произношу эту трамвайную фразу. Никто не смеется. Положение аховое. Работники польской и литовской газет лучше нас ориентируются в обстановке, они организуют экспедицию за сухими дровами для прожорливой «кобылы».
Цеха пустеют. Остаюсь с недоделанной полосой. Вспоминаю о принесенных Ольгой клише.
– Поставим клише вместо этой статьи, – говорю выпускающему.
– То невозможно, редактор, – качает головой выпускающий, – на первой полосе уже стоит портрет Сталина. Два клише – это замного.
– Замного, – передразниваю я. – Портрет оставим. На первую перебросим иностранную хронику с четвертой полосы. На ее место поставим снимок.
Я достаю из полевой сумки клише. Лампочка еле мерцает. Трудно разглядеть, что изображено на оттиске. Кажется, домна в Нижнем Тагиле. В «Красном знамени» мне приходилось из номера в номер давать материалы о ее стройке. Домну и тиснем на четвертой полосе. Отодвигаю тяжелые колонки старого набора. Склоняюсь над талером, сочиняю что-то о развитии металлургии, о больших стройках на Востоке страны.
Из дровяной экспедиции возвращаются работники дружеских редакций. Они, сдерживая улыбку, рассказывают, что Урюпин и Платов решили снять ворота в соседнем дворе. Ворота были деревянные, тяжелые. Долго возились. Вышел хозяин, уставился на ночных гостей. Очевидно, морская форма Урюпина произвела на него неотразимое впечатление. Он робко осведомился:
– Что вы делаете, Панове?
Виктор в ответ как гаркнет:
– Мещанина из-за тяжелых ворот на оперативный простор выводим. Понял?
– Понял, Панове, – испуганно ответил хозяин, а сам пятится к дому.
– Какой я тебе пан? – разъярился Виктор. – Не я, а ты пан, стоишь тут, рукой шевельнуть ленишься! Бери за этот край, помогай снимать ворота.
Схватился хозяин за ворота, помог снять их с петель. Наверное, и рубить бы стал, если бы хозяйка не вышла, – баба отчаянная, – да не прогнала наших заготовителей.
Спустился во двор типографии. Здесь субботник в разгаре. Руководители типографии, редакционные работники вооружились пилами, топорами. Вспомнился Николай Островский, комсомольцы на топливном фронте.
Когда метранпаж принес на подпись последнюю полосу, багряный рассвет уже окрасил двор типографии. Часам к восьми утра снова бойко запыхтел движок.
Гурьбой вошли в печатный цех. У маленькой, очень старой немецкой ротационной машины возился черный человек. Типографская краска, казалось, въелась в каждую пору его морщинистого лица.
– Когда пан начнет печатать? – спросил Урюпин.
– То уже скоро, товарищ редактор, – сверкнул зубами печатник.
Разворот был исправлен. Стереотипер ставил матрицу первой полосы.
– Можно считать, что схватки кончаются, – констатировал Платов, – младенец идет головой.
– Полный вперед! – скомандовал Урюпин. – Курс на «Розу». Редактор угощает!
Я не возражал. В восемь утра начинала работать столовая для руководящих работников, к которой мы с Урюпиным были прикреплены. Платова провели контрабандой. Запасные талоны у нас есть.
– За первенца, за нашу «Зарю Немана»!
Журналистское счастье
1
Что такое не везет и как с этим бороться? Вспомнил изречение Семена из «Красного знамени». Не везет? А может быть, в этом невезении скрыта моя удачливость. По существу мне удивительно повезло. Кто знает – воспользуйся я сегодня утром правом на сон – возможно, сейчас должен был бы держать ответ в обкоме партии за серьезную ошибку в газете.
Утром, это было уже часов в восемь, подписав последние полосы, пошел завтракать. Ко мне за столик подсел заведующий областным земельным управлением Бурокас. Я спросил его, почему не отвечают на выступления газеты. Крестьяне из Озерска жаловались на нарушение Постановления о реформе. Бурокас, оторвавшись от тарелки, буркнул:
– Газет не читаю.
Мне хотелось заехать ему тарелкой по физиономии. Нашел чем хвастать: газет не читает. Какого же черта ты носишь в кармане партбилет? Мы ночи не спим, сердце замирает, когда скажут, что исчезла проклятая «третья фаза», а он, извольте радоваться, газет не читает. Да еще и хвастает этим. Люди нам пишут, надеются, а он не желает читать! Чтобы скрыть волнение, унять дрожь в пальцах, я засунул руки в карманы, нащупал мелочь, бросил на стол:
– Вот вам, купите газеты. Следует надеяться, что вы умеете читать. Иначе откажитесь от своей должности.
Бурокас застыл с ложкой, поднесенной ко рту. Я не стал ждать, пока он соберется с мыслями, ушел из зала. Спать расхотелось. Решил еще раз взглянуть на газету, которую чинуши не желают читать. Начинают сдавать нервы. Не велика доблесть обругать человека.
У ворот типографии встретил Бориса Задорожного.
– Много нашли ошибок?
– Несколько лишних запятых сковырнул. Черчилля напечатали с одним «л»…
– С одним «л» – так с одним, переживем. Вот что, Борис Иванович, – если вы печатаете критические статьи, то добивайтесь по ним действенности. Сегодня же дайте справку, на какие сигналы не получили ответа из облзу.
– Я же «свежей головой» был, – взмолился Задорожный, – спать охота.
– Сначала сделайте, потом выспитесь.
В печатном цехе белый ручеек стремительно мчится из ротационной машины. Черный печатник сверкнул зубами:
– Посмотрите, как приправлены клише – люкс…
Я взял номер газеты:
– Какой там люкс, серятина. В Москве это браком посчитали бы.
– В Москве! Дайте мне такие машины, как в «Правде», и я вам покажу класс. Из этой старушки мы выжимаем все, что можем.
У меня вдруг рубашка прилипла к спине. В последней фразе вместо буквы «л» в слове «главнокомандующий» красовалось белое пятно, словно кто-то стер злополучную букву.
– Остановите машину! – крикнул я. – Много отпечатали?
– Тысяч пять.
– Где подписанные к печати полосы?
Печатник передал бумажный мешочек, в котором хранились подписанные мною страницы. Взглянул на конец передовой статьи. Все в порядке: «Главнокомандующий». Куда же пропала буква «л»?
– Кто правил газету после моей подписи?
– Никто. Случилось что?
– Читайте.
Печатник прочитал указанную мной строку, побледнел. Стали рассматривать матрицу. На металле, где положено быть букве «л» – капля клея.
– Возможно, когда я приправлял полосу, – размышлял вслух печатник, – капнул клеем. Весь ущерб возьму на себя. Пусть взыщут за бумагу.
– Пойдем к директору, – предложил я. – Заприте цех. Вы понимаете, ни один экземпляр газеты не должен увидеть свет.
– Можете быть уверены, товарищ редактор.
Директор типографии испугался не меньше моего.
Закрывшись в стереотипной, втроем, чтобы не привлекать постороннего внимания, мы жгли экземпляр за экземпляром. Смотрел я на пламя и думал о тяжелой шапке, напяленной на голову редактора. В газете десятки тысяч знаков, и каждая буковка, не на месте стоящая запятая, вот, даже капля клея – могут подвести.
Будь благословен Бурокас! Не поскандаль я с тобой за завтраком – не пошел бы в типографию. И кто ведает, каким бы сегодня было мое пробуждение?
2
В двенадцать дня, когда я только заснул после пережитых волнений, забесновался телефон:
– Срочно вызывают в обком, – сообщил Соколов.
Началось. Все-таки надо было поставить в известность обком. Но ошибку мы предотвратили. Мысли ворочались лениво, медленно. Мною овладело безразличие: вызывают так вызывают!
Секретарь обкома партии по пропаганде и агитации Владас Рудис, коренастый, среднего роста человек, с большими залысинами, поднялся из-за стола:
– Пока вы спите, мы тут за вас работаем, кадры подбираем.
– Поздно подписал газету.
– Да, только получили, – секретарь нажал кнопку звонка, но, вспомнив, что нет электричества, крикнул: – Олеся! – В кабинет заглянула секретарша. – Пригласите товарищей.
Вошли трое военных. Я даже не посмотрел на их погоны. Было ясно – сейчас начнется разговор об ошибке.
– Их-то мы и решили направить к вам в редакцию, знакомьтесь.
До меня не сразу дошел смысл сказанного. Я готовил себя к другому разговору. Внимательно посмотрел на вытянувшихся у стола военных. Девушка в синем берете с орденом Красного Знамени на гимнастерке, щеголеватый старший лейтенант с пышной черной шевелюрой, которая не умещалась под артиллерийской фуражкой, и высокий расплывшийся дядя в офицерской гимнастерке без погон.
– В газете приходилось работать? – начал я расспрашивать.
– Мне никогда, – призналась девушка, – выпускала «Боевой листок» в медсанбате, да вот несколько заметок напечатали в «дивизионке».
– Так. А вы, старший лейтенант, какую стенгазету редактировали?
– В тридцать девятом несколько месяцев работал в «Пионерской правде», потом призвали в армию.
– В дивизионную газету?
– Никак нет. Командовал батареей.
Секретарь прервал мой опрос:
– В редакции познакомитесь. Товарищи проверенные, коммунисты. До войны служили в наших краях, знакомы с обстановкой. Ну, и как говорится: «Была бы твердая воля, – гора превратится в поле». Мы просили политуправление фронта – нам прислали.
– Спасибо, встретимся в редакции. Пока заполните анкеты, напишите автобиографии.
Повернулись через левое плечо, вышли.
– Да они же не нюхали типографской краски, товарищ секретарь, петит от боргеса не отличат! Закончили университет «Пионерской правды», а нам нужны опытные журналисты, люди, знающие местные условия.
– Нужны, – согласился секретарь, – всем нужны. Другим редакциям еще труднее. У вас хотя бы десяток журналистов с опытом, а там почти никого… Ничего не попишешь, война.
– Товарищ секретарь, энергопоезд начал давать ток, но «третья фаза» в типографии по-прежнему пропадает. Оказывается, к линии уже успели подключиться всякие учреждения, частные квартиры.
– Всем надо.
– Не спорю, надо. Но есть объекты первой необходимости. И к ним относится типография. В редакции мы и с карбидками посидим. В обкоме тоже можно, а вот в типографии нельзя.
– К чему эта истерика? Позвоните в облисполком Кузьме Викентьевичу, он этим делом занимается.
В редакции я застал новое пополнение в тесном общении со старым. Викентий Соколов, Виктор Урюпин вводили новичков в курс дела. Когда я вошел в комнату, высокий мужчина в гимнастерке без погон спросил у моего зама:
– Так, значит, ни одного экземпляра газеты не оставили?
– Все сожгли.
Я попросил Соколова и Урюпина дать макет следующего номера. Когда остались втроем, зло спросил:
– Виктор Антонович, вы что, считаете обязательным каждого информировать об ошибках, которые обнаруживаются в редакции?
– Не каждого, – уточнил Урюпин. – А наших сотрудников, – таких же винтиков в редакции, как и мы с вами.
Соколов положил на стол дела новичков. Маркевич писала лаконично, круглым детским почерком. Старший лейтенант Олег Криницкий, видно, торопился, буквы наскакивали одна на другую, мягко говоря, почерк был не из разборчивых. В отличие от него человек в гимнастерке без погон Петр Рындин отчетливо выводил каждую букву, писал обстоятельно. Я по скупым анкетным данным, автобиографиям попытался представить характер, привычки людей, которые сегодня стали моими товарищами по оружию.
Беру анкету, лежащую сверху.
Имя, фамилия – Регина Маркевич.
Год и месяц рождения – май, 1921.
Место рождения – Западная область.
Социальное происхождение – крестьяне-середняки.
Социальное положение – военнослужащая.
Национальность – полька.
Партийность – член ВКП(б) с 1943 года.
Вопросы – ответы. Где же человек? Нет, не видно человека за правильными, как таблица умножения, ответами на анкетные вопросы. У каждого есть свое – характер, стремления, наконец, пройденный путь. Регине всего двадцать три года, а она уже многое видела, испытала. В автобиографии это одна строчка – вынесла с поля боя девятнадцать раненых с оружием. На гимнастерке боевой орден. А сколько пережито? Об этом в анкете и автобиографии не напишешь. И графы такой нет. Для меня эта одна строчка из автобиографии дороже ответов на все сорок вопросов анкеты. Безразлично, какой она национальности, кто были ее родители и имеет ли родственников за границей. Эта хрупкая девушка выносила раненых из-под огня. Вот это важно. Значит, она человек долга, отважная, отзывчивая. Такая не подведет, не струсит. В редакции ее место – в отделе писем. Туда приходят наши читатели со своими мыслями и бедами, порой тяжело раненые чиновниками. Им тоже нужна срочная помощь, их тоже надо вытаскивать из-под огня бюрократизма. Пусть и занимается этим делом кавалер ордена боевого Красного Знамени, сестра милосердия (не хуже звучит, чем медицинская) Регина Маркевич.
А вот личное дело старшего лейтенанта Олега Криницкого. Кокетка в офицерских брюках! А чуб-то, чуб как из-под фуражки выпустил! И автобиография у него написана манерно: «в отличие от других, у меня две матери и два отца. Родная и мачеха. Отец и отчим. Мать – режиссер, мачеха – актриса, отец – композитор, отчим – театральный критик. Обе семьи меня баловали, с детства готовили служить музам, а пришлось прислуживать Марсу…» Черт те что, не серьезно. Будто не в редакцию поступает, а в балаган какой-то. Однако воевал, видно, неплохо. Командир зенитной батареи. Награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды, тремя медалями. Даже не написал, какими медалями награжден. В отличие от него Петр Рындин перечислял названия двух медалей, которыми награжден, благодарности командования, которые получил. Здесь все было на месте – и номер приказа, и дата. Что это, педантизм? Нет, скорее аккуратность. До войны Рындин недолго работал в железнодорожной газете. Интересно, даже не сказал, что журналист, когда я спрашивал. С ним ясно. Назначим литработником в промышленный отдел.
Что делать с Криницким? Он старший по званию. Но назначить его можно только театральным репортером. А зачем нам такой? Театры, клубы только-только начинают дышать.
– Как, по вашему мнению, используем новых товарищей? Что думаете о Криницком?
– Он из них наиболее образованный, начитанный, – поспешил с ответом Викентий Соколов, – отдел культуры, например, подойдет.
– На меня он не произвел такого неотразимого впечатления. Для начала назначим репортером в отдел информации.
– Не согласится.
– Настоящий журналист тот, кто зуд в пальцах чувствует. Такой меньше всего станет о карьере размышлять.
Вспомнилось, как главный редактор «Красного знамени», когда меня направили туда для работы, спросил:
– Что вы чувствовали, когда открывали дверь редакции?
Не задумываясь, я ответил: – Священный трепет.
Главный рассмеялся: мол, будешь журналистом, мыслишь штампами.
Маркевич предложили работу в отделе писем. Она испугалась, попыталась отказаться:
– Что вы! Не справлюсь. Лучше назначьте технической секретаршей, пока освоюсь с работой редакции…
Рындин воспринял свое назначение в отдел промышленности, как должное. Криницкий удивленно поднял брови:
– Репортером в отдел информации? Писать трехстрочные заметки. Признаться, я рассчитывал…
– Стать заведующим отделом, – подсказал я.
– Нет! Очеркистом, рецензентом.
– Репортеру всегда с руки написать очерк, рецензию, конечно, если он на это способен. Не каждая зенитная батарея без промаха попадала во вражеские самолеты.
– Я вас понял. Буду репортером, – Криницкий мило улыбнулся и, прищелкнув каблуками, попрощался.
Нашего полку прибыло. Посмотрим, как это отразится на газете. Во всяком случае, пока у нас нет времени открывать школу будущих журналистов.
3
Так стучала в дверь только Ольга Разина. Короткий удар и пауза, словно прислушивается, снова удар.
– Входите.
– Я не одна, Пал Петрович. Знакомьтесь, мой муж. Разин радушно улыбнулся: – Рад познакомиться. Жена все уши прожужжала, расхваливая вас…
Я смутился и не сразу нашелся, что ответить на этот комплимент.
– Как доехали?
– Не дорога, а слезы. Поезд еле-еле ползет…
– Я рассчитывал, что жена этим же эшелоном приедет, но увы…
– Теперь поезда часто будут ходить…
Поговорили о положении на фронтах, московских новостях, делах принеманских… Неожиданно Разин пригласил меня к себе сыграть партию в преферанс.
– Рада душа в рай, – развел я руками, – но… надо идти в типографию.
– Что ж, такая ваша работа, – согласился Разин, – никогда своим временем не располагаете. Не состоится партия в преферанс – пойду в кино. Как думаешь, Оленька, достанем билеты?
– Наверное.
– Прояви журналистскую смекалку, организуй билетики.
– Попробую.
Как только Ольга вышла, Разин обнял меня за плечи, доверительно сказал:
– Дорогой Павел Петрович, как же вы могли так опрометчиво поступить?
Я почувствовал, как мурашки у меня пробежали по спине.
– Что вы имеете в виду? – я подумал, что Разин каким-то особым чутьем догадался, что мне нравится его жена. В конце-концов нравится – это еще ничего не значит. Я не давал никаких поводов… Но гость неожиданно стал расспрашивать об ошибке, которая чуть не попала в газету. Он продолжал выдерживать дружелюбный тон, но не трудно было догадаться, что именно этот разговор и служил целью прихода Разина. Не случайно он спровадил Ольгу за билетами в кино. Чем дальше, тем все больше вопросы Разина стали походить на вопросы следователя. Я в конце концов не выдержал и спросил:
– Это что, допрос? Но ведь вы не в прокуратуре теперь работаете.
– Жаль. Вы меня неправильно поняли. Я считал своим долгом вас предостеречь. Кстати, как фамилия этого печатника?
– Не знаю.
– Вот видите, даже фамилии не знаете, а вольно или невольно взяли его под свое крылышко…
Не знаю, сколько бы времени продолжался этот поучительный разговор, если бы не вернулась Ольга:
– Пойдем смотреть «В шесть часов вечера после войны»…
– «После войны» – так после войны, – сказал Разин. – А мы здесь с твоим шефом мило провели время, по душам поговорили, – он многозначительно подмигнул, – жалею, что не удалось вас затащить к себе на преферанс, но в другой раз не выкрутитесь… Рад, от души рад был познакомиться.
«К вам приехала жена»
1
– Прошу прощения, к вам жена приехала, – извозчик похлопал кнутом по голенищам порыжевших сапог.
Я вскочил с постели, торопливо стал наматывать портянки.
Томка восседала на узлах, чемоданах, домашнем, скарбе, которым была загружена пролетка. Ни дать ни взять – персонаж из «Сорочинской ярмарки».
– Томочка, ты?
– Как видишь. Не ждал?
Этот саркастический тон плюс холодный взгляд мне хорошо известны. Обиделась. Но по какому поводу?
– Почему не прислала телеграмму? Я бы встретил.
– Другие своих жен встречали…
– Но позволь…
– Разгружай вещи, мне надоело сидеть на этом барахле.
Я назвал извозчику адрес жилого дома обкома партии, в котором ночевал первую ночь. Более двух недель у меня в кармане лежал ордер на квартиру в этом доме. Я уже успел ее меблировать. Из недавно ликвидированного военного госпиталя привез железную койку. По наряду горсовета выписал из ломбарда (там собирали бесхозное имущество из квартир людей, бежавших с немцами) шкаф, буфет, этажерку, кресло и два стула. Обеденный стол мне притащил из сарая дворник Казимир. Это стоило литр водки.
Вещи разгружены. Тамара ходит из комнаты в комнату, восторгается: «смотри, какая плита», «А это что? Душ? Первый раз такой вижу», «О, и балкон! А ты о нем ничего не писал», «А это что, газовая плита? Неужели здесь есть газовая плита? А я взяла примус».
– Молодец, примус пригодится.
Я целую курносый нос Тамары. Все-таки я чертовски по ней соскучился. Я люблю Томку и за то, что она не умеет долго сердиться. Так не первый раз – надует губы, не подступись, а приласкал – и отошла: снова улыбается. Мне хочется узнать, почему она не прислала телеграмму, но задавать вопрос не решаюсь, чтобы снова не набежала туча.
В дверь грохнули кулаком. Вот черт – уже и гости. Пришли Урюпин и Соколов. Викентий на правах старого знакомого обнял Тамару: «Ах, ох, как рад встрече». Тамара, очевидно, старается вспомнить, где и когда с ним встречалась. Скорей всего, в Иркутске они не были даже знакомы. Тамара работала в молодежной газете, а Викентий в «Восточносибирской правде». Редакции помещались на разных этажах. Натиск Соколова Тамара выдерживает стойко.
Я подмигнул жене – пора приступить к обязанностям хозяйки.
– Я сейчас, – заспешила Тамара. – Только я не вошла в курс дела. Павочка, накрывай стол.
Урюпин деловито осведомился, кто дежурит по номеру. Мне хотелось эту ночь побыть дома, предложил, чтобы номер подписал Платов – все-таки он заведует основным отделом.
Из кухни вкусно запахло жареной на постном масле картошкой. Викентий потирает ладони:
– Это уже настоящая жизнь. Первая редакционная семья в сборе. Скоро и к другим жены приедут.
Виктор, не ожидая других, налил в рюмку коньяк и залпом выпил:
– Уютные гнездышки вьют пташки божьи. Ну, вейте, вейте! А я пойду дежурить.
– Что с тобой, Виктор? Не заболел ли?
– Все в ажуре. Я пошел. Кстати, – Урюпин засунул руки в карман широченного клеша, достал кошелек, – вот талоны на водку. Вручаю тебе на хранение. От греха подальше. На коленях просить стану – не давай.
Я пожал плечами. Из кухни пришла Тамара, начала упрашивать Виктора остаться. Тот отрицательно покачал головой – не могу, дела.
– А у меня к вам тоже дело. – Тамара вынула из сумочки бумагу, – вот направление из ЦК ВКП(б) к вам в редакцию. Речь шла об отделе писем.
– Ты была у Беркутова? – спросил я.
– Была, а что! – вызовом ответила Тамара.
– А то, что мы тебя не возьмем на работу. Не станем в редакции разводить семейственность. И в отделе писем у нас уже есть человек.
– Маркевич – литсотрудник отдела писем, – уточнил Соколов.
– Я с этим направлением пойду в обком партии. Вы что-нибудь слышали, товарищ редактор, о демократическом централизме?
– Растем и крепнем, – буркнул Урюпин. – Вопрос можно считать решенным. Приказ о назначении Тамары Васильевны Ткаченко заведующей отделом сегодня же будет подписан мной лично. Как редактор считает, может ли его заместитель подписать приказ?
– Если он имеет право подписывать газету, которую читают десятки тысяч человек, то бумажку, которую прочтет двадцать человек, – тем более.
Едва за Виктором Антоновичем закрылась дверь, Соколов спросил:
– Не знаешь, какая его муха укусила?
– Сам удивляюсь.
– Странный он какой-то, – поддержала разговор Тамара, – наверное, неприятности.
– Кстати, почему он развелся? – спросил я.
Соколов пожал плечами. О семье Урюпин никогда ни с кем не говорил.
– Эх вы, друзья-приятели, – напустилась на нас Тамара, – рядом работаете, а ничего о человеке не знаете.
2
В эту ночь я не думал ни о «третьей фазе», ни о газете, ни о типографии. Я просто радовался приезду любимого человека. Временами мы, перестав шептаться, прислушивались к неспокойной тишине ночного города. Казалось, где-то далеко ухают орудия, пыхтят паровозы, ревут моторы бомбардировщиков, идущих или возвращающихся с задания. Совсем близко, в развалинах, по ту сторону улицы, в тишине раздались один за другим три выстрела.
Тамара вздрогнула, плотнее прижалась ко мне:
– Часто так стреляют?
– Бывает.
Утром нас разбудил стук в парадную дверь. Принесли телеграмму, посланную Тамарой из Москвы четыря дня назад.
– Вот мое алиби, – торжественно заявил я.
– Может, сходим на базар? Ты меня проводишь? Завтракать будем дома.
– Нет, пойдем в «Розу». Я угощаю.
Столовая была почти пуста. В дальнем углу за столиком сидел Владас Рудис. Я предупредил Тамару, что это и есть тот самый секретарь обкома, к которому она хотела идти жаловаться на меня. Он интересный и смелый человек. Недавно его наградили орденом Ленина за организацию партизанской борьбы в тылу врага.
– Он что, оставался на территории, занятой немцами? – спросила Тамара.
– Кажется, несколько раз его сбрасывали с парашютом… Культурный человек. Мне говорили, что он владеет чуть ли не пятью иностранными языками.
Рудис расплатился с официанткой, подошел к нашему столу.
– Что же вы, дорогой мой, реформу в армии произвели? – укоризненно спросил он.
– Какую реформу? – не понял я.
– Читайте сегодняшний номер «Зари», фамилии командующих фронтами перепутали. Невнимательно у вас газету читают. Разберитесь.
Завтрак мне показался невкусным. Не терпелось пойти в редакцию. Как же Виктор Антонович так невнимательно читал полосы. Ведь опытный журналист.
Стараясь отвлечь меня от невеселых мыслей, Тамара излишне восторженно хвалила каждое блюдо, которое приносила нам официантка – красавица Ядя.
Когда мы уже собирались уходить, Ядя, смущаясь, сказала:
– Товарищ редактор, извините, мне надо отчитываться. Ваш заместитель вчера взял литр коньяку и сказал, что вы утром отдадите мне талоны.
– Конечно, конечно, – я достал торжественно врученную мне Урюпиным книжечку с талонами на напитки, – вот, пожалуйста.
На улице я дал волю словам:
– Гнать его надо, подонка. Пьяница несчастный. Сегодня же пойду в обком.
– Считай до тысячи, – посоветовала Тамара. – Вспомни, как поступал в подобных случаях Сергей Борисович.
– У него же не было в заместителях забулдыг. Здесь каждый человек на учете. Он редакцию разлагает.
– Ты отлично видел, в каком он был вчера состоянии.
– Видел, видел, – недовольно проворчал я. – Ты уж лучше, Томка, не вмешивайся…








