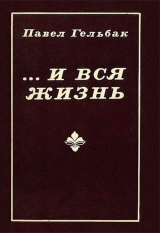
Текст книги "...И вся жизнь (Повести)"
Автор книги: Павел Гельбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
– Что тебе на завтрак подавали? Попутно не забудь ответить, о чем спрашивали в милиции!
– Милда Ивановна – лицо действующее…
– Это еще что за действующее лицо?
– Так называлось весьма склочное письмо в редакцию. Вот Милда Ивановна и стала для нас нарицательным именем.
– Это очень занятно, но вначале я хотел бы услышать о том, что произошло у тебя и Светаева в ресторане. Как твоему дружку пробили голову, как вас поволокли в милицию.
– Типичная Милда Ивановна. Из всего тобой сказанного правда только то, что мы с Виктором были в ресторане. Выпили – о, ужас! – по рюмке коньяку, по чашке кофе. Я дежурил, ушел в редакцию. Виктор остался. Увидел какую-то свою знакомую, повздорил с ее мальчиком. Но все обошлось без драки, без вмешательства милиции и «Скорой помощи». Как видишь, твоя Милда Ивановна несколько преувеличила. Кровь не лилась рекою. Можешь ее огорчить. А теперь извини – я пойду проведаю Любовь Павловну. И не обижайся. Нас пропустили только к ней, как к тяжело больной. А ты уже бегающая личность, выздоравливаешь, сплетни слушаешь, на родного сына рычишь…
Ткаченко-старший доставил себе удовольствие, сообщив Герасиму Кузьмичу, что никакого «персонального дела» не будет, что все это грязная сплетня.
– Мое дело – сигнализировать, – не смутился Герасим Кузьмич, – а твое дело реагировать. А то знаешь, сегодня нет персонального дела, а завтра может быть. Я бы лично обсуждал таких, как Анатолий, после первого посещения ресторана, так сказать, в целях профилактики. Тогда второго раза не было бы.
– Наше счастье, что сие от тебя не зависит. Что же касается потасовки из-за девушек, то это не привилегия нынешнего поколения. Случалось подобное и в наши героические тридцатые годы, и в годы молодости моего отца, и в ту пору, когда мой дед еще ухаживал за моей бабкой.
– Но твой дед и бабка жили во времена царизма. В наше счастливое время нет нужды одурманивать свое сознание алкоголем и устраивать дуэли, присущие гнилой буржуазии.
– А ведь ты и вправду Милда Ивановна.
– Чего?!
– Просто так. Вспомнил одну особу.
4
Во время врачебного обхода Павел Петрович попросил:
– Переведите меня в другую палату.
– Почему? – удивилась врач.
– Здесь трудно дышать. Давление повышается.
– Если представится такая возможность.
– А если таковая не представится, то лучше выпишите.
Герасим Кузьмич пожал плечами:
– Телячьи нежности. Мне, например, воздуха хватает.
Думы, тяжелые думы
1
На правом берегу реки, прямо против окна палаты Печаловой, высится двенадцатиэтажный жилой дом. Таких домов на том берегу много. Там – новый район Принеманска. У него поэтическое название – Соловьиный. Много раз Печалова собиралась побывать в этом районе с высотными домами, светлыми школами, парками, но так и не собралась. Но этот крайний дом, что шагнул к самому берегу реки, изучила досконально. За время лежания в постели она узнала распорядок дня всех его жильцов. Раньше всех просыпаются обладатели крайнего справа окна на шестом этаже. Ровно без пяти минут шесть там вспыхивает свет. И, словно получив сигнал, одновременно загорается свет еще в четырех окнах. Два на девятом этаже и по одному на восьмом и двенадцатом. После шести появляется свет в окнах еще нескольких квартир, а к восьми дом сверкает огнями. Только кое-где черные пятна окон непроснувшихся квартир. Так было зимой, когда поздно приходил рассвет. Теперь светает рано. В восемь утра нет нужды зажигать свет, но Любови Павловне кажется, что она видит, как начинается утро в новом доме.
Вначале Печалова считала дни, потом недели, а теперь месяцы пребывания в больнице. Когда ее сюда привезли, за окном мела пурга. Зима была долгая и снежная. Снегом полны закрома – к урожаю, – говорили старики на киевщине. Холодная зима – к жаркому лету. Весна, хотя и поздняя, но дружная. Еще недавно на окнах висели сосульки, а сейчас видны верхушки деревьев, покрытые изумрудными листочками.
В палате Любовь Павловна лежит одна. Это плохой признак. Одиночные палаты дают только тяжело больным, часто безнадежным. Когда вставала с постели, ходила по коридору, было не так тоскливо. Хотя общество больных – далеко не самое веселое, но во сто раз лучше одиночества. Но вот вторая неделя, как после временного улучшения наступило резкое ухудшение. Больше она не в силах выходить в коридор. Встать с постели, пройти несколько шагов к умывальнику, который здесь же в палате, причесаться, посидеть полчаса у стола – вот все, на что она теперь способна. Остальное время – постель, изучение дома за рекой, ожидание прихода дочери и воспоминания. Они живут в окнах чужого дома, в зеленых зонтиках, поднятых деревьями, в торопливых шагах пробежавшей по коридору нянечки, в каждом углу палаты.
Ребята к тому же подогревают воспоминания, будто в ее положении можно жить будущим, а не прошлым. Смешные, милые и неуклюжие ребята. Как Анатолий вчера распинался, доказывая, что Любови Павловне нельзя терять зря времени, надо воспользоваться условиями одиночной палаты и продолжать писать мемуары, а уж они с Женей доведут их «до кондиции». Он даже напомнил слова какого-то большого писателя. А вот она и не запомнила какого. Память стала никудышней. Хранит то, что произошло много лет назад, и напрочь забывает сказанное вчера. Да, так о чем говорил этот писатель:
– Мне семьдесят лет и мне приходится беречь время. Вот почему я работаю, как одержимый.
Бодрый старичок, раз может работать, как одержимый. Мне бы дожить до семидесяти лет, – без зависти и огорчения, скорее по привычке, думает Любовь Павловна. – Не доживу.
Женя напомнила о Николае Островском. Он писал лежа, его положение действительно было безнадежным. О чем писать? Ребята переписали, отредактировали ее заметки. Занятно, но чувство такое, будто не она их автор. Подернуты дымкой партизанские годы, лишь до боли в сердце помнятся ласковые руки, глаза мужа. Дочь, пожалуй, совсем не помнит отца. Как же сложится ее судьба? Может быть, и пойдет по жизни вместе с Анатолием. Он, кажется, парень неплохой… А если не Анатолий, то найдет другого. Девушка повзрослела, стала серьезнее, уж не повторит моей ошибки, не свяжет своей судьбы с таким ничтожеством, каким был первый муж. Вот если бы все начать сначала. О чем она? Сначала! Пора думать о конце. А что будет там, в могиле? Все чаще ей хочется приоткрыть таинственную завесу. И об этом она сейчас много думает. В больничной библиотеке, когда еще ходила, натолкнулась в журнале на стихи. Возможно, в другое время, при других обстоятельствах, стихи не произвели бы на нее впечатления, сейчас же они не идут из головы.
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый,
Мой бедный прах, когда-то так любимый, —
А я все жив!..
Прочла стихи, и показалось, что облако приветливо помахало ей рукой. Может быть, это вовсе и не облако, а Игорь – муж. Поэт прав – все мы уходим из жизни, чтобы снова в нее вернуться, то ли в образе человека, то ли птицы, морской волны, облака…
Смерть поэт называл суеверием, он не признавал ее в обычном понимании слова. Поэту казалось, что все духовные и телесные свойства человека бессмертны, потому что в природе ничто не исчезает, а только меняет форму.
Любовь Павловна понимала, что материя не исчезает, природа бессмертна, но люди смертны и уходят из жизни навсегда. И все-таки очень ей нравились эти стихи, хотелось верить в сладостный обман, и, кажется, порой удавалось находить успокоение в теории превращений. Ведь эта теория сулила бессмертие ей самой и всем, кого она любила в этой жизни.
Ну что ж, пусть она со временем станет березкой, пусть утратит свое «Я», свою индивидуальность. Пусть! Но, может быть, над березкой в знойный день пронесется тучка, обронит на нее несколько дождевых капель, она почувствует, обязательно почувствует, что это ей передал привет Игорь, ее боевой товарищ, ее муж, отец ее дочери.
В доме на том берегу реки распахнулись окна. В палату вошла дежурная сестра.
– Как спали? – взяла за руку. – Пульс хороший, а теперь измерим температуру.
Сегодня ее пришли проведать Женя и Толя. Ребята рассказывали, о чем пишут газеты, о каких-то городских новостях, но Любовь Павловна слушала невнимательно. Продолжала думать о своем, что ждет ее там. Стала рассказывать ребятам о случае, происшедшем на фронте. Партизан постигла неудача. Печалова высказала предположение, что это им покойный капитан свинью подложил.
– Что ты, мама. Это же было через год после того, как капитан погиб в лагере. Ты сама об этом писала, – заметила Женя.
– Погиб, и, думаешь, все. А может, он после смерти и стал тем предательским сучком, который попал к нам под ноги, треснул, выдал разведчиков…
Анатолий испуганно посмотрел на Женю – рехнулась женщина. Любовь Павловна перехватила взгляд, адресованный дочери, вздохнула:
– Идите, ребята, на воздух, устали вы здесь со мной.
Глядя вслед Евгении и Анатолию, она вспомнила стихи, завоевавшие сердце. Хотела остановить, прочитать, но подумала, что все равно не поймут. И только когда закрылась дверь, вслух произнесла:
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
2
Ткаченко несколько раз напомнил ординатору о переводе в другую палату, но врач все отшучивался. Теперь Павел Петрович перестал просить, стал подсчитывать дни, оставшиеся до выписки из больницы. Часы же пребывания в палате пытался сократить до минимума – чем меньше в палате, тем реже видишь опостылевшую физиономию соседа.
На «проспекте язвенников» не только можно отдохнуть от соседа, но и поговорить с интересными людьми, пошутить, подметить забавные сценки.
Вот балагур с «проспекта язвенников» рассказывает окружившим его пижамникам:
– Я ей признался. Доктор, не могу больше в больнице оставаться, томление одолело, к жене хочу.
– Выздоравливаете, – отвечает она, – это меня радует. Но, милый мой, жен по рецепту в аптеке, не выдают.
– Эта за словом в карман не полезет, – поддерживает разговор другой больной.
Люди, которые недавно кряхтели, охали от боли, – смеются, светлеют лица.
Из палаты вышел высокий старик с подстриженными ежиком седыми волосами. Он тяжело опирается на палку. Пижамные брюки опустились, волочатся по полу. Его хорошо знает Павел Петрович. Это старый большевик Казимир Игнович Ланской. Еще несколько лет назад он работал в областном совете профсоюзов. Не было такого актива, пленума, на которых бы не выступал Ланской. Всегда остро, принципиально, ссылаясь на факты, почерпнутые из жизни. Потом ушел на пенсию, но продолжал активно вмешиваться в общественную жизнь. Часто бывал он и в редакции. Заметки, которые приносил Ланской, были лаконичны – там-то произошло то-то, надо сделать вывод. Однажды попросили его написать воспоминания для праздничного номера. Он отказался – с этим делом пока можно повременить. У него были другие заботы.
В больнице Казимир Игнович выделялся среди других завсегдатаев «проспекта язвенников». Он не принимал участия в разговорах о болезнях, их лечении, никто из больных не слышал от Ланского жалоб на состояние здоровья. Чаще всего старика можно было увидеть в коридоре, у телефонного аппарата. Он звонил по самым различным адресам: одного уговаривал, другому выговаривал, от третьего решительно требовал принять меры. С типично больничным юмором остряки с «проспекта язвенников» шутили:
– Ланской потребует, чтобы ему и в гробу телефон поставили…
Старика часто навещали различные люди. Среди его посетителей были пионеры, молодожены, рабочие, профсоюзные работники. Рассказывали, что, лежа в больнице, он сумел добиться, чтобы кому-то из его посетителей выплатили сполна премию за изобретение, молодоженам выделили в общежитии отдельную комнату. Он пристыдил непутевого коммуниста, который никак не мог найти времени, чтобы проведать оказавшуюся в больнице мать. Этот коммунист занимал высокий пост в облисполкоме, но Ланской отчитал его по телефону, как нашкодившего мальчишку… Разговор слышали многие на «проспекте язвенников».
– Не дай бог такому на язык попасть, – говорили больные, – неистовый.
Дождавшись, пока очередной больной закончит выяснять по телефону, что за минувшую ночь произошло дома, как спали жена и детки, Казимир Игнович пробасил в трубку:
– Управдом? Ланской говорит… Ну, как приступили к ремонту?.. Что же, по-вашему, люди могут жить без крыши над головой?
В коридоре появляются врачи, сестры. Начинается утренний обход. Больные расползаются по палатам. Только Ланской остается у телефона.
Герасим Кузьмич, который не любит «проспекта язвенников», предпочитая ему койку, просит:
– Разверни картину современной жизни, доложи обстановку.
Ткаченко не хочется разговаривать с соседом. Он отмалчивается.
– Долго ты на меня еще будешь сердиться? Беспринципно, недостойно коммуниста. Я тебе только сигнализировал, а ты обижаешься, нехорошо, не по-товарищески!
– Не сигнализировал ты, а клеветал.
– Вот какой ты человек! А ведь я тоже кое-что читал, кое-что видел. И я был молодым, и мне мозги вправляли, да еще как вправляли.
– «Стружку снимали», «гайки подкручивали», – в тон соседу произнес Павел Петрович. – Какая гнусная терминология, со времен Крутковского, кажется, не слыхал этих «милых» выражений…
– Возможно, и не совсем интеллигентно сказано, но достаточно выразительно. Помню, я еще секретарем райкома комсомола в сельском районе был. Попытался проявить свою инициативу. Сейчас даже не помню какую. Не в этом суть. Секретарю райкома партии это не понравилось. Вызвал меня, снял мне штаны… Ладно, не морщись… Про штаны не буду говорить. Может быть, для твоего интеллигентного слуха это грубо звучит, пусть будут брюки, что же касается мозгов, то вправляли их мне – будь здоров! Выводы я для себя сделал на всю жизнь. Незачем умничать, другие, кому партия доверила мною руководить, не глупее меня. Раз так делают, значит, так и надо.
– Ты, наверное, никогда в газете не допускал «отсебятины»? – вспомнил Ткаченко с давних пор ненавистное ему слово.
– И горжусь этим. Без малого четверть века на руководящей работе, в газете десяток лет, а взысканий по партийной линии – ни-ни! Биография у меня чистая, как нетронутый лист бумаги. И твоему дружку Криницкому нечего писать. Руки коротки. Нахватался там всяких идей, работая за границей. Теперь все ему не так, все не нравится, реформы всякие, реорганизации предлагает. Мероприятия, рассчитанные на внешний эффект. Видали мы таких инициативных, энтузиастов. Пока в героях – сплошные идеи, а как без партийного билета окажутся, то голову ниже пупка опустят. Трудно мне с ним работать. Разные мы люди, но я у него на поводу не пойду. Можешь так и передать. Газету стыдно читать… О мещанах пишут, проблемы любви поднимают, а о подготовке к весеннему севу – одну-две заметочки. Не умеет Криницкий нацелить на главное. А сам о чем выступил в газете? С международным обзором. Разве это дело редактора? Тоже нашел международный центр – Принеманск. Международный обзор пришлет ТАСС, и печатай спокойно. Помяни мое слово, раскритикуют скоро «Зарю» в дым.
– Критике не помешаешь, – вздохнул Ткаченко, – разве ты один такой!
– Какой?
– Твердокаменный. Был в редакции еще такой Крутковский. Давно. До тебя еще. Наверное, слышал. Он тоже «отсебятины» не терпел. Впрочем, людей тоже не терпел. Изъясняться любил вообще о народе, человечестве… Что касается критики… От нее никто не застрахован. Редактор многих в газете критикует, но и сам должен быть готов выдержать огонь. Если он на это не способен, то лучше пусть и за перо не берется.
Нянечка принесла почту.
– Ткаченко, вам письмо. Заставила бы плясать, да доктор идет.
Вначале письмо, полученное Ткаченко, показалось непонятным, потом вспомнил: давно он получил такое же письмо и расхохотался. Обращаясь к нему, Павлу Петровичу, некто «X» писал:
«В качестве предостережения считаю своим долгом послать вам некоторые высказывания Антона Павловича Чехова по поводу ложности пути, на который вы встали:
„Вы пишете, что театр влечет к себе, потому что он похож на жизнь… Будто бы? А, по-моему, театр влечет вас и меня, потому что он – один из видов спорта. Где успех или неуспех, там и спорт, там азарт… Главное для меня, конечно, деньги, но интересны и подробности…“
„Я понимаю теперь, почему он так трагически хохочет. Чтобы написать для театра хорошую пьесу, нужно иметь особый талант (можно быть прекрасным беллетристом и в то же время писать сапожнические пьесы); написать же плохую пьесу и потом стараться сделать из нее хорошую, пускаться на всякие фокусы, зачеркивать, переписывать, вставлять монологи, воскрешать умерших, зарывать в могилу живых – для этого нужно иметь талант гораздо больший. Это так же трудно, как купить старые солдатские штаны и стараться во что бы то ни стало сделать из них фрак. Тут не то, что захохочешь трагически, а заржешь лошадью…“
„Беллетристика – покойное и святое дело. Повествовательная форма – это законная жена, а драматическая – эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница…“
„Обо мне можете судить по следующей цитате из того же Чехова: „Водка мне противеет с каждым днем, пива я не пью, красного вина не люблю, остается только одно шампанское, которое пить не могу, пока не разбогатею““».
Таинственный «X» – это был Олег Криницкий. В том далеком году это не представляло загадки. Они сообща тогда написали пьесу, которая множество раз переделывалась, но все же была принята к постановке в Принеманском театре. Премьера вызвала много противоречивых оценок, нападок. Действительно, в ту пору было такое состояние, что «тут не то, что захохочешь трагически, но заржешь лошадью». Когда Ткаченко совсем повесил нос, он по почте получил от соавтора вот это послание, и сразу на сердце стало веселее. И не потому, что, мол, не только нам достается, но и великому Чехову приходилось в жизни несладко – некоторые и в этом находят утешение. Павла Петровича обрадовал и приободрил оптимизм соавтора. Надо работать, знать, что труд литератора нелегок, не всегда ему в пути светит солнышко, иногда горизонт заволакивают тучи, может и гроза разразиться. Вот и сейчас Олег вспомнил о друге – письмо прислал, чтобы отвлечь его от мрачных больничных дум.
Где же он раскопал копию письма? Раньше Криницкий не принадлежал к числу людей «обременяющих себя заботой об архивах». Дать прочитать письмо соседу? Наверное скажет, что Чехов «жил в другую историческую эпоху, для нас его высказывания не типичны и не может наш советский писатель ржать лошадью».
– Ну вот, полюбуйся, – не выдержал долгого молчания Герасим Кузьмич, – новые фокусы Криницкого: завел на страницах газеты «Дискуссионный клуб». И напечатал статью какого-то злопыхателя, которому не нравится, как у нас ведется антирелигиозная пропаганда. Критикует не одного-другого лектора, а саму практику ведения этой работы. Чего тут спорить? Не первый год атеизмом занимаемся. А теперь нашелся умник, и все ему не нравится. По какому праву «Заря» предоставила ему свои страницы?
– Герасим, ты никогда не слышал, чтобы человек ржал как лошадь? – спросил Ткаченко.
Герасим Кузьмич не успел ответить на озадачивший его вопрос, как в палату вошла врач. Он тут же состроил на лице болезненную гримасу:
– Доктор, меня всю ночь мучали боли в животе, донимали газы, – и задрал рубашку, обнажив круглый живот.
Ткаченко отвернулся к стене. Остается только заржать лошадью. Ох и горазд же врать этот Герасим! Всю ночь в палате раздавался его разбойничий храп, а сейчас, оказывается, мучался, газы донимали.
– Доктор, когда выпишите? – спросил Павел Петрович.
– Теперь уже скоро.
Едва за врачом закрылась дверь, как Герасим Кузьмич стал выговаривать соседу. Надо вести себя, мол, скромнее, не к чему указывать врачу. Она сама знает, кого и когда выписывать.
– Не бойся, – прервал Ткаченко, – я ей не скажу, что ты спал богатырским сном, что тебя не мучали боли, а меня донимал твой храп.
– Ладно, ладно, – примиряюще улыбнулся Герасим Кузьмич, – не думаешь же ты, что я симулянт. Ты мне лучше скажи, за что Криницкого погнали из Москвы, на чем он погорел? Я так думаю, по доброй воле он не поехал бы в Принеманск. Нет, такая работа, квартира в Москве, поездки в Париж, Лондон… На чем же он все-таки погорел? Вот бы узнать.
– Да, Герасим Кузьмич, с тобой не соскучишься… Давай-ка лучше спать…
Но заснуть не только днем, но и ночью Ткаченко не мог. Не проходило раздражение, донимали беспокойные мысли. Ему казалось, что после того, как ушел на пенсию, он как-то измельчал. Раньше такие, как Герасим Кузьмич, не могли ему надолго испортить настроение. Наоборот, действовали как на быка красное. Звали в бой. А сейчас вместо битвы он занимается словесным препирательством. Болен, стар – в этом могут найти утешение те, кто душевно слаб. Нет, не старость, не болезни виноваты, что он стал таким размазней. Сам отошел от активных дел, смотрит на происходящее со стороны. Повесть писал. Допустим, нужное дело, но можно ее написать и сегодня, и завтра, и через год. Что от этого изменится? Написал несколько статей. Кому конкретно они помогли? Многим! – пытается спорить с собой Ткаченко. – Остро поставил проблемы воспитания рабочих подростков. Статью обсуждали на нескольких заводах. Ну и что? Сам-то он знает, как лучше вести работу с этой молодежью? Какого парня или девушку он своей статьей направил на путь истинный? Нет, фамилий он не назовет. А нужно ли называть конкретные имена и фамилии? Нужно! Иначе можно, как некогда Крутковский, начать говорить вообще о человечестве, людях, народе, забывая о нуждах отдельного человека.
«Нечего заниматься „самоизничтожением“ – решает Павел Петрович. Вот Ланской! Он, небось, спит спокойно. Засыпая знает, что сегодня кому-то помог, а проснется – снова начнет допекать бюрократов».
– К черту интеллигентское самоковыряние, – вслух произносит Ткаченко и поворачивается на другой бок.
– Чего болтаешь? – недовольно бурчит Герасим Кузьмич.
3
Благие намерения, которые не давали заснуть ночью, можно было начать осуществлять утром. Сразу после того как дежурная сестра измерила температуру, с ведром и щеткой в комнату вошла нянечка. Всегда приветливая, улыбчивая, на этот раз она была мрачной. Даже глубоко надвинутый на глаза платок не скрывал кровоподтеков, появившихся на лице.
Неловко повернувшись, нянечка опрокинула ведро. Вода расплескалась по полу, забрызгала тапочки Герасима Кузьмича, стоявшие возле кровати.
– Черт знает что, – возмутился Герасим Кузьмич, – безобразие.
– Извините, – нянечка всхлипнула и вышла из палаты.
– Ты чего это на нее напал? – спросил Павел Петрович. – Довел женщину до слез. Хоть бы извинился!
– Подумаешь, телячьи нежности…
Герасим Кузьмич демонстративно протер тапочки больничным халатом и, взяв полотенце, отправился умываться. Ткаченко нашел нянечку в коридоре. Она терла тряпкой и без того чистые стекла окон.
– Что с вами стряслось, тетя Маша?
– Со мною ничего не стряслось, только жизни нет…
Павел Петрович услышал от женщины в общем-то банальную историю.
– Муж мой – инвалид войны. Работать не может. Пенсию получает малую. Тяготится своим положением. Вначале все работу искал, которая была бы по душе, а устроиться удалось только в артель инвалидов. Теперь ко всему стал безразличным, пристрастился к водке. Говорит – все там пьют. Нынешней ночью пришел домой пьяный. Стала его стыдить, а он кулаки в ход пустил. Всех переполошил, перед людьми стыдно. А что делать, ума не приложу. Может, к депутату обратиться, из шестой палаты? Он человек сердечный. Многим в беде пособил.
Давным-давно Ланского не избирали депутатом, уже много лет он на пенсии. А очевидно, не одна тетя Маша запомнила те далекие выборы, когда в депутаты Верховного Совета республики избирали Казимира Игновича. По старой памяти его продолжают называть депутатом. Собственно говоря, он и сейчас, несмотря на старость и болезнь, не снял с себя депутатских полномочий. Чем только может, старается помочь людям. Неожиданно для себя Павел Петрович предложил:
– Попробую я вам помочь. Может, что и получится.
– Уж я не знаю, как вас благодарить…
Ткаченко записал название и адрес артели, где работал муж тети Маши, его фамилию, имя, отчество и другие данные. Позвонил домой и попросил, чтобы пришел в больницу Анатолий.
Анатолий пришел вечером, и не один, вместе с Сергунькой. Мальчишка весь сиял. И не успел еще Анатолий открыть рот, как Сергей выпалил:
– Толя получил письмо от моей мамы.
Сын протянул конверт не первой свежести.
– Действительно, откликнулась, – довольно улыбался молодой журналист, – вон куда моя статья попала, представляешь!
– Чему удивляться? – вступил в разговор Герасим Кузьмич. – Воздействие печатного слова, если оно правдивое, партийное слово, – проникает даже за решетки…
– А вы же, Герасим Кузьмич, не хотели мою статью печатать, – Анатолий воспользовался удобным случаем, чтобы уязвить заместителя главного редактора.
Вызывающий тон сына не понравился Ткаченко: «Лежачего не бьют». Он поспешил перевести разговор:
– Показывай письмо, о чем она пишет.
– Мама меня хочет видеть. Она меня любит, – радостно сообщил мальчик, – она ко мне вернется.
Об этом, собственно говоря, и было написано в письме. Мать Сергея благодарила журналиста за то, что он проявил заботу о мальчике, обещала, что, как только получит свободу, возьмется за ум и до конца дней своих будет делать все, чтобы сын мог ее простить, не стыдиться своей матери.
– И это не единственный отклик на мою статью, – сообщил Анатолий. – Правда, предсказание Станислава Иосифовича, что десятки читателей предложат свои услуги, чтобы усыновить Сергея, не оправдались…
Мальчишка помрачнел, засопел носом. Это не ускользнуло от глаз Павла Петровича.
– Ты бы думал, прежде чем говорить. Расхвастался не в меру.
– А что я такое сказал? – пожал плечами Анатолий.
Но ответил ему не отец, а Сергунька:
– Если я вам лишний, можете меня в субботу и не брать. Все равно скоро мама приедет.
– Дурень, кто тебе сказал, что ты нам лишний?..
Герасим Кузьмич торжествовал:
– Вот она, твоя недоработка, Павел Петрович. Видишь плоды зазнайства.
Анатолий, с трудом сдержав себя, чтобы не ответить грубостью на замечание заместителя главного редактора, примирительно спросил у отца, зачем он хотел его сегодня видеть.
– Разговор длинный, пойдем в коридор. Чтобы не мешать Герасиму Кузьмичу…
Выслушав историю тети Маши и просьбу отца – поговорить с мужем женщины, побывать в артели, где он работает, Анатолий отказался:
– Извини, у меня есть дела и поинтересней. Встретил на днях меня товарищ Курелла, подкинул одну темку… Вот если бы ее вытянуть, прозвучала бы.
– Ладно, этим неинтересным делом я займусь сам.
– Не советую. Вот купил книгу воспоминаний военных корреспондентов. Почитай. Созвучно теме твоей повести. Мой совет – не разбрасывайся.
– Спасибо за совет. А тебя, Толенька, я хочу предупредить. Смотри, чтобы голова не закружилась. Реже ссылайся на первого секретаря горкома… Что-то давно Женя ко мне не заглядывала.
– Не знаю. Я сам ее редко вижу. Ну, мне пора.
– До свидания. Подумай над тем, что я тебе говорил.








