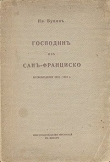Текст книги "Орден Казановы"
Автор книги: Олег Суворов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Глава 16
ПОКАЗАНИЯ ЛЮБОВНИКОВ
Адвокат Марии Сергеевны Мальцевой – лощёный и велеречивый господин лет сорока с красноречивой фамилией Самохвалов – вёл себя на суде откровенно по-хамски, не стесняясь задавать обвиняемому самые бесцеремонные вопросы, от которых порой коробило даже падкую на столь скандальные процессы публику.
– Какими глазами, позвольте узнать, – громогласно, на весь зал вопрошал он несчастного Ивана Ильича, – вы смотрели на свою пациентку – прелестную молодую женщину, которую мы сейчас видим в столь подавленном состоянии?
– Я вас не совсем понимаю, – смущённо пробормотал понурившийся Сечников.
– Тогда я попытаюсь пояснить свой вопрос, – коварно улыбнулся адвокат. – Как известно, в мире существует бесконечное количество совершенно удивительных и загадочных вещей и явлений, однако большинству людей интереснее всего строение гениталий. До знакомства с данным делом я совершенно искренне полагал, что хотя бы в этом пункте господа учёные отличаются от всех остальных смертных. Однако, к моему величайшему сожалению, я вынужден признать, что ошибся! – И Самохвалов красноречиво развёл руками. – Итак, господин учёный, отвечайте, как на духу: рассматривали вы мадемуазель Мальцеву как объект плотского наслаждения или нет?
– Разумеется, нет.
– И не писали ей стихов?
– Что вы! – удивился Сечников. – Какие стихи? Я никогда не умел этого делать...
– И вы не называли её «цветком души моей» или «жемчужиной моего сердца»? продолжал изгаляться адвокат.
По залу заседаний Петербургского окружного суда прошелестело весёлое оживление – два последних выражения были взяты из фельетона «Учёный фавн», хорошо знакомого большинству присутствующих. Зал был заполнен до отказа, причём среди публики было немало сочувствующих коллег Ивана Ильича (профессор Ферингтон не явился из этических соображений).
– Нет, не называл, – твёрдо отвечал Сечников. – Я обращался к ней исключительно по имени-отчеству, и никак иначе.
– Хорошо, допустим. В таком случае, самый главный вопрос, при ответе на который не забудьте о своей клятве суду говорить только правду... – Самохвалов сделал паузу. Дождавшись всеобщей тишины, он подошёл поближе к Ивану Ильич и, понизив голос, самым интимным тоном спросил: – Во время так называемых сеансов лечебного гипноза вы пытались раздевать свою пациентку? Например, расшнуровать ей корсет?
– Протестую! – поспешно поднимаясь со своего места, заявил Гурский, выступавший на данном процессе в качестве защитника обвиняемого. – Господин адвокат позволяет себе обильно цитировать некий фельетон, автор которого находится в этом зале и готов покаяться перед моим подопечным за то, что позволил себе недопустимый полёт творческой фантазии. Если вы, ваша честь, – обратился он к благообразному пожилому судье, – соблаговолите выслушать автора фельетона господина Сергея Алексеевича Кутайсова, то он повторит это лично.
– Не вижу в этом никакой необходимости, ваша честь, – поспешно заявил адвокат, подходя с другой стороны судейского стола. – Я готов снять свой последний вопрос и перейти к самой сути дела.
– Вы назвали этот вопрос главным, а теперь так легко готовы от него отказаться? – удивился председатель суда. – Впрочем, воля ваша. Продолжайте, как вам угодно.
Гурский удовлетворённо опустился на место, а слегка обескураженный Самохвалов пошёл в новую атаку.
– В чём состояла цель ваших опытов? – спросил он Сечникова. – Не в том ли, чтобы заставить мою подопечную изменить своим моральным устоям и сделаться послушным орудием в ваших руках? Не будем уточнять, для каких целей. Отвечайте же, господин Сечников, общественность с нетерпением ждёт ваших слов!
Иван Ильич обескураженно поправил очки.
– Да, каюсь, – негромко заговорил он, – в данном случае я несколько отступил от этических норм учёного, поскольку решил провести эксперимент, не поставив в известность саму испытуемую. И я признаю, что действительно попытался изменить её моральные устои, как выразился господин адвокат, путём воздействия на подсознание. Однако это было сделано вовсе не в тех целях, которые мне здесь активно приписываются! Я вовсе не думал внушать своей пациентке какие-то аморальные идеи, поскольку и сам таковыми не обладаю. Хочу ещё добавить, что мой эксперимент закончился решительной неудачей – и данный процесс тому свидетельством! Посудите сами, господа, если бы мне удалось подчинить мадемуазель Мальцеву своей воле, то стала бы она подавать на меня в суд?
В зале послышались редкие аплодисменты – в основном со стороны седовласых коллег Сечникова.
– Какие же именно идеи вы внушали мадемуазель Мальцевой? – быстро спросил Самохвалов.
– Например, о том, что в качестве представительницы женской половины человечества ей надлежит целиком посвятить свою жизнь рождению и воспитанию потомства...
– Для чего она должна отдаться как можно большему числу представителей мужской половины человечества?
– Я этого не утверждал!
– Однако именно это утверждает моя подзащитная! Более того, она уверяет, что вы называли совесть химерой и пытались доказать моральную ничтожность данного понятия! Но, господа, если совесть – химера, то и Бог – иллюзия, а целомудрие вообще пустой звук! Служить родовым интересам, а не выполнять священный супружеский долг перед одним-единственным мужчиной как представителем этого самого рода, что это, как не попытка сделать из женщины порядочной женщину падшую? А известно ли вам, милостивый государь, у сколь огромного числа падших женщин ныне растут дети, зачатые ими неизвестно когда и неизвестно от кого? Страшно сказать, господа, но скоро мы получим целое поколение граждан Российской империи, взращённое на деньги клиентов их продажных матерей! Да разве вам самому, господин Сечников, но страшно будет жить среди подобных молодых людей?
Иван Ильич замялся, и тогда Самохвалов иронично-обескураженно развёл руками, словно показывая, что он и не ждал никакого ответа, после чего слегка поклонился публике. Немало раздосадованный его развязностью и актёрством, Макар Александрович счёл нужным вмешаться, для чего обратился к судье с просьбой предоставить ему слово.
Немедленно получив разрешение, Гурский вышел на свободное пространство перед трибуной для присяжных и, в свою очередь, так же подчёркнуто иронично поклонился Самохвалову, уже успевшему занять место рядом с Мальцевой. После такого начала в зале мгновенно воцарилась мёртвая тишина.
– Позвольте в вашем лице, господин адвокат, поприветствовать всех защитников моральных принципов и женского целомудрия, – заявил следователь. – Нет, кроме шуток, поскольку господин Самохвалов постарался изобразить свою подзащитную невинной овечкой, попавшей в лапы старого развратного волка (среди публики послышались сдавленные смешки), постольку нам всем предстоит разобраться в том, насколько подобная картина соответствует действительности. А для этого нам необходимо обратиться к биографии мадемуазель Мальцевой... Итак, Мария Сергеевна родилась... из уважения к её полу, не будем уточнять, в каком году... в имении своих родителей Березники, что неподалёку от Перми. После смерти отца и по достижении семнадцати лет воспитывалась своей матушкой, к которой в то время начал свататься отставной полковник артиллерии Валерий Петрович Черепахин. Матушка госпожи Мальцевой в тот момент ещё пребывала в цветущем возрасте, поэтому весьма благосклонно принимала эти ухаживания. Дело двигалось к свадьбе, и уже был назначен день венчания, когда разразился прискорбный скандал. Неожиданно выяснилось, что помимо ухаживаний за почтенной матроной бравый полковник попутно ухитрился лишить невинности её дочь, которая, судя по всему, не имела ничего против. Вполне естественно, что все матримониальные планы расстроились. Полковник Черепахин был вынужден срочно покинуть Березники, скрываясь от праведного гнева многочисленной родни своей невесты. Что же касается её юной дочери Марии, то она была подвергнута домашнему аресту. Каким-то образом обо всём этом семейном скандале проведали журналисты, после чего в журнале «Сатирикон» был опубликован фельетон, озаглавленный, если мне не изменяет память, «Проворный Черепахин»...
В рядах публики грянул такой взрыв хохота, что Макар Александрович был вынужден замолчать, после чего удивлённо оглянулся на зал. Уразумев причину всеобщего веселья – а смеялся даже председатель суда, – Гурский слегка пожал плечами и снисходительно улыбнулся. Дождавшись восстановления спокойствия, следователь продолжил:
– Через какое-то время нашей героине, по всей видимости, удалось удрать из дома, и она оказалась в Петербурге, где явилась в редакцию вышеупомянутого журнала с просьбой о вспомоществовании. Здесь мадемуазель Мальцева познакомилась с одним из журналистов, имя которого я знаю, но без особой надобности оглашать не хочу, после чего сделалась его содержанкой. Через какое-то время они расстались, и юная мадемуазель тут же сошлась с его приятелем – небезызвестным петербургским художником. Кстати, этот художник рисовал свою возлюбленную в столь откровенном виде, что и даже не осмеливаюсь предъявить суду его рисунки. Зато среди собранных мною материалов имеются неоспоримые свидетельства того, что на протяжении последующих пяти лет наша героиня вела богемный образ жизни, меняя любовников каждые полгода, а то и чаще. Более того, у меня даже имеются показания тех из этих господ, кто в настоящее время по-прежнему живёт в Петербурге... – И Макар Александрович красноречиво потряс в воздухе той самой голубой папкой, которой его накануне снабдил Кутайсов. В ней, помимо старого номера «Сатирикона» с фельетоном «Проворный Черепахин», содержался целый ряд показаний, полученных журналистом от своих приятелей, в разное время сожительствовавших с Мальцевой.
Именно Кутайсов сумел вспомнить о том давнем фельетоне, после чего по взаимной договорённости с Макаром Александровичем предпринял собственные разыскания. «И это справедливо, – нравоучительно заметил ему следователь. – Поскольку ты бросил тень на репутацию господина учёного, постольку тебе же и надлежит восстановить истину». Сейчас, сидя в задних рядах, журналист с довольной улыбкой слушал обличительную речь Гурского.
– Итак, в заключение, – повысил голос Макар Александрович, на сей раз обращаясь к заметно сникшему адвокату и его подзащитной, – позвольте задать вам всего два вопроса. У вас, сударыня, я хотел бы узнать: чем вы занимались последние два года и как много любовников ещё сменили? Впрочем, на последний вопрос можете не отвечать Л к нам, господин адвокат, у меня вопрос иного рода: где вы видите порядочную женщину или хотя бы оскорблённую добродетель?
Столь эффектная концовка была встречена громом восторженно-весёлых рукоплесканий, так что для восстановления порядка председателю даже пришлось прибегнуть к помощи судейского колокольчика.
Да, Макар Александрович имел полное основание быть довольным собой! Дожидаясь, пока взбудораженная публика подчинится уговорам судебных приставов и успокоится, он слегка облокотился на деревянную перегородку, отделявшую ряды стульев от места для прений, и приветливо улыбнулся Ольге Рогожиной. Девушка сидела во втором ряду под руку со своим новоиспечённым женихом, демонстративно державшим на виду забинтованную ладонь.
– Мадемуазель Мальцева! – громогласно вопросил председатель. – Извольте встать и ответить: правда ли всё то, что господин следователь сообщил суду о вашей жизни?
Растерянная молодая женщина поднялась с места и, поминутно оглядываясь на сидевшего рядом с ней адвоката, что-то пролепетала.
– Говорите громче, – потребовал председатель. – Вас не слышно.
– Нет.
– Что – нет?
– Нет, – громче и увереннее повторила Мария, вскидывая голову и глядя прямо на судью, – всё, что он тут обо мне наговорил... – И она бросила неприязненный взгляд в сторону Гурского. – Совершенно наглая и возмутительная клевета! И как только не совестно возводить напраслину на честную девушку!
Следователь хотел было что-то ответить, но тут произошло нечто из ряда вон выходящее.
– Это она, Макар Александрович, она! – неожиданно вскакивая со своего места, закричала Ольга, указывая на Мальцеву. – Теперь я её, точно, узнала!
– Кого вы узнали? – среди всеобщего замешательства первым спросил Гурский.
– Да ту самую особу, которая была среди налётчиков! Она ещё прострелила руку моему жениху... – И Ольга так резко схватила забинтованную ладонь Николишина, чтобы показать её залу, что тот вскрикнул от боли. – Он тоже может это подтвердить!
– Вы в этом совершенно уверены? – настороженно переспросил Макар Александрович, сам не ожидавший столь удачного финала.
– Ещё бы! – задорно отмечала Ольга. – Мне эта гадина сразу показалась знакомой, а когда я услышала её голос, то перестала сомневаться. Да подтверди же, болван, ведь ты тоже её видел! – накинулась она на Семёна, который чувствовал себя столь обескураженным, что его физиономия начала быстро покрываться багровыми пятнами.
Гурский вопросительно уставился на него, и Николишину пришлось выдавить:
– Не верьте ей, она всё путает...
– Как путаю? – вскричала Ольга. – Макар Александрович, да я под присягой готова...
Но следователь её уже не слушал. Подойдя к Мальцевой, дрожащей от ярости и страха, Макар Александрович крепко взял её за руку повыше локтя и громко объявил:
– Вы арестованы, сударыня.
– За что? – дёрнулась Мария. – Да что вы слушаете эту сумасшедшую?
– Как это понимать, Макар Александрович? – удивлённо окликнул его председатель.
– Эта девица подозревается в соучастии в недавнем вооружённом ограблении галантерейного магазина, ваша честь, – охотно пояснил Гурский. – Вы позволите передать её в руки караульным?
– Делайте, как сочтёте нужным.
Перед тем как Марию вывели из зала, она ещё успела бросить отчаянный взгляд на кусавшего губы Николишина, которого отчитывала разъярённая Ольга. И тут зал заседаний, гудевший, как растревоженный улей, пронзило обиженное восклицание всеми забытого Ивана Ильича Сечникова:
– Позвольте, господа, а как же быть с моим делом?
И вновь грянул такой хохот, что ему бы позавидовали клоуны из знаменитого цирка Чинизелли!
Глава 17
ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
Рассказывая об аресте Марии прямо в зале суда, Николишин не удержался от злорадства. Он был очень нетерпим к боли, а потому до сих пор не мог простить ей простреленную ладонь. Впрочем, Морев был так разозлён после очередного провала, что не обращал внимания на ухмылки и ужимки соратника, которыми тот сопровождал своё повествование.
Когда Николишин закончил и блаженно задымил одолженной папиросой, Морев принялся раздражённо прохаживаться по комнате, периодически щёлкая пальцами и бормоча ругательства. Чёрная полоса неудач продолжалась, и как скоро она закончится – один Бог ведает! Наличных денег при налёте на магазин братьев Доменик удалось взять немного, а с «экспроприированными» у покупательниц драгоценностями пока было лучше никуда не соваться, чтобы не наводить полицию на след. Тем более что заграничное оружие и взрывчатка остались на борту затопленного в Ботническом заливе парохода...
Но главным, что неимоверно бесило честолюбивого террориста, были успехи его конкурентов по революционной борьбе. Сегодняшние питерские газеты как раз сообщили об очередном убийстве, совершенном боевой организацией эсеров. Один из газетчиков даже написал по этому поводу хлёсткую фразу. «Эти господа убили уже так много губернаторов, что назначение на этот пост стало равносильно смертному приговору!»
Помимо уязвлённого честолюбия, в ярости Морева присутствовал и чисто меркантильный интерес. Ему ли было не знать о том, что после каждого успешного теракта количество добровольных пожертвований со стороны лиц, сочувствующих российскому революционному движению, многократно возрастает – и, разумеется, все они поступают на счета той партии, которая сумела громче всех заявить о себе! При таком успехе у публики даже экспроприации становились всего лишь вспомогательным источником доходов...
– Так что же теперь будет с Марией? – неожиданно подал голос Николишин, гася папиросу в пепельнице.
– Что?
– Я спрашивал, как насчёт Марии?
– Да чёрт с ней! – усмехнулся Морев. – Честно признаться, мне она порядком осточертела своей удивительной стервозностью. Поверишь, Сеня, но порой даже самую простую фразу она ухитрялась произносить с такой невыносимо истеричной интонацией, что мне хотелось задушить её голыми руками, а труп сбросить в канализационный колодец.
– Верю, – напряжённо улыбаясь, кивнул Николишин, бросив опасливый взгляд на сильные руки Георгия Всеволодовича. – Но ведь она же может всех нас выдать.
– Не посмеет... Вы все прекрасно знаете, что предательства я не потерплю и сумею достать вас даже в тюремной камере или на каторге. И предатель закончит свою жизнь отнюдь не во дворе Петропавловки, где стоят два некрашеных столба с перекладиной и намыленной верёвкой посередине! И в последний путь его не будут сопровождать священник, прокурор судебной палаты и палач в красной рубахе, который любезно позволит ему самому взобраться на табурет под виселицей. Нет, он закончит свою жизнь гораздо менее торжественно – на какой-нибудь заброшенной даче, удавленный обыкновенной бельевой верёвкой, привязанной к стенной вешалке...
Слушая зловещий голос Морева, Николишин посерел от ужаса, но всё же нашёл в себе силы пробормотать:
– Но, шеф, никто и не говорит о предательстве... Просто я тут подумал...
Морев остановился и с каким-то снисходительным удивлением «Ишь, ты!» глянул на него сверху вниз.
– Ну? Что ты там придумал?
– Может, нам стоит попытаться обменять её на Богомилова? Не вечно же его здесь держать!
– Обменять? – удивился Морев. – Ты думаешь, что полиция на это пойдёт?
– Не знаю, но можно попробовать.
– Но это весьма опасно, особенно для того, кому придётся выступить посредником. Ты сам-то на это пойдёшь?
– Нет, зачем же я... – перепугался Николишин, высказавший своё предложение отнюдь не из дружеской симпатии к Богомилову, с которым они когда-то вместе начинали ухаживать за сёстрами Рогожиными, а из самого простого соображения. Если Мореву надоест возиться с заложником и он убьёт Филиппа, то в семействе Рогожиных наверняка будет объявлен продолжительный траур, что надолго отсрочит его столь желанное обручение с Ольгой. – Посредником может выступить тот самый журналист... – добавил он. – Кутайсов его фамилия. Такой проныра наверняка не откажется от подобной затеи.
Морев пристально посмотрел на своего подручного, а затем важно кивнул.
– Ладно, я над этим подумаю. А сейчас ступай и по пути занеси Богомилову свежие газеты – пусть убедится, что все уже забыли о его деле. Нет, постой! А как идут твои дела со старшей Рогожиной?
– С Ольгой?
– Почему ты переспрашиваешь? – подозрительно прищурился Георгий Всеволодович. – Её теперь зовут как-то иначе или ты начал ухлёстывать за кем-то другим?
– Нет-нет, что ты, – заторопился смущённый Николишин, – с Ольгой всё замечательно, уверяю тебя. После той сцены в магазине, когда я её вроде бы спас, она смотрит на меня как на героя и даже позволяет нежности...
– Ты мне не про нежности, ты про дело говори! Скоро ли ваше обручение?
– На днях должно быть назначено.
– Правда? Ну, смотри! – И Морев погрозил пальцем мгновенно съёжившемуся собеседнику. – Провалишь это дело, и партия тебе этого не простит.
– Отчего же провалю? Всё будет в самом наилучшем виде, клянусь!
– Ладно, иди.
Сдерживая рвущийся наружу вздох облегчения, Николишин выскочил на лестницу и обрадованно загромыхал сапогами по ступеням. Ом не то чтобы солгал Мореву, но не сказа а ему всей правды, дабы не спровоцировать новую вспышку гнева. В подобном состоянии Георгий Всеволодович становился абсолютно невменяемым, и находиться рядом с ним было смертельно опасно.
После вчерашней сцены в суде, когда Семён не стал подтверждать её обвинений против Мальцевой, Ольга заподозрила его в трусости и вновь сделалась холодна. Теперь даже на вопрос об уже назначенном дне обручения она отвечала крайне неохотно, неизменно добавляя при этом что-нибудь вроде: «Если до этого я не передумаю» или «Если ты меня опять не разочаруешь». А Семён уже по-настоящему любил её и готов был жениться, даже если бы партия отменила своё прежнее задание!
Именно поэтому на душе у него было тяжело. В игривой непредсказуемости Ольги имелась своя прелесть, и он мог бы сколь угодно долго подыгрывать ей в этой кокетливой игре, если бы его не тяготил неведомый ей груз самых тяжёлых обязательств! В отличие от того же Богомилова, всецело увлечённого своей наукой, Семён никогда не забывал о том, что за его любовными ухаживаниями стоят суровые интересы партии, – и сознание этого отравляло ему всё на свете! Порой он начинал ненавидеть партию, порой – Ольгу, которая и не подозревала, какой опасности подвергает своего поклонника, легкомысленно отвергая его предложения, а иногда начинал испытывать гнев и отвращение к самому себе... Именно в такие минуты ему и становилось тяжелее всего!
Оставшись один, Морев вернулся к прерванным размышлениям. Соперничать с эсерами, которые обладали мощной боевой организацией и поднаторели в совершении одиночных покушений, было весьма сложно. Да и что такое убийство очередного градоначальника или губернатора – так, привычная газетная новость, которая будет занимать умы обывателей не больше одной недели...
Вот если бы организовать такой теракт, чтобы одним взрывом разорвать в клочья всех этих надменных господ в шитых золотом мундирах! И хорошо бы ещё подгадать так, чтобы среди них оказались члены императорской фамилии! Идеальный случай – это устроить покушение во время празднования дня рождения одного из многочисленных великих князей или княжон, но об этом пока не приходилось и мечтать...
Решение явилось само собой, стоило Мореву бросить взгляд на забытые Николишиным газеты, которые практически ежедневно печатали объявления о сборе средств на сооружение очередного памятника на Бородинском поле – в следующем году Россия готовилась торжественно отметить столетие Отечественной войны 1812 года.
Чтобы утвердиться в своей идее, он взял и бегло пролистал свежий номер «Сына Отечества». «Объявляется подписка на памятник лейб-гвардии Литовскому полку... Батарейной № 2 и лёгкой № 2 ротам лейб-гвардии артиллерийской бригады... 3-му кавалерийскому корпусу... Павловскому гренадерскому полку... Конной артиллерии...»
При открытии этих памятников состоятся пышные торжества, куда непременно съедутся самые высокопоставленные лица империи, – и вот тогда...
Просияв от радости, Морев порывисто скомкал газету и, зловеще оскалившись, пробормотал:
– Пора, чёрт возьми, готовиться к юбилею!