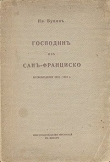Текст книги "Орден Казановы"
Автор книги: Олег Суворов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Глава 22
ПОБЕГ
«“...Однако союз свободных личностей может оказаться столь же всемогущ, как и олимпийские боги"».
Как замечательно и, главное, верно сказано! А ведь и несчастный Столыпин, убитый на моих глазах, тоже пытался создать из стадных, общинных существ, которыми до сих пор являются наши крестьяне, именно свободных и обладающих чувством собственного достоинства личностей, которые если и способны пожертвовать толикой своей свободы, то лишь на добровольной основе.
Но, увы, ему не дали этого сделать, причём главной помехой оказался не злосчастный вскоре повешенный убийца, а вся тысячелетняя история России. Эта история является настолько рабской, что даже такие выражения, как «в тяжёлой борьбе русский народ отстоял свою свободу и независимость», которыми в канун столетнего юбилея Отечественной войны двенадцатого года полны все наши газеты, выглядят полнейшим абсурдом. Какая там свобода, когда племя рабой под руководством господ отстояло право на домашнее, а не чужеземное рабство!
Но как же безумно жаль, что эти недотёпы из Охранного отделения, допустившие к Петру Аркадьевичу убийцу, не позволили мне помочь нашему великому премьеру своим «витафором»! Кто знает, что было бы дальше, если б моё средство подействовало и Столыпин бы остался жив...»
Задумавшийся Филипп хотел было вернуться к докладу профессора Ферингтона, опубликованному в последнем выпуске «Логоса», когда в его комнату бесшумно проник Николишин. После того как Филипп дал честное слово Мореву, что не повторит попытки самоубийства, его оставили одного – и это оказалось большим облегчением, поскольку постоянно видеть пред собою осточертевшую физиономию одного из охранников становилось совершенно невыносимо. Тем более что и Дмитрий, и Иван изнывали от безделья, и потому всячески хамили своему пленнику или досаждали ему мелкими пакостями.
У появившегося перед ним Николишина был откровенно заискивающий вид, и это сразу насторожило Филиппа. В своё время, когда они ещё вместе ухаживали за сёстрами Рогожиными, Семён откровенно лебезил перед Богомиловым и даже предоставил ему право выбора – кто за какой из сестёр будет ухаживать. При этом, как вскоре выяснилось, сам он робел от самоуверенной красавицы Ольги и предпочёл бы ей скромную очаровательницу Елену. Через какое-то время, когда Филипп уже обручился с младшей из сестёр Рогожиных, Николишин дозавидовался до откровенной ненависти к своему удачливому напарнику. Стоило ли удивляться тому, что именно Семён принимал самое активное участие в похищении Богомилова!
В тот достопамятный день Мария Мальцева позвонила в ресторан «Флоренция» и сообщила Филиппу, что во время прогулки с Еленой случился глубокий обморок и сейчас его жена находится на одной из дач Крестовского острова. Он был так взволнован, что выскочил из ресторана, забыв проститься с Сечниковым, ожидавшим его в обеденном зале. Филипп сел в пролётку, ничуть не удивившись тому, что ею управлял Николишин, и, всячески поторапливая Семёна, прикатил в собственную тюрьму!
И вот теперь, спустя две недели безумно надоевшего заточения, физиономия одного из его тюремщиков вновь приобрела первоначально заискивающее выражение! Это заинтриговало Филиппа и даже внушило ему слабую надежду на благоприятную перемену участи, однако он постарался не выдать своих чувств и как можно холоднее спросил:
– Чего тебе?
– Не сердись, Филипп Игоревич, – тихо отвечал тот, подходя ближе, – знаю, брат, как виноват перед тобою, и поверь, что сам об этом жалею...
– Если ты хочешь исповедаться и получить отпущение грехов, то обратился явно не по адресу. Убирайся, Сенька, видеть тебя не могу!
– Да погоди ты, послушай! – горячо зашептал Николишин, присаживаясь на край стула. – Сбежать хочешь?
– Что? Ты это серьёзно?
– Серьёзней некуда... Француза сегодня нет, где-то в городе задержался, а эти два м...ка хлещут водку, не переставая, и вскоре непременно захрапят.
От самого Николишина тоже изрядно несло спиртным, однако именно это позволило Филиппу с доверием отнестись к его словам. Он хорошо знал, что подвыпивший Семён становился непредсказуемым и неуправляемым, однако был совершенно не способен хитрить или обманывать.
– А чего ради ты вздумал мне помочь? – поинтересовался он, всей душой желая поскорее развеять остатки сомнений. – Неужто мести Фран... то есть Морева не боишься?
– В том-то и дело, брат, что боюсь, да ещё как боюсь! – горячо выдохнул Николишин. – Это же такой деятель, что ого-го! Вулкан, а не человек!
– Не понял... Ты его боишься, но предлагаешь бежать? А представляешь, как он взбеленится?
– Пусть взбеленится, но мы-то с тобой уже далеко будем! Всё лучше, чем жить как на вулкане... Ну, посуди сам, собрались мы Марию освобождать и сначала хотели с полицией договориться, чтобы её, значит, на тебя поменять. А француз вдруг приказал подготовить заминированную карету! Договорился с полицией про обмен, а сам Ивана посадил заместо кучера. Мария села в карету, а тот привёл в действие адскую машинку и шасть в ближайший переулок. Так она в ошмётки разлетелась, в газетах пишут, что хоронить было нечего!
– Ну-ну, дальше – Филипп ничего этого не знал, поэтому слушал со всё возрастающим интересом.
– А чего дальше, Игорич! Ты сам-то посуди – ежели Француз любовницу свою не пожалел, а ведь она ему была предана, как собака, то что уж о нас с тобой говорить? Когда захочет, тогда и порешит! Монстер!
– Поздно же ты это понял, – усмехнувшись последнему слову Николишина, заметил Филипп, постепенно обретая всё большую уверенность.
– Отчего же поздно-то! – удивился тот, после чего выдал на удивление трезвую мысль: – Ничего, брат, в этой жизни не поздно, покуда тебя ещё ноги носят! Ну ты что, бежишь или как?
– Кстати, а это Француз надоумил Марию подать в суд на профессора Сечникова? – Филипп задал этот вопрос лишь для того, чтобы потянуть время и хоть немного справиться с резко нахлынувшим волнением. Боже, ведь если всё получится, то ещё сегодня он увидит Елену!
– Ну, не я же! – пьяно удивился Николишин.
– А зачем?
– Хотел прижать того профессора да выведать, какими такими средствами тот хочет людьми управлять, да ещё так, чтобы они во всём подчинялись и вопросов не задавали... Ты не отвлекайся, Игорич, ты дело говори!
– А как убежим-то?
– Так запросто! Как только они нажрутся, я тебе в дверку стукну, а ты уж будь наготове. Но прежде обещай, что в полицию меня не сдашь! – И он настойчиво-просительно заглянул в глаза Филиппу.
– Конечно, не сдам, – твёрдо обещал тот, подумав про себя: «Но морду я тебе, сволочь, потом непременно набью!»
– Ладно, тогда жди. – Николишин направился к двери. Открыв её, он оглянулся, неуверенным движением приложил палец к своим влажным губам и ушёл.
Филипп проводил его взглядом, а затем шумно вздохнул и повалился на постель, прижимая левую руку к груди, чтобы хоть немного сдержать отчаянно заколотившееся сердце. Часы у него отобрали в первый же день заточения, поэтому оставалось только молить Бога, чтобы за окном поскорее стемнело.
Его волнение было столь велико, что он попытался думать о чём-нибудь ином, кроме предстоящего побега, – например, вернуться к рассуждениям профессора Ферингтона или, на худой конец, начать вспоминать стихи. Однако эти средства почти не помогали, поскольку мысль о скором свидании с женой властно вытесняла из его сознания все остальные.
Ждать пришлось долго – вот уже и пьяно бубнившие где-то в доме голоса давно стихли, и ночь сгустила за окном сумерки, а Николишина всё не было. Глубокое волнение Филиппа давно сменилось тяжёлым беспокойством. Что могло помешать Семёну? Неужели тоже напился и уснул? А вдруг неожиданно вернулся Морев – и всё отменяется?
Когда наконец за дверью послышались неуверенно осторожные шаги, а затем и лёгкий, прерывистый стук, Филипп настолько обессилел от обуревавших его эмоций, что, вставая с кровати, пошатнулся и вынужден был ухватиться за её никелированную спинку.
– Готов? – шёпотом спросил Николишин, просовывая в комнату всклокоченную голову.
– Давно уже!
– Ну, пошли. Только тихо, Игорич, как мыши...
Филипп радостно покинул опостылевшую комнату и осторожно, на цыпочках вслед за Николишиным двинулся по тёмному коридору. В доме царила тишина, однако из-за полуприкрытой двери самой просторной комнаты первого этажа лился приглушённый свет, шёл густой запах табачного дыма и доносился громкий мужской храп.
Они благополучно достигли входной двери, и Николишин, приглушённо звякнув щеколдой, распахнул её и выпустил Филиппа наружу. С какой же жадностью тот несколько раз подряд вдохнул прохладный и влажный осенний воздух, отчего даже задержался на крыльце, ощущая лёгкое головокружение.
– После надышишься! – зло прошипел Николишин, больно толкая его в спину. – Двигай к калитке, только не стучи по ступенькам.
Филипп аккуратно спустился вниз, ступил на сырую землю и побежал по дорожке, уже не оглядываясь на своего спутника Сильно запыхавшись – сказалась двухнедельная неподвижность, – он достиг калитки и тут же дёрнул её на стол. У него буквально упало сердце, когда он понял, что она заперта на огромный, влажный от росы амбарный замок.
Филипп беспомощно оглянулся на Николишина, который следовал за ним по пятам.
– Закрыта...
– Ничего, у меня есть ключ. – И Семён принялся ожесточённо рыться в карманах.
В этот момент слабо освещённые окна первого этажа вспыхнули заметно ярче, словно бы кто-то в доме подкрутил керосиновую лампу. Более того, в комнатах замелькали тени и послышались голоса – Дмитрий и Иван явно проснулись.
Николишин задрожал, передёрнул плечами, затем сунул руку под пиджак и достал браунинг.
– Ты что это? – встревоженно спросил Филипп, кивая на пистолет.
– Так, на всякий случай. Думаешь, эти гады церемониться с нами будут?
– Ключ где?
– Да вот он.
– Так открывай живей!
– Сейчас сделаем.
Одной рукой Николишин сжимал пистолет и одновременно придерживал скользкий и тяжёлый замок. В другой руке, трясущейся от волнения и выпитой водки, он держал ключ, которым тщетно пытался попасть в замочную скважину, то и дело лязгая металлом о металл и глухо чертыхаясь.
Несколько мгновений Филипп напряжённо выжидал, но едва из дома донеслись голоса, глухие шаги и скрип открываемых дверей, не выдержал.
– Дай, я подержу твой пистолет, – предложил он, однако Николишин упрямо мотнул головой.
– Нет, погоди...
По-видимому, наличие в руке браунинга придавало ему уверенности, которой он не хотел лишаться даже ради удобства открывания замка. Пьяное упрямство «этого идиота» и невыносимое желание поскорее очутиться по ту сторону забора вывели Филиппа из себя.
– Дай же ты пистолет, дубина, – сквозь зубы процедил он и силой попытался вырвать у Николишина браунинг. – Быстрее же будет!
– Сказал – не трожь!
На какой-то момент позабыв о замке, они принялись яростно тянуть браунинг каждый к себе, как вдруг грянул выстрел.
Филипп дико вскрикнул и повалился на траву, обхватив обеими руками и поджимая к себе правую ногу.
– Я тебя убил? – наклонясь над ним, испуганно спросил Николишин.
– Нога...
– Эй, Сенька, ты где? Что там у вас? – На крыльце появились пьяные охранники и принялись всматриваться в темноту. – Кто стрелял?
Николишин порывисто сунул браунинг в карман, снова схватился за замок и тут же открыл его одним стремительным поворотом точно вошедшего ключа. Через секунду он уже скрипнул калиткой и торопливо побежал в сторону леса, оставив за спиной плачущего от жгучей боли и осознания своего чудовищного невезения Филиппа.
Глава 23
ЗАСАДА
В тот день, когда на даче Крестовского острова произошли вышеописанные события, Морев находился в Ораниенбауме, где проходило заседание лекторской группы местной ячейки большевиков, посвящённое «вопросам стратегии и тактики революционной борьбы на современном этапе». Особое внимание было уделено конспирации, для чего составили целый циркуляр, состоящий из множества пунктов, в том числе: а) лица из высших органов партии появляются в низших исключительно под псевдонимами; б) переписка ведётся только шифром или химическими чернилами, в) активные работники партии, живущие по нелегальным паспортам, не должны пользоваться для получения корреспонденции собственными квартирами; г) если верхи партии находятся за границей, а низовые группы действуют изолированно друг от друга, то в результате провала партия лишится только малой своей части; д) каждый из членов партии должен уметь обнаруживать за собой слежку, а в случае прихода полиции или ареста активно использовать условные знаки в виде лампы, цветка, занавески, ставни».
Морев был известен своим умением всегда и всюду уходить от полиции, поэтому принял самое активное участие в составлении данного циркуляра. Вернувшись в город пригородным поездом, он вспомнил об оставленной рукописи и решил зайти в издательство Субботина.
На этот раз его приняли не в пример любезнее и сразу же пригласили к издателю. Обуреваемый непомерным тщеславием, как и большинство начинающих авторов, Морев мгновенно возомнил, что его несомненный талант оценили с первой же рукописи. Каждому такому автору греет душу известный литературный анекдот, согласно которому, Некрасов, едва дочитав «Бедные люди» Достоевского, тут же прибежал с этой рукописью к Белинскому и закричал: «Новый Гоголь явился!»
Именно поэтому Морев не только ничего не заподозрил, но прошествовал в кабинет Субботина с едва скрываемой торжествующей улыбкой.
– Ну и как вам мой роман? – спросил он, крепко пожав руку издателю и усевшись напротив него.
– Очень недурственно, очень... – пробормотал Алексей Сергеевич, избегая встречаться с ним взглядом. – Характеры интересные, прописаны основательно, да и сюжетец весьма завлекательный. Индейцы, приключения, роковая любовь русской барышни к французскому генералу... Вот только, сударь мой, не жестоко ли он с ней обошёлся, а? Как-то не в духе романтического героя оставлять свою возлюбленную в руках злейшего врага, да ещё краснокожего – как там его кличут, Горный Орёл, кажется? Что вы на это скажете?
Ожидавший восторженных похвал, Морев начал хмуриться ещё при слове «сюжетец», а теперь и вовсе настороженно взглянул на издателя.
– Я как-то не задумывался над тем, насколько романтичен мой главный персонаж, – медленно выговорил он, – но одно я знаю точно – он не Раскольников.
– В каком смысле? – полюбопытствовал Субботин, перекатывая меж пальцами толстую сигару.
– Герой Достоевского не сумел переступить через труп убитой им мерзкой старушонки, чтоб сполна воспользоваться её деньгами и сделаться великим человеком. А мой герой пожертвовал любовью к прекрасной женщине во имя благородной борьбы с узурпатором, благодаря чему и оставил своё имя в памяти потомства. Именно поэтому генерал Моро похоронен с почестями в центре Санкт-Петербурга, а прототип Раскольникова зарыт на каком-нибудь безымянном арестантском кладбище.
– Вот даже как! – озадачился старый издатель, глядя на своего собеседника со всё большим беспокойством. – Кстати, а вы действительно его потомок?
– Да, – коротко отвечал Морев, но поскольку Алексей Сергеевич выжидательно молчал, вынужден был пуститься в разъяснения: – Во время своего первого пребывания в России генерал Моро вступил в любовную связь с незаконнорождённой девушкой, которая была дочерью носителя одной из самых знаменитых аристократических фамилий России и по крепостной. Это была настоящая любовь, которой генералу пришлось пожертвовать ради того, чтобы отправиться на войну с Наполеоном. Вернуться живым ему было не суждено, но эта девушка, которая является моей прабабкой родила дочь.
– Любопытно. Роман о его российских похождениях не думаете сочинить?
– Ну, если вы полагаете, что стоит... – самодовольно усмехнулся начинающий литератор.
– Конечно, стоит, почему же нет… Однако где же ваша рукопись? – Субботин склонился над столом, старательно перебирая лежавшие на нём папки, после чего поднял голову и виновато улыбнулся. – Чувствует, что её ищут, и потому прячется. С вашего позволения, пойду, поинтересуюсь у редактора. Вас не затруднит подождать?
– Нет, нисколько.
– Тогда, если хотите, можете закурить. На моём столе стоит ящик с весьма качественными сигарами. – Старый издатель тяжело поднялся со своего места, однако на пути к двери как-то странно заторопился, словно бы стремясь поскорее оставить своего посетителя в одиночестве.
Морев равнодушно пожал плечами, решив, что у старика недержание мочи или нечто в этом роде. Он спокойно встал и протянул было руку за сигарой, но тут его взгляд случайно упал на поверхность стола...
Спустя пару минут дверь кабинета вновь распахнулась, но вместо издателя на пороге появился Макар Александрович Гурский с револьвером в руке. За его спиной, также с пистолетом наперевес, виднелся жандармский ротмистр.
К немалому изумлению следователя, кабинет оказался пуст: через распахнутое настежь окно его заполняли уличные шумы Невского проспекта.
– Что за чёрт! – воскликнул крайне раздосадованный Гурский. – А где же этот злодей? Не мог же он выпрыгнуть с третьего этажа прямо на асфальт! Стойте на месте! – приказал он ротмистру, который хотел было перешагнуть порог.
Затем Макар Александрович убрал револьвер и, бегло оглядев комнату, приблизился к окну. Прямо под ним находился оживлённый тротуар, так что «господину П.Д.» пришлось бы прыгать на головы прохожим. Озадаченно качая головой, следователь прикрыл окно и вновь оглядел кабинет отличавшийся большими размерами да ещё заставленный тремя старинными книжными шкафами. Играть в прятки тут было явно негде, да ещё столь высокому человеку, как Морев! Разве что он мог спря...
Гурский не успел додумать эту мысль до конца, потому что тяжёлая гардина вдруг бесшумно колыхнулась и в следующее мгновение на голову следователя обрушилась рукоятка револьвера. Макар Александрович тяжело рухнул на ковёр, и тут же, почти одновременно, прозвучало два выстрела. Однако если пуля, выпущенная жандармским ротмистром, разбила оконное стекло, то выстрел «злодея» оказался несравненно более точным, поскольку полицейский вскрикнул, выронил револьвер и схватился за простреленную руку.
– Освободи дорогу! – тоном победителя приказал Морев, поводя дулом из стороны в сторону.
Ротмистр перешагнул порог и отступил в сторону. Не сводя с него глаз, Морев быстрыми шагами покинул кабинет, по дороге зашвырнув ногой под шкаф оброненный полицейским револьвер. Оказавшись в общем зале, он с одного взгляда понял, что в помещении редакции полно филеев, однако это ничуть не убавило его решительности.
– Всем на пол! – громогласно скомандовал «начинающий литератор», для убедительности дважды выстрелив и потолок, отчего зазвенела старинная бронзовая люстра. – Кто поднимет голову пристрелю!
И так грозен был его вид, что все находившиеся в помещении мужчины – сотрудники редакции, и полицейские – послушно стали ложиться на пол, прикрывая головы руками.
Добившись всеобщего послушания, Морев довольно усмехнулся, после чего, держа револьвер наготове и поминутно оглядываясь добрался до лестницы чёрного хода.
– Mакар Александрович, вы целы?
– Что? О чёрт, моя голова... – Быстро пришедший в себя Гурский с помощью жандарма кое-как поднялся с пола, чтобы тут же рухнуть в кресло, на котором незадолго до него сидел Морев. – Где он?
– Кажись, ушёл.
– Проклятье! Нет, но какой матёрый волчара, а? Вы сами-то что ранены?
– Да, навылет, – кивнул бледный ротмистр, продолжая зажимать простреленное предплечье.
– Невероятно! – восхищённо простонал Макар Александрович. – Нет, но до чего же отъявленный мерзавец! И как лихо ушёл, а? Но каким образом он почувствовал засаду – вот что я хотел бы знать?
– Я сделал всё, как мы и договаривались, – отнеся этот вопрос к себе, неуверенно промямлил вернувшийся в кабинет Субботин, оглядывая пятна крови на паркете и осколки разбитого оконного стекла. – Первым делом заверил его, что роман мы непременно напечатаем, а потом попытался усыпить бдительность самыми общими разговорами.
– А что вы сказали ему перед тем, как выйти? – поинтересовался Гурский.
– Что пойду искать его рукопись.
– Что?! – вскричал следователь, наклоняясь над столом и вглядываясь в название верхней папки.
– Пойду искать...
– Старый осёл! Вот же его рукопись!
Глава 24
ТЕОСОФИЯ ЗЛОДЕЯ
Выходя из Мраморного дворца после очередного заседания конгресса, Винокуров вдруг почувствовал, что кто-то взял его под руку. Оглянувшись, он с удивлением обнаружил рядом с собою грустно улыбающегося Карамазова.
– Добрый день, Денис Васильевич. Вы не могли бы уделить мне несколько минут для беседы?
– Конечно, Алексей Фёдорович. Кстати, позвольте вас поблагодарить за сведения о пароходе «Джон Крафтон» – они оказались совершенно точны. Полиция пыталась его захватить, но злодеи предпочли взорвать и всё оружие пошло ко дну.
– Я знаю об этом из газет. Что, если мы немного прогуляемся по набережной? День сегодня безветренный, да и солнце на загляденье.
– Ничего не имею против.
– Ну и отлично.
Они бодрым шагом прошли до конца Миллионную улицу, на которой старательные дворники уже уничтожили все следы недавнего взрыва, и вышли на Дворцовую площадь, двигаясь вдоль фасада Зимнего дворца. Карамазов не торопился начинать разговор, вновь заговорив лишь на Английской набережной.
– Что за убожество эта Петропавловская крепость! – неприязненно заявил он, кивая на знаменитый шпиль по другую сторону Невы. – Глядя на неё, невольно понимаешь, что начинать строительство города надо с прекрасного сооружения, способного стать его символом, но никак не с этой убогой казармы, увенчанной вязальной спицей! Мы со мной согласны?
Денис Васильевич меньше всего ожидал разговора о столичной архитектуре, поэтому недоумённо пожал плечами.
– Право, не знаю…
– Впрочем, что мне до этой невзрачной крепости, – спохватился Карамазов, – если я, вероятнее всего, вижу её последний раз в жизни.
– Вы уезжаете обратно за границу?
– Да и именно поэтому напоследок мне захотелось повидать вас.
– Однако конгресс продлится до конца недели.
– Знаю, но дольше оставаться не могу. Несмотря на подлинный американский паспорт, мною начала активно интересоваться российская полиция.
– Но это не может быть следователь Гурский! Макар Александрович дал мне честное слово...
– Я вам верю, Денис Васильевич, верю, хотя теперь это уже неважно. Кстати, вам не хочется узнать, каким образом я вообще оказался на этом конгрессе?
– Я надеялся, что вы мне об этом расскажете.
– Дело в том, что несколько лет назад я сделался активным членом Теософского общества, основанного госпожой Еленой Блаватской, и приезжал сюда исключительно с познавательной целью, чтобы поучаствовать в работе конгресса, – самым убедительным тоном произнёс Карамазов.
– В самом деле?
– Я чувствую, что поскольку вы, как никто другой, помните мою прошлую революционно-террористическую деятельность, то не слишком доверяете моим словам.
– Жизнь научила меня недоверчивости, – невесело усмехнулся Денис Васильевич. – Кроме того, я всегда отдавал предпочтение естественным наукам, а потому не совсем представляю: чем именно занимается ваше общество и какие интересы оно преследовало на данном конгрессе.
– О, если позволите, я охотно это объясню! – живо заговорил Карамазов. – И для начала позвольте использовать такую метафору: теософия подобна лучу белого света, в то время, когда каждая религия – это только один из семи цветов спектра. Игнорируя все остальные цвета и осуждая их как ложные, каждый отдельный луч провозглашает не только своё первенство, но и претендует на единственно подлинную белизну.
– Подобными претензиями особенно славится православие, что видно из одного его названия!
– Совершенно верно. А главной целью Теософского общества является попытка примирить все религии, секты и нации общей системой этики, основанной на вечных истинах.
– И что же это за истины?
– Во-первых, мы полагаем, что существует единое абсолютное и непостижимое Божество или бесконечная сущность. Во-вторых, мы верим в вечную и бессмертную природу человека, которая является излучением Мировой Души, а потому едина с ней по сути. Бесконечное не может быть познано конечным существом, однако божественная сущность может быть передана высшему духовному «Я» в экстатическом состоянии.
– А что именно вы понимаете под таким состоянием? – заинтересовался Винокуров, в котором проснулся профессиональный психиатр.
– Истинный экстаз определён ещё Плотином как «освобождение ума от своего конечного сознания, его единение и отождествление с бесконечным». Он тождествен состоянию, известному в Индии как самадхи. Последнее практикуется йогами, которые физически облегчают его достижение строгим воздержанием в еде и питье, а умственно – непрестанным старанием очистить и возвысить ум путём медитации.
– Ага, – задумчиво пробормотал Денис Васильевич, – похоже, вы прошли тот же путь от молитвы к медитации, который проходят все новообращённые буддисты?
– Совершенно верно, – охотно согласился Карамазов, – и это случилось потому, что я отказался от юношеской веры и антропоморфного Бога, который в своё время представлялся мне чем-то похожим на оптинского старца Зосиму, и пришёл к вере в высшей, непознаваемый, абстрактный принцип. После этого для меня стало очевидно, что Вселенная в своём существовании и проявлениях зависит от форм, и взаимодействующих между собою по определённым законам, а вовсе не от молитв и молящихся. И как же нелепо и смешно думать, что, производя определённые манипуляции руками или воздерживаясь от той или иной пищи, люди способны повлиять на Вселенную!
– Ну, это ещё не самая опасная иллюзия...
– Согласен, поэтому теософия не отрицает молитв, но не в качестве просьб о личном благе, а как обращение к вселенскому Высшему Влагу, частью которого мы все являемся.
– Смею предположить, что вы также верите в перевоплощение?
Ода, разумеется! И, согласитесь, Денис Васильевич, что вера в посмертное существование, похожее на то умственное состояние, которое мы испытываем, когда видим живой и яркий сон, – это гораздо более логичная, философская и справедливая вера, чем традиционное христианство с его раем и адом, более похожими на два отделения больницы для помешанных.
– Насчёт больницы – вопрос спорный... Но почему вы назвали эту веру более справедливой?
– Да потому, что это вера в непрерывный прогресс каждого перевоплощающегося «Я»! В своей эволюции от материального к духовному оно непрерывно усиливается и переходит на всё более высокие стадии красоты, знания и совершенства, благодаря чему становится своим собственным спасителем, в чём и состоит его истинное предназначение. Смею заметить, что пальма первенства на ниве добродетели принадлежит не западным или восточным христианам, а именно буддистам, – и это является непреложным фактом.
– Охотно верю, – пробормотал Денис Васильевич, – тем более, что в молодости я знавал немало истовых христиан, которым их пылкая вера отнюдь не мешала стрелять из револьверов или бросать бомбы в людей...
– Увы, всё это было, – понял намёк Карамазов, даже не подумав обижаться. – Зато теперь я занят тем, что собираю для библиотеки нашей штаб-квартиры, которая находится в индийском городе Адьяре, научные, философские и религиозные материалы о необычных явлениях человеческой психики, которые не объяснимы никаким иным способом, кроме как обращением к теософии. А знаете, почему буддисты являются более справедливыми и нравственными, нежели христиане? Последним обещано, что если они будут верить в кровь Христа, пролитую им во искупление грехов всего человечества, то это загладит всякую вину и любой смертный грех. Подобная вера пассивна и ничего не требует от своего носителя, однако безделье, как известно, развращает!
Буддисты же категорически не верят в искупление чужой вины или возможность прощения самого малейшего греха Вселенским Божеством, представителем которого для них является карма. Эта сила не может ошибаться, поскольку не знает ни гнева, ни милости – ничего, кроме абсолютной справедливости. Более того, карма – это не Божественное Провидение, поэтому она ничего не предначертывает. Сам человек создаёт причины, а кармический закон лишь подбирает для них следствия. Именно это и есть всемирная гармония, вечно стремящаяся восстановить первоначальное состояние, подобно сильно натянутому луку, который стремится вернуть согнувшую его силу.
– Мне кажется, что подобное учение разрешает одну из самых сложных богословских проблем – как примирить свободу человеческой воли с божественным всеведением...
– Рад, что вы меня понимаете. Однако, Денис Васильевич, мне было так приятно беседовать с умным человеком, что я вновь увлёкся теоретическими вопросами, хотя собирался поговорить с вами совсем о других вещах.
Винокуров понял, что, как и в предыдущем разговоре, же всё это была лишь прелюдия и только сейчас собеседник заговорит о самом главном.
– Я слушаю вас, Алексей Фёдорович, – как можно серьёзнее сказал он.
– Вы, несомненно, уже знаете о взрыве кареты на Миллионной улице и неудачной засаде, устроенной полицией на террориста, который подозревался в организации этого взрыва?
– Разумеется.
– А вам известно имя этого человека?
– Мне известно не только его имя, – невесело усмехнулся Винокуров, – но я даже знаю, как он выглядит и, что ещё менее приятно, как выглядит его револьвер, который он постоянно носит с собой.
– Я полагаю, что мы оба говорим о Георгии Всеволодовиче Мореве?
– Именно так, признаюсь честно, Алексей Фёдорович, но я совершению не удивлён тому, что вы с ним знакомы, поскольку – вы уж меня простите! – между всеми бомбистами есть нечто общее, что притягивает их друг к другу. Я даже полагаю, что ваше знакомство с ним основано не на Теософском обществе, а на совсем иных организациях.
Карамазов остановился и пристально посмотрел на Дениса Васильевича.
– Что такое? – Винокуров не понял его взгляда. – Я вас всё-таки обидел?
– Дело не в этом... Поскольку я покидаю Россию, а вы остаётесь здесь, мне бы хотелось подробнее рассказать вам об этом человеке.
– Я, разумеется, готов вас выслушать, но без всяких условий, вроде обещания не передавать ваш рассказ полиции.
– О нет, этого вовсе не потребуется, – покачал головой Карамазов, снова двинувшись вдоль набережной, – тем более что дело это давнее и у меня нет никаких доказательств. Всё произошло ещё в конце прошлого века, спустя полгода после вашего отъезда из России. Вы, вероятно, помните, что я пришёл на вокзал, чтоб незаметно проследить за вашим отъездом... вашим и Оксаны Владимировны?
– Помню, – сухо кивнул Денис Васильевич. Да и как можно было забыть эту сцену, когда испуганная Оксана указала на прятавшегося в толпе Карамазова, а Гурский бросился его ловить? Сам Винокуров окончательно успокоился лишь тогда, когда между ними и Петербургом пролегло немало вёрст.