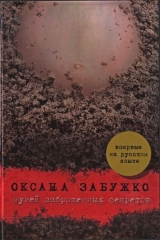
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 44 страниц)
Ни фига се…
Щелк.

Дарина сидит на краю ванны, сжимая пальцами тест-полоску – осторожно, словно уникальное насекомое, бескрылую стрекозу с хрупким голубым фюзеляжиком. Сидит и смотрит, не в состоянии отвести глаз: полоска кажется ей живой. Вот-вот шевельнется. Или еще как-нибудь себя проявит, вовсе неожиданным образом. Тем более, если верить инструкции, через десять минут все может исчезнуть. Но то, что она сейчас видит, никакому сомнению не подлежит: она правда это видит.
Это реально. Это есть.
Две черточки. Две кроваво-красные поперечные черточки, аккурат посередине. Как два крошечных ровненьких капиллярчика, что сразу набрякли и запульсировали, сами собой.
Точность: свыше 99 %.
Это случилось. И это не отменяется. Можно закрыть глаза, можно выкинуть тестер, никому не признаваться и какое-то время (какое?) делать вид, что этого не было, привиделось, ошибка, обман зрения, внезапный приступ астигматизма, в глазах двоилось. Никто больше не видел, никто не может засвидетельствовать, что черточек было две…
Но их две.
И это уже необратимо. Вне зависимости от того, видел кто-то, или нет. Это просто – есть.
Это уже не отыграть назад. Не стереть с компьютера, не перевести часы на час «перед-тем», не сказать в темноту, где не видно ни режиссера, ни операторов: извините, ошибка, с этого вот места пишем заново, да-да, вот с этого…
Есть.
Ну, здравствуй, думает она – словно единым выдохом всего существа разом.
И тут же пугается.
Кто ты?
Где-то там, во мне, внутри, в невидимом закоулке, в самовольно-деятельном бурлении горячих клеток (а они действительно горячие? Какая там температура, давление, влажность воздуха, достаточно ли там вообще воздуха?..). Еще никто, еще не-существование. Еще никакой аппаратурой тебя не разглядеть. Но ты уже есть, ты уже там. Тут.
Словно в обратный конец телескопа – головокружительный полет, длиннющий, винтом закрученный тоннель с золотым пятнышком света в перспективе, и оттуда навстречу – подвижная черная точка. Силуэт на расстоянии еще не различить, но это вопрос времени: приближение неотвратимо, скорость известна.
Две красные поперечные черточки на тоненьком пояске тест-полоски. Первый портрет будущего человека.
Ее ребенка.
«Непраздная» – всплывает в памяти когда-то, тысячу лет назад услышанное детским ухом слово. Так уже не говорят – «непраздная», кто это так говорил, бабушка Татьяна?..
И сразу же следующим кадром, обжигающе ярким, словно только что из реставрационной мастерской (и где оно все таится, в каких запасниках?): маленькая Дарочка, по-бабушкиному – Одарка (а ей не нравилось, она сердилась на бабу: грубо!), слушает, спрятавшись под тяжеленную перину (когда ныряешь под перину, ноги нужно сразу подтянуть, согнув в коленях, и закутать ночнушкой, чтобы не растерять тепло: простыни шершавые и холодные, кровать бескрайняя, как снежная пустыня, днем на ней высится пухлая пирамида из разнокалиберных подушек в вышито-кружевных прошвах, и их узор тоже отпечатан в памяти, как после сна утром след на щеке, – можно провести пальцем по всем узелкам…), – дверь из темноты (тоннель!) открыта туда, где пылает в печи огонь, там разговаривают: мама (это она привезла Дарочку в гости к бабе), баба Татьяна и тетя Люся, – баба говорит громко, как обычно крестьяне, не приученные шептаться, чтобы кого-нибудь не разбудить, и мама время от времени на нее шикает – тогда все трое оглядываются из своего конца тоннеля на комнату с огромной деревянной кроватью, в которой спряталась Дарочка, баба Татьяна громко, как в колокол ударяет, говорит: «Спит?» – и беседа возобновляется на тех же регистрах. Дарочка ждет, когда мама придет и ляжет возле нее (тогда будет тепло), а туманные слова, и среди них звонкое и загадочное «непраздная» – про какую-то посудину, но это не про посудину, и Дарочка это чувствует, – тем временем до нее долетают, раскачивая сон, словно воду ударами вёсел: «Когда я тобой ходила, мне тоже так было», – выделяется голос бабы Татьяны (контральто), и Дарочке досадно, что глаза слипаются и она никак не поймет, о чем они говорят, остается только привкус чего-то недосягаемо таинственного и важного – настолько важного, что мама забыла про Дарочку и тоже что-то говорит (понизив голос), словно раз за разом подбрасывает в печь новое полено, чтоб не погасло, гори-гори-ясно, «а я знала, что будет девочка, потому что мне перед тем сон был…».
Сон? У нее не было снов. Никаких таких снов не было – кроме того, Адрианового последнего, в котором они были вместе, всю ночь в одном кинотеатре, вырываясь временами – как из тьмы на перекур – на свет ночника, она запомнила склоненную над ночным столиком голову Адриана, заросший затылок с несколькими подсвеченными взъерошенными вихрами, когда он записывал со сна, и при этом воспоминании глаза ее туманятся слезами нежности, и она бессознательно раздвигает колени, как виолончелистка, и трогает себя там, где уплотнившаяся борозда приняла упавшее зернышко: это Адино, это от него. Его.
Тогда это и случилось. Сейчас ей кажется, словно она это знала с самого начала. В ту самую ночь и случилось. Ох, эта ночь!.. В зеркале над умывальником Дарина видит свои полуоткрытые в непроизвольной завороженной улыбке губы. Как в таком коротком отрезке времени может уместиться такой огром жизни?! Спрессованные годы, как электроны в атомном ядре, это что-то из ядерной физики, Адя ей объяснял… Люби меня. Все время меня люби – и так, вместе, неразделимо сродненные, сросшиеся воедино, мы входим в один тоннель, в один кинотеатр, и выходим из него вместе, щурясь от света, перепутав, где чьи руки и ноги, а перед этим ты снова был во мне, спящей, толчок за толчком, крутится пленка, не покидай меня, мокро, сыро, плодородно, под нами тает снег, подплывает земля, мы лежим в луже слез, на голой поверхности печальной планеты, где все когда-то пошло не так, и нужно все начинать сначала, инфузории, амебы, первый мужчина и первая женщина, снова открывать новое летосчисление, ты видела? – да – они все погибли, мы опять возвращаемся туда, где нам прокручивают тот же фильм, пленка рвется белыми вспышками в едином мозге, сросшемся из двух, автоматная очередь сквозь меня навылет, огненные пули взрываются во мне канонадой, сколько так раз за ночь – семь? Восемь?.. Это он считал, смеялся утром, что тоже сбился со счета, а она запомнила все сплошным потоком – одной клокочущей, раскаленной, как вулканическая лава, рекой, что плыла и плыла, неся ее на себе… Сколько жизни им было отмерено за одну ночь!.. Брачную ночь. Брачную, вот это она и была – ночь их бракосочетания. Их венчания – под колокола чужой смерти.
Семья. Всё.
Они нас поженили, думает Дарина, впервые полным предложением проговаривает себе эту мысль которая до сих пор шевелилась в ней полудогадкой, боясь стать словами, – те, что погибли тогда в бункере, нас поженили. Они знали.
От плитки на полу в ванной тянет холодом, и она, не глядя, натягивает на колени ночнушку.
Не имеет смысла теперь, как всегда в минуты неотвратимого «случилось», метаться мыслями, на все лады лихорадочно тасуя в памяти предыдущие обстоятельства, елозить ими туда-сюда, словно намереваясь выдернуть сумку, защемленную дверью вагона метро: как, почему, да не может быть, да как же это могло случиться, ведь она же честно глотает те дорогие, как черт, таблетки, да и по календарю вроде еще рано было?.. То, что происходило между ними в ту ночь, не вмещалось ни в какие календари. Ни в какие фармакологические расчеты: фирмы падают, фабрики банкротятся. То было сильнее.
И вот теперь оно в ней.
Ну, здравствуй.
Все произошло само собой. Все было сделано за нее – ее воли в том не было. Была – чья-то другая (чья?), а ей остается только покориться. Принять. Исполнить.
Она немного оглушена этим новым ощущением – и одновременно, в глубине души, как-то странно польщена: так, словно в ряду выстроившихся на плацу неразличимо-одинаковых фигур именно на нее указал пальцем верховный главнокомандующий. По ту сторону плаца горит во тьме огонь в печи, и три парки – мама, тетя Люся, баба Татьяна – поворачивают к ней лица с одинаковым на них выражением тем спокойным, всепонимающим и ласковым одновременно, что появляется на женских лицах от знакомства с самым тяжелым и самым важным человеческим трудом на земле, – присматриваются: спит? проснулась? А, проснулась – ну так давай, переходи сюда, к нам…
Сколько их там дальше теряется в темноте – по ту сторону, уже невидимых ее взору? Армия. Невидимая, несчитаная, самая могучая на свете подпольная армия, что молча и упрямо ведет свою войну, через века и поколения, – и не знает поражения.
«Женщины не перестанут рожать». Так записал Адя в ту ночь при свете ночника на пачке от сигарет. Кто-то ему так сказал, во сне. Сказал это запомнить. А они еще удивлялись потом, что это может означать, и к чему бы такие плоские истины в таком предсмертном сне – в военном?..
Ан вот и ответ. У нее в руке.
Армия, да. Второй фронт. Нет, другой фронт – куда сильнее первого…
Две красные (уже начали темнеть) поперечные черточки на тест-полоске – ее мобилизационная повестка.
Все, что она может «от себя», над чем она властна и на что простирается ее собственная воля, – это дезертировать. Такой выход есть всегда, из каждой мобилизации. Движение черной точки из далекого света в конце тоннеля можно остановить, есть способ: можно подорвать тоннель.
Еще год назад она бы, наверное, так и сделала, думает Дарина отстраненно, как будто про кого-то чужого («дистанционно», подсовывает память словцо Адриана, и ее заполняет новая волна нежности в ответ на еще одно доказательство его в ней присутствия…). Еще полгода назад – да нет, меньше, когда это было? – ах да, на дне рождения Ирки Мочернюк, они сидели с девчонками на кухне, Ирка, время от времени закуривая и тут же заполошно («ой, что я делаю!») давя сигарету в пепельнице, размазывая по щекам тушь, рассказывала, как старается забеременеть от своего нового бойфренда и как у нее это не получается, а она безумно, безумно хочет второго ребенка, Игорчик уже большой, и она готова целовать и тискать каждого встречного младенца в колясочке, та самая вековечная женская беседа у костра, где каждая, советуя, вставляет свое «а-вот-у-меня-так-было», и всем остальным слушать интересно: принцип, подхваченный и без копирайта присвоенный Анонимными Алкоголиками, – и вдруг, в какое-то мгновение все дружно напали на Дарину, как стая куриц, заклевывая ее со всех сторон: а ты, подруга, что себе думаешь, ведь тебе тридцать девять уже стукнуло, у нас же после тридцатки всех первородок автоматом в группу риска записывают, ты что, думаешь, что ты в Англии, чего ты ждешь, что значит «не хочу», что значит «боюсь», все боятся, и все рожают, ну и дура! – и она, загнанная в угол, ответила честно и так, неожиданно для себя самой, четко, словно готовый текст надиктовывала звукооператору, – что ей слишком дорого стоило собственное выживание, чтобы она могла решиться взять на себя ответственность за чье-то еще. Она запомнила эти свои слова, потому что после них воцарилась тишина, девчонки замолчали. Не потому замолчали, чувствовала Дарина, что признали ее правоту, а потому, что слова были из другой пьесы. С другого фронта – существование которого они, конечно, признавали, и даже согласны были отдать ему положенную дань уважения, – но на самом деле, про себя, на самом-самом донышке души, всерьез его не воспринимали: они знали вещи поважнее.
Еще год назад – да, возможно. Несколько дней помучилась бы, поколебалась, поплакала – и пошла бы на аборт. Хотя тогда у нее была, между прочим, гарантированная работа с хорошей оплатой и полным пакетом социальных услуг. А теперь она на вольных хлебах. И без особенно сияющих перспектив, скажем себе правду. Как раз впору за голову схватиться: блин, вот только ребенка мне сейчас и не хватало! Когда тут не только с собой – со страной неизвестно что через полгода будет!..
И, каким-то образом, все это почему-то перестало казаться важным. Как реплики из другой пьесы, да.
Важно другое: она не сможет подорвать тоннель. Вот это она знает твердо. Сама эта мысль, отстраненная и чужедальная, из прошлой жизни, теперь вызывает в ней дробь барабанов под кожей и гудение крови в ушах, похожее на автоматные очереди с серией взрывов, – вздрогнув, Дарина смотрит на свою руку: кожа на ней покрылась мурашками. Как странно, что это ее рука. Ее ноги на кафельном полу. Ее бедро (какое большое!), покрытое пеленой ночнушки…
Ее тело, как и ее воля, больше не принадлежит ей – оно больше не она. Перестало совпадать с ней. Оказалось, что оно с самого начала предназначалось для кого-то еще. Посудина. «Непраздная».
…Потому что это уже когда-то было – она уже видела, как взорвался тоннель. Изнутри видела, такое не покажет ни ультразвук, ни иная аппаратура. Им с Адрианом это показали – нет, это только ей показали, он не видел, – Ты так застонала, я аж испугался – Это и правда было похоже на смерть – нет, даже еще раньше, это ей сразу показали с самого начала, после того первого взгляда на фото, где молодая женщина в форме УПА, втиснутая между двумя мужчинами, как меж жерновами судьбы, которую выбрала себе сама, светилась в объектив своим нездешним материнством: белая вспышка, как от тысячи одновременно взорвавшихся в космосе солнц или одновременно включенных прожекторов из темноты ночи, – и земля взлетает вверх высотным черным валом… И всё, конец. Тоннель засыпан. Никто уже не выберется.
Только стук из-под завала, неразборчивый, неравномерный, годами, десятилетиями: кто-то добивается, кто-то не сдается, рвется к выходу…
Я ошиблась, думает Дарина. Я же все время, все эти полтора года (как, уже целых полтора года? Так это мы так долго вместе?) думала, что Геля позвала меня – на свою смерть. А это была смерть ее ребенка.
Вот что ее мучило.
Только ни полтора, ни год назад, та, тогдашняя Дарина Гощинская – известная журналистка, ведущая программы «Диогенов фонарь», успешная селф-мэйд вумен, снимавшаяся для обложек женских журналов и бывшая статусным предметом домогательств для мужчин, что ездят на служебных «лексусах» с шофером, ничего такого не поняла бы. Для этого нужно было измениться.
Они, мертвые, ей помогли.
…Там, по другую сторону плаца, где горит огонь, понемногу рассеивается тьма – и за спинами трех своих парок она видит Гелю. Видит женщин рода Адриана – тех, кого знает только по семейным фотографиям: маму Стефу (Дарина впервые называет ее так для себя, мысленно, – до сих пор она была «Адина мама»), и бабушку Лину, и прабабушку Володимиру, пани докторшу Довган, и еще каких-то дам – тридцатые, двадцатые, десятые годы, начало прошлого столетия, надвинутые по самые брови шляпки котелком, шелковые ленты, высоко зашнурованные ботинки, – ну да, они же все кем-то приходятся тому, кто в ней, этот кто-то – и их также, их кровь, они имеют на него право – и соединяются в группу вместе с бабой Татьяной и тетей Люсей, словно позируя для общего свадебного фото, как же так, спокойно удивляется Дарина (если можно удивляться спокойно! – но это она уже внутренне как бы прилаживается к ним, к их погожему, всепонимающему спокойствию мертвых победительниц, которые в конце концов всё же выиграли свою войну…), – как же так, почему ей никто не сказал, что все это началось так давно, еще задолго до ее рождения, – что это от тети Гели получила в голодный год тетя Люся тот мешок муки, благодаря которому выжила мама Дарины, что они тогда и познакомились, эти две женщины, которые теперь окончательно породнились, только тетя Люся до самой смерти так никому и не рассказала, пообещала не рассказывать – и не рассказала, молодчина, но откуда я это знаю, откуда у меня такая непоколебимо заговоренная, наговоренная уверенность – или это тоже было в ту ночь, в том сне?.. Геля не выбирала меня – Геля просто пришла ко мне по следам своей муки. По следам той жизни, которую когда-то спасла – взамен той, что была в ней оборвана.
Ну, здравствуй. Ты меня слышишь? Ты хоть догадываешься, там, во мне, скольким людям пришлось поработать – и как! – чтобы вызвать тебя с того конца тоннеля?..
Знаешь, а я тебя видела. Так я теперь думаю. Отчетливо припоминаю, что в том сне был и ребенок – девочка, маленькая, годков, может, двух, с беленькими Гелиными косичками… Улыбалась мне, смеялась, и я говорила Аде, который тоже был при этом: у меня будет девочка… Почему ты смеялась – была мне рада? Беленькая девочка – в Довганов, их порода. Адя статью тоже больше в Довганов, чем в Ватаманюков, только что не светловолосый… Мне сон был, – баба Татьяна, как жаль, что вас уже нет, – а тогда, тридцать лет назад, я была слишком мала, чтобы сидеть со взрослыми женщинами у печки, подбрасывая поленца в огонь, – может, мама запомнила, какой это вам сон был перед ее рождением, такой ли, как и мне?.. У вас еще было два мальчика («хлопца», говорили вы, бабушка Татьяна, – по-народному, без уменьшительных суффиксов) – трехлетний Федько, на год младше тети Люси, и второй, побывший на свете всего несколько часов, не дожив до собственного имени, – обоих не стало в тридцать третьем, моих несостоявшихся дядей, земля им пухом… А девочки («девки», по-вашему, баба Татьяна) – те, не в пример, живучее – «живчее», как говорили вы, баба Татьяна, теперь уже так не говорят…
Ну, здравствуй.
Дарина откладывает тест (черточки стали свекольного цвета, но не исчезли!) и трогает свою ногу: ледяная. А она и не почувствовала, как замерзла. Ее охватывает новая, незнакомая раньше тревога за свое тело – за словно впервые открывшуюся ей в полной мере хрупкость этой посудинки, которую так легко повредить, – и она начинает энергично растирать задубевшие ноги: пойти надеть теплые носки или лучше залезть под горячий душ? А не повредит ли ей теперь горячий душ – и насколько, собственно, он может быть горячим?.. Батюшки, сколько внезапно появляется вопросов на ровном месте, где перед тем ни о чем таком не думалось, – словно впервые в чужой стране, в которой не узнаешь ничего, кроме «Макдональдсов»: она же ничего-ничегошеньки не знает, нужно немедленно что-то хоть почитать, хоть в интернете порыться, прежде чем идти к врачу, а, кстати, куда это нужно идти? Вот и этого она ведь тоже не знает – нужно будет у девчонок поспрашивать…

В тот же день, пополудни, когда Дарина еще висит в интернете (у нее появилась идея новой колонки для женского журнала – почему в нашей культуре непопулярна тема беременности?), звонит мобильный.
– Привет, дорогуша.
Антоша, ее бывший оператор. Голос из прошлой жизни, укол уже не боли, а той тихой грусти, которой рано или поздно затягивается боль всякой утраты: а хорошая все же была жизнь…
– Привет, Антоша. Рада тебя слышать.
– Врешь, наверное. Какая тебе радость слышать такого старого хрыча. Юрко вон, говорит, видел тебя недавно на бульваре Давыдова с таким парубком, что до сих пор не может успокоиться. Осунулся даже.
Вот же, Киев, большая деревня… На бульваре Давыдова – это, наверное, когда они с Адькой ездили к Руслане осматривать Владины картины? Адвокат Н. У. подъехал уже после, значит, Юрко, по всему, их видел, когда они высаживались из машины, почему же не окликнул?.. Но, тем не менее, ей приятны Антошины слова, приятно, что их видели с Адькой и перемывают ей на студии косточки – она любила эту бурсацко-легкомысленную, вечно-кипящую, как на малом огне, атмосферу студийных сплетен, шуток, флиртов, «капустников», вечеринок, к которым готовятся неделями, а потом еще месяц обсмактывают, кто с кем пришел… Дети, мелькает у нее. Взрослые, порой даже пожилые уже дети, которым поручено всерьез играть в виртуальный мир.
– Не ревнуй, Антошкин, – говорит она, с удивлением узнавая в собственном голосе материнские интонации. – Я все равно тебя люблю.
– Хорошо, считай, что я тебе поверил. Что поделываешь?
– Да так… Разное. Бежала через мосток, ухватила кленовый листок…
– И как она, такая жизнь?
– Все еще лучше, чем в среднем по стране. А у вас что слышно?
– Хорошо тебе… А у нас в квартире газ. Прорвало…
– Что, сильно вытекает?
– Не то слово, мать. Блевать – не переблевать. Цензура уже, как при Совке, была. Я себя опять тем же самым гандоном почувствовал, даже помолодел на двадцать лет…
– Ты еще не старый, Антоша, – говорит она, поняв, что он звонит пожаловаться. – Не хорони себя раньше времени, – (Все же придется закрыть компьютер, с сожалением решает она, – но эту закладку на сайт для будущих мам она сохранит…)
– Так не я же хороню, меня хоронят… А для гандона я уже стар, Даруха. Знаешь, как покойный Лукаш говорил, тот, что вместо Дзюбы сесть хотел, но Дзюба покаялся, а Лукаша отовсюду поперли…
– За кого ты меня принимаешь, думаешь, я не знаю, кто такой Лукаш?..
– Ну ты же тогда еще соплюхой была, а я уже работал, помню, как каждое его слово становилось местным фольклором… Когда его спрашивали, как живете, он отвечал: лежу – но через «е»!
– Класс. Нужно запомнить.
– Ага. Вот и мне уже хочется – чтоб через «е»… Не мальчик же я, правда, чтоб меня так нагибать. Пусть уж малолетки, они из провинции таких понабирали – за штуку в месяц кому хочешь минет готовы делать… С подсосом…
– Что, все так плохо?
– Мрак, говорю тебе. Полный бэк ин зе ЮэСэСаР. К новостям каждый день присылают список тем с инструкциями – что освещать и даже какими словами, а чего, типа, и не было. Только «дорогого товарища Брежнева» еще вставить, и можно было календари не менять… Кроме твоей, еще три программы закрыли, – он перечисляет, и Дарина невольно охает: все закрытые программы – авторские, те, что до недавнего времени и делали их канал непохожим на другие, а что же осталось?
– Что, и программу Юрка закрыли?..
– Формат поменяли. Прямого эфира теперь не будет. Вообще не будет, теперь даже ток-шоу будут транслировать в записи, чтобы случайно кто-нибудь что-нибудь недозволенное не ляпнул. К выборам готовятся… Зато сериалов московских накупили – мама не горюй!..
– А новое шоу запускают? У них в планах был какой-то грандиозный конкурс для молодых зрительниц – «Мисс Канал» или что-то в этом роде…
– А, школа блядей? Не знал, что ты в курсе. Нет, с этим до выборов решили подождать. Говорят, кто-то слил оппозиции инфу, будто за тем проектом стоят акулы порноиндустрии, и концы ведут на Банковую, а власть сейчас лишний раз подставляться не заинтересована, у них и так, чем ближе к октябрю, тем больше штаны спадать будут… Репортаж из Мукачево видела?
– Да видела…
Значит, с невольной усмешкой думает Дарина, Вадим сделал из их разговора свои выводы. Оппозиция, ну да, он же у нас в оппозиции… Наверное, еще и заработал на этом, новые собственники канала отсыпали за молчанку: предупреждение или легкий шантаж – какая разница. Главное – шоу попридержали: затормозили, не дали хода, всплывает у нее в памяти голос Павла Ивановича (file deleted), – а крючок уже был заброшен…
Вот и она кого-то спасла. Каких-то безымянных девчонок – так же, как когда-то Павел Иванович спас ее. Только, в отличие от нее, те девчонки никогда не узнают, что им грозило. Но это уже неважно – она свое дело сделала. «До выборов». Все теперь делается «до выборов», будто объявлена дата конца света в одной отдельно взятой стране, план окончательного и бесповоротного ее захвата какими-то темными силами… Но ведь это невозможно, удивляется что-то в ней, – абсолютно невозможно, как такое может случиться, они что, сдурели, у нее же ребенок будет?!..
– А у нас в эфире – ни гугу, – бубнит ей в ухо Антоша. – Про Мукачево вообще ни слова, кругом благодать, день ото дня растет процент жиров в масле… Короче, Даруха, что я тебе скажу – вовремя ты смоталась. У тебя, стервозы, всегда чуйка была собачья – на людей, на ситуации… Мы с ребятами об этом как раз вчера говорили…
Это комплимент: она почти воочию видит, как проходил тот разговор в курилке. Когда работаешь с мужчинами, надеяться на слова признания, сказанные в глаза, особенно не приходится – за тобой все время наблюдают, ожидая какого-нибудь твоего срыва или просто вспышки раздражения, чтобы списать на месячные или, еще лучше, на «недотрах» (и откуда ты знаешь, всегда подмывало ее спросить этих самодельных мачо, – ты меня трахал?..) – и так восстановить собственное мужское достоинство, хронически подтачиваемое присутствием рядом независимой красивой женщины в какой-то иной роли, чем девочки-на-побегушках, – за годы общей работы она в совершенстве овладела системой сигналов, которые нужно постоянно им подавать, как на небезопасной трассе, показывая, что ты не пересекаешь белую линию, ни на что из того, что они считают своим, не претендуешь и то и дело с головой зависишь от их помощи, слабый пол, – и редко, ох как же редко, на пальцах одной руки можно пересчитать, случалось услышать от них напрямую то, что втайне не мог не понимать каждый из них по отдельности: что это именно ты являешься среди них мозговым двигателем, душой канала, а не только его хорошеньким личиком, которое при надлежащей раскрутке без потерь можно заменить на другое, – и вот, наконец, свершилось, дождалась и она своего праздничка: вослед, вдогонку – почти посмертного признания. Собачья чуйка – так они ее оценили, жалея, что и сами не смотались вместе с ней, всей командой (а можно же было! – и прецедент был бы для всего журналистского цеха, и легче было бы найти финансирование для «VMOD-фильма»…). Собачья чуйка. Так это теперь называется. Что ж, парни, спасибо и на том.
Не стоит развивать эту тему дальше – не стоит без нужды множить сущности, как учил старик Оккам и как любит повторять Антоша, который из всех вероятных мотивов чьего-либо поведения неизменно настаивает на самом низменном, уверяя, что шанс ошибиться находится в границах статистической погрешности, – и Дарина взмахивает бритвой Оккама:
– Что за лексика? Фильтруй дискурс, Антошкин!
– Я же не по дискурсам, дорогуша. Ты же знаешь, я человек простой – «отпиратор», как в бурсе говорили… Но, бля буду, с меня хватит. На своем веку я еще при совдепии столько дерьма наелся, что когда меня сейчас те же самые комсомольско-гэбэшные гниды снова валят мордой в говно и командуют «упал-отжался», то у меня срабатывает рвотный рефлекс – и бухло не помогает… Да и невозможно же вечно бухим ходить!
Несколько неожиданное заявление из уст Антоши, который всегда и всюду первым делом интересовался, где наливают.
– Так ты что, ищешь работу?
– Ага. За тем, между прочим, и тебе звоню. Признавайся, правду брешут, что ты выкупила весь наш видеоархив по Олене Довган?
Не я, думает она. Просто Вадим одним заходом решил и эту проблему. Побазарил с пацанами, сделал им услугу, себя не забыл, ну и ей за консультацию кое-что перепало… И за то, чтоб заткнулась, чтобы никогда больше не вытаскивала из его шкафа Владин скелет. То-то он так быстро управился, без всяких напоминаний с ее стороны…
– Откуда такая инфа, Антошкин?
– Подумаешь, бином Ньютона. Кому, кроме тебя, тот материал мог быть нужен? Ясно же, чьи здесь нежные пальчики пошуршали… Давай колись, подруга. У тебя архив?
– У меня.
– Бестия, – с неподдельным удовольствием отваливает ей Антоша второй комплимент подряд, как кусок масла на тарелку. – И что ты с этим собираешься делать?
Хороший вопрос, думает Дарина Гощинская. Ах, какой же хороший вопрос. Знать бы ей теперь еще и ответ на него. Теперь – когда жизнь, переданная по цепочке от Гели Довган, тлеет где-то там в ней еще-невидимой искоркой, и при этой мысли улыбка сама выбегает на губы: что, если она сейчас возьмет да и скажет в трубку так, как часом раньше сказала Адриану: «Знаешь, а я беременна»?..
(Нет, она сказала не так, сказала: «Знаешь, а ты был прав», – но он мгновенно догадался: по голосу, по тому, как ее голос неудержимо распирало изнутри победным перевесом тайного знания, которое на самом деле ни с кем не разделить, даже с тобой, мой самый дорогой, моя любовь, о чьем касании я сейчас, пока ты задыхаешься на другом конце города от невместимого огрома новой радости, тоскую, как о глотке воды в жару, хорошо бы, чтоб ты все время был рядом и держал меня за руку, но если уж совсем начистоту, то больше всего мне бы сейчас хотелось погрузиться в сон – долгий, прозрачный дневной сон, блаженно неторопливый, как съемка рапидом, как дым от костра в летнем саду, – сон-дрему, сон-мираж, в сладкую недвижимость не властного над собой тела при затуманенном, неярком, как не-до-конца-вкрученная лампочка, сознании – сон, сквозь который я бы одновременно ощущала твое присутствие – как ты возишься на кухне, на балконе, что-то носишь через комнату, прибиваешь, переставляешь – готовишь место для малыша? – звуки, сливающиеся с шелестением дождя на улице и шумом шин по мокрому асфальту, с бликами света, плавающими по комнате, отражаясь от балконных дверей, открыл-закрыл, – а потом прыгаешь ко мне под одеяло, обнимая сзади, и басовито урчишь, так что я и во сне чувствую, какая я горячая, как мгновенно твердеет твой член, прижимаясь к моим ягодицам, – на этом месте сон оборвется, потом возобновится с того же самого момента, киномеханик из старенького клуба моей юности склеит пленку, и на той, параллельной пленке, что все время будет прокручиваться у меня перед закрытыми глазами, не заслоняя окружащей меня комнаты, наполненной меняющимся светом, дыханием любимого и шелестением дождя за окном, будет Геля – это с ней мне сейчас больше всего хочется поделиться, ей позвонить и сказать: приходи.
И теперь она наконец придет ко мне – одна, без посредников: теперь, когда я наконец могу ее понять, теперь, когда не только я ей нужна, но и она мне – больше, чем мама, сестра, подруга, больше, чем любая женщина на свете.
Я скажу ей, что вины на ней нет. Что она теперь свободна. И еще скажу, что война продолжается, война никогда не прекращается, – теперь это наша война, и мы ее еще не проиграли.
И спрошу: Геля, тебе оттуда лучше видно, скажи – это правда девочка? Она будет счастлива?..)
– Знаешь, – говорит Дарина в трубку, – она была беременна.
– Кто? – пугается трубка Антошиным голосом.
– Олена. Довган. Была беременна, когда погибла.
– Что, правда?
– Да.
– Капец. А как ты узнала?
– От сына того гэбиста, что командовал облавой.
– Ибануться. Извини за дискурс. Это ему папик такое рассказывал? Я думал, они, как в Афгане, подписку давали – чтобы про боевые действия ни слова, если будут спрашивать – детям конфеты раздавать приходили…
– Так и было. Этот дядька сам докопался. Взрослым уже.
– Ну и ну. И где же ты его нашла?
– Здесь. В Киеве.
– Круто, – говорит Антоша. Ей слышно, как он закуривает; по мобильной связи распространяется его возбуждение. – Очень круто. Ах, блин!.. Слушай, старушка. Так, значит, я правильно угадал? Ты заканчиваешь фильм? Одна?








