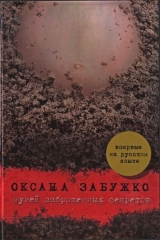
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 44 страниц)
– Вот, – показывает та. – Она всегда так подписывалась – «ВлМатусевич», без точки.
– А, да… Обрезано посередине – «у» еще видно, а «с» уже сомнительное…
– Тут и без подписи никаких сомнений, Адя. И экспертизы не требуется – это из тех работ, что из Франкфурта прилетели. Из цикла «Секреты». Я ведь их все видела, у нее в мастерской, как раз перед тем, как они в Германию на выставку поехали. И слайды же есть, можно идентифицировать.
– А слайды у кого? У Вадима?
– У Нины Устимовны. Она же официальная наследница, пока Катруська несовершеннолетняя.
– Прекрасно.
– Только название сейчас не помню. Оно с другой стороны должно было быть написано, слева, а та часть вся отрезана… Работа примерно такой ширины была, – она разводит руки жестом рыбака, показывающего пойманную добычу, – и в высоту тоже побольше, я композицию хорошо помню…
– Это я обрезала, – отзывается молодица.
Ее появление из двери кухни никто не заметил, и все трое уставились на нее с разной степенью удивления – на всякий случай она, загодя обороняясь, скрестила руки под грудью, и так выпирающей из на размер меньшего лифчика, и ее словно поданный на блюде бюст, вкупе с могучими шеей и руками, выглядит по-своему величественно (валики жирового теста, нарезанные кромками белья, рельефно выступают под стретчевой футболкой). Этим бюстом она закрывается, как щитом, – она раньше, чем муж, почуяла опасность и ринулась на подмогу, пока старый дурень не ляпнул чего с бухты барахты так, что потом и не отмажешь.
Да уж, такая обрежет, думает Адриан, не без интереса разглядывая эту мухинскую колхозницу в менопаузе. Такая что угодно обрежет. Быстро обменявшись взглядами с Дариной, он достает визитку:
– А вы, наверное, хозяйка? Очень приятно…
Щит разбит – визитку молодица берет, но, что с ней делать, не знает и идет к полочке, на которой лежит футляр с очками, – прочитать. Дарину начинает знобить – бить той знакомой дрожью, что пробегает по телу от близости смерти, как короткое замыкание, – и она молчит, опасаясь, что голос ее выдаст.
– Так где вы, говорите, взяли это полотно? – обыкновенным голосом, словно продолжая прерванный разговор, спрашивает у молодицы Адриан.
– Да на ша-се подобрали! – выкрикивает та почти с болью, что из-за такой ерунды столько шума. – Валялась там в грязюке, так и взяли – чего зазря пропадать? А там, где спачкалось, я и обрезала. На ша-се же валялось, под дождем… Давно это было, где-то года четыре уж назад – да, Вась?..
– Может, и больше, – солидно подтверждает Вась, обрадованный поддержкой. Может, еще и пронесет, не станут дальше допытываться…
«Где-где?» – хочет преспросить Дарина, но вовремя соображает: «На ша-се» – это на шоссе, на той, значит, грунтовой дороге, что ведет в село…
– На трассе? – спрашивает Адриан: он тоже не понял.
– Ну да… То есть нет, – сбивается молодица, – на повороте, – она машет могучей рукой дискобола в направлении зеркального шкафа: – Вот как с ша-се на асфальт-то будете выезжать… на трассу, – выправляется быстренько и угодливо, демонстрируя традиционный прием украинской крестьянской вежливости: переход на язык собеседника. – Там, где посадка кончается, на пригорке уже, прямо на повороте… Вот там его все и порасшвыряло.
И, едва произнеся последнюю фразу, она сразу пугается, и ее честные голубые глаза на мгновение стекленеют, как у целлулоидного пупса. Но уже поздно – слово молвлено, и назад не вернешь.
– Всё? И что же там еще было?
Теперь на подмогу кидается дядька:
– Так много всего валялось… Машина, видно, какая-то разбилась…
Глаза он, на всякий случай, прячет.
– Ой, там часто аварии бывают! – радостно подхватывает молодица. – Поверите – и трех месяцев не пройдет, чтоб кто-нибудь не разбился! И хорошо еще, если не насмерть, – судя по интонации, такие случаи удовлетворяют ее намного меньше. – И этот год тоже уже авария была, недавно, с месяц назад, да, Вась? По телевизору даже показывали, не видели? Целая семья разбилась на «Таврии», с дитем малым! – Это уже звучит триумфально, как бетховенская «Ода Радости». – И женщина, говорят, была беременная, подумать только… Из Переяслава ехали – с «мерседесом» стукнулись!
– Не с «мерседесом», – поправляет ее муж, – а с «бэ-эм-вэ»!
– А мне без разницы, – смеется молодица, порозовев от возбуждения: нет, она еще не в менопаузе, думает Адриан, гормоны играют по полной, ишь как тетку прет!.. – Я их не разбираю, где «мерседес», где «бэ-эм-вэ», – знаю, что какое-то начальство ехало!..
– Да какое там начальство! – презрительно фыркает дядька. – Нашла начальство… Сопляк какой-то гнал – из тех, что права купил, а на мозги у отца уже денег не хватило. Такое как едет, то думает, что оно царь и бог, и правила ему не писаны, потому что все гайцы у него в кармане… Расступись море, говно плывет! Поперлось на двойной обгон и выскочило на «встречку». Спешил, видно, очень – ну больше не будет спешить…
Он констатирует это без злорадства, с законным удовлетворением человека, который во всем любит справедливость. Женщина между тем вполне увлечена поднятой темой и рвется и дальше смаковать подробности «лайв-шоу» – это же и правда интереснее всех сериалов, а приезжие ведь совсем ничегошеньки не знают:
– А в позапрошлом году какая большая авария была, целая фура перевернулась! Машин пять побилось, да, Вась? Два дня тогда поливалка кровь с асфальта смывала…
Дарину снова передергивает короткой знобкой дрожью. Кровь, о ней она думала. Не была на месте аварии, не видела Владиной крови…
– Место такое, – кивает Вась. – Это ж и Черновол тут у нас погиб.
– Эге, – вторит молодица так гордо, словно в этом есть ее личный вклад: – Там венки всегда около креста лежат, видели? Вы же с Киева ехали, да? Это немного дальше, в сторону Киева будет, за поворотом на Харьковскую окружную…
Впору мемориал открывать, думает Дарина. Эдакий «Чарли чекпойнт», как в Берлине. Только более экстримный, потому что до сих пор действующий. А эти двое могли бы быть при нем гидами на правах живых свидетелей; они бы отлично справились… Она снова, словно включили rewind, видит перед собой эту утекающую вперед трассу – только не сухую, по которой ехали сегодня они с Адрианом, а ту, четырехлетней давности, по которой мчится одинокий «битл» – черно-шелковую, поблескивающую бельмами луж, – поднятое автомобилем облако водяной пыли оседает на стекле, на капоте, потоки дождя струятся по лобовому стеклу, дорога пустая, нигде никого, проплывают знаки: «Переяслав-Хмельницкий 43, Золотоноша 104, Днепропетровск 453», «Благодарим за чистоту на обочинах», дождь, дождь, и слезы текут из глаз свободно и открыто, и «дворники» машут перед глазами туда-сюда, туда-сюда, как две косы на сенокосе…
Словно из-под воды, доносится до нее голос Адриана:
– Так что, нельзя хотя бы отбойники вдоль трассы поставить, раз такое дело?
– Не поможет, – крутит головой дядька.
– Ну все-таки, безопасней бы было!
– Не поможет, – повторяет дядька с непоколебимым фатализмом. – Место такое.
– А освятить?
– Больно много освящать бы пришлось…
Как-то странно он это говорит, и на мгновение воцаряется неловкая пауза: так бывает, когда разговор тормозит на раздорожьи, выбирая – двигаться дальше или, описав круг, повернуть назад. Первой отваживается женщина:
– Там через дорогу могильник был в голодовку… Свозили с села трупы и там закапывали… Мы, когда малые были, весной бегали смотреть – где неглубоко, земля проседала, так иногда людские кости выносило… здоровенный, говорили, был могильник! Это уже потом через него асфальт проложили…
– Через кладбище?!
– Да какое кладбище! – как будто даже сердито огрызается дядька. – Кто там какое кладбище тогда, в тридцать третьем, делал! Сбрасывали в яму, засыпали, и приметы никакой не оставалось… Старые люди только место помнили, кто жив остался…
– Эге, бабка Мокленчиха, что в прошлом году умерла, бывало, каждую весну на поминки туда ходила, свечку ставила… Вот так было прямо в землю воткнет, а та и горит… Раз до самой ночи горела, помнишь, Вась? Нам аж сюда в окно было видно…
– Да ну его, такое вспоминать…
Но женщину уже не удержать:
– А раз, когда мы маленькие были, ребята нашли там череп и стали им в футбол гонять…
– Э, это ты уже дурость завела!…
– А что дурость? Что дурость? – обижается молодица, снова принимая оборонительную позицию «руки под бюстом». – Считай сам: Лёнька Митришин – раз!
– Лёнька пьяный был…
– Ты с ним пил?! А если б и пьяный, так что?! – возражает она, нимало не смущенная некоторой непоследовательностью такого возражения. – Вы ж подумайте, – снова поворачивается к гостям, – в Афганистане парень служил… тот, что череп нашел… Военное училище кончил, уже старшим лейтенантом был, и никакая пуля его там не взяла! А приехал к родителям в отпуск – и утонул! Пошел на пруд купаться…
– Пьяный был, вот и утонул, – упирается дядька. – А людям лишь бы языком молоть…
– Так если б один Лёнька! А то все ребята, что с ним череп гоняли! Все до единого, ни одного уже в живых не осталось! Колька Петрусенко на мотоцикле разбился, когда я еще в школу ходила, Федьку кони пьяного побили – три дня в больнице умирал, бедняга! – а Витька Валькин, ой, ну то вообще…
– Ну то отдельная история…
– Да, подумайте только – яду от колорадских жуков человек выпил!..
– Пьяный был? – тупо переспрашивает Адриан, невольно завороженный этим макабрическим отчетом.
– Не, не пьяный, там другое… Обиделся сильно. У Нинки, соседки, кошелек пропал, так она на Витьку накинулась. Ну что будто он украл. А он обиделся. На работе выпил яд, пришел домой, говорит жене: «Валя, я буду умирать». Бросились «скорую» вызывать, но поздно уже было, не откачали…
– А кошелек потом нашли! – торжествует молодица. – На выгоне! – Нинка, раззява, сама его там уронила!..
Дарина ощущает потребность сесть. Ноги внезапно сделались ватными в коленках, когда-то такое уже было, когда?.. Ах да, во Владиной ванной, когда она смывала с себя «портрет» девы-воительницы…
– Ну так и при чем здесь тот футбол?.. Будто они с того померли! Придумают тоже… лишь бы языками молоть!
Чем-то дядьку решительно не устраивает в этом случае женина мистика. Странно, думает Адриан, – сам же первым заговорил про «такое место». Или, может, дядька тоже в детстве играл в футбол человеческими черепами – и, как большинство людей, готов воспринимать идею метафизического воздаяния ровно до тех пор, пока на оскверненных могилах разбиваются чужие машины, – но никак не его собственная?.. Пока поливалка смывает с асфальта кровь незнакомцев, это еще «лайв-шоу», как на телеэкране, – а вот когда под ту же статью попадают уже односельчане, то выходит, что и я-любимый тоже не застрахован, а на такое мы уже категорически не согласны – да, Вась?..
– Я еще понимаю – церковь валить, – деловито размышляет Вась. – Это – да, там – бывало… туда, конечно, лучше не лезть… Батька рассказывал, у них в селе когда церковь валили, то кто там старался – все до года со свету сошли! Один так сразу там и разбился – с колокольни упал, когда крышу сдирать полез. Так эта колокольня неободранная и стояла, никто больше не соглашался – аж покуда, в голодовку уже, солдат не привезли… Ну так то же церковь! То я понимаю, да. А череп, ну что череп – покойник, да и всё тут!..
Дарина присела на краешек тахты, обхватив плечи руками, чтоб утихомирить дрожь. «Очень много смертей». Так сказала ей Влада во сне, когда искала для тех смертей «охранную грамоту». Вот оно как. Вот оно, значит, что.
Ее снова передергивает знобкой дрожью: ангел смерти пролетел. Вчерашний разговор с Вадимом, еще не заспанный и не выветренный из живой памяти, теперь поражает ее, словно в кривом зеркале, своей жуткой абсурдностью: как кривляние сумасшедшего или как тот детский футбол с черепом вместо мяча – какой-то развязно-пародийной, гротескной несовместимостью со всем, что происходит сейчас перед полотном Влады: Дарина почти физически ощущает плотное тепло, пышущее от него, – как от куска свежесодранной шкуры. Владка, Владуха. Байкерша, гонщица, девочка-победительница… Ох, да плевать на все эти гребаные победы, не в них дело, как же все те охломоны не почувствовали главное: ты была гениальной художницей, девочка моя, с какой же неудержимой силой тебя несло – глаз не оторвать, и как же никого не нашлось, чтоб тебя подстраховать?..
«Очень много смертей». Твоя правда – действительно многовато. Может, когда много смертей скапливается в одном месте, и они ничем не охраняемы (а чем должны быть охраняемы, какой такой «грамотой»?..), то сама их масса порождает уже собственную гравитацию – и притягивает к себе все новые и новые? Как лавина? Лавина, конечно, – только это из более давней истории, из Куреневской: Бабий Яр в пятидесятые тоже ведь накрыли асфальтом – выстроили дамбу и десять лет подряд заливали самый большой в мире человеческий могильник цементной пульпой из расположенного рядом завода, чтоб и следа не осталось. Еще и стадион с танцплощадками сверху соорудили, – а в 1961-м дамбу прорвало, и пятнадцатиметровая гора селевой лавы за полчаса смела с лица земли целый микрорайон, похоронив под собой сотни людей, которых тоже не нашлось кому подстраховать. И трупы, вынесенные из Яра, мчало по Куренёвке вниз на Подол вперемежку с подхваченными по дороге живыми – девочкой Дарина еще успела наслушаться от взрослых всех тех ужастиков, к которым так охоча эта тетка: про оторванную детскую ручку, оставшуюся в руке матери, когда ребенка выхватило лавиной, про беременную, живьем замурованную в образовавшейся цементной пещере, – Бабий Яр восстал, говорили взрослые, только тогда про такие вещи говорили шепотом. Шепотом и накрыв подушкой телефон: почему-то советские люди верили, что прослушивают их именно через телефон. А потом эти разговоры понемногу сошли на нет – живые свидетели растворились в массе новоприбывших, город рос, а новоприбывшие уже ничего не знали. И шли играть в футбол, на тот самый стадион «Спартак»: его очень быстро восстановили.
Тебя мертвые забрали, Владочка, – да? Чужие мертвые – как раз тогда, когда твоя собственная жизнь поплыла, теряя почву под ногами?.. Они сильные, мертвые, они могут; ох какие они сильные. О боже, какие же они сильные. Куда нам до них.
Ее снова передергивает током. Тетка может подумать, что у нее икота. Или контузия, контузия как-то лучше… Мысль набегает за мыслью, самовольными разрядами, неудержимыми, как родовые схватки или как рвотные позывы, и с новым приступом у нее вдруг окончательно проясняется в голове: Дарина понимает, как это все тогда происходило на дороге, «на шасе», на съезде с Переяславской трассы,– понимает, чего боится дядька, – ведь он все время боится, конечно же, с того самого момента, когда она узнала обрезанное полотно: время от времени украдкой взглядывает на нее и, словно обжегшись, прячет взгляд, хоть она, ничтоже сумняшеся, пожирает его глазами, как самого дорогого человека перед разлукой, так, словно надеется, что он вот-вот решится и договорит наконец все до конца, хоть она и без него уже все поняла и могла бы обойтись и без его пояснений, это только до Адриана еще не дошло, как здесь оказалось полотно Влады, – и, сбив волевым усилием барьер отвращения, она раздвигает до сих пор судорожно сжатые челюсти и неожиданно громко, как на камеру, спрашивает у дядьки:
– А разбитую машину вы вдвоем обыскивали?
Теперь током ударяет дядьку. Даже бросает, на минуточку, в холодный пот: йоптвоюмать, думает он, вот это попал!.. И главное – было бы за что!.. Вот это самое досадное, за такую херню влететь, вот это сделал, дурак, дочке подарок на новоселье, а чтоб тебя!.. Говорил же жене – не надо брать, не стоит мороки – так уперлась, что, вишь, красиво: настоящие картины, в рамках, как в Киеве в лавках продают за большие деньги, Руслане как раз в новую квартиру повесить… Вот теперь будет им красиво, и Руслане тоже – как дело по ограблению замутят, – ай бля, чтоб на такой хуйне погореть!..
И такая нестерпимо горькая обида разбирает дядьку на эту кричащую несправедливость судьбы, что, вместо того чтоб защищаться, он выкрикивает дамочке прямо в глаза почти с отчаянием, как только и может кричать невинно потерпевший человек женщине с такими материнскими глазами:
– Да что там было искать, в той вашей машине! Одни только картинки и были!..
В воцарившейся тишине слышно, как где-то под потолком жужжит муха: весна, машинально отмечает Адриан, с новым интересом разглядывая дядьку. Весна покажет, кто где срал. Как там у ментов называются найденные весной трупы пропавших без вести? Как-то так лирично, ага – «подснежники»! О черт, о факиншит. Шмонает, значит, дядька разбитые машины. И видать, не впервой ему. И правда, чего добру пропадать – а покойнику уже все равно… То-то он так зафыркал на байку про карающий череп, нежный какой. Ай да дядька, вот это пацан. Неудивительно, что они с Юлечкой нашли общий язык…
– И где они? – Голос Дарины дрожит. – Где остальные картины? Их должно было быть пять – где еще четыре?..
Хозяева переглядываются: парочка школяров, застигнутых учителем в туалете за курением. Интересно, думает Адриан, есть ли у дядьки «крыша» в ментовке? Менты же тоже могут быть при своем интересе – благо фотоэкспертиза на месте ДТП у нас необязательна, если нет свидетелей, могут и менты по горячим следам немного подлататься, почему нет, пошмонать, это всегда святое – деньги, драгоценности… Кому война, а кому мать родна. Он безотчетно взглядывает на гайдовские часы на телевизоре (без пятнадцати двенадцать): солидные, добротные часы, прямой дорогой откуда-нибудь из разбомбленного Кенигсберга или Берлина… И пойди потом докажи, что на жертве были драгоценности. Да и кто станет доказывать – убитые горем родственники? Пора брать инициативу, решает он:
– Скверная история, Василий Мусиевич, – на этот раз он уже недвузначно говорит с интонациями следователя, и дядьку, который до сих пор полуигнорировал «босяка», переклинивает когнитивным диссонансом. – Очень скверная. Эти картины четвертый год в розыске, авария была резонансная, по всем каналам тогда передавали… А художница эта, что погибла, – не только близкая подруга пани Дарины, – парочка школяров послушно, словно по взмаху указки, переводят взгляды на «пани Дарину», – а еще и жена народного депутата, – он называет имя и не без удовольствия наблюдает, как на лице дядьки отражается напряженная, вот-вот пар из ушей рванет, работа мысли и проступает выражение откровенной боли: ага, дошло-таки – да, милок, да, с картинками придется распрощаться, хоть и как жаба душит, ой душит, да, Вась?..
Зато женщина реагирует быстрее:
– Так кто ж его знал, что там в той машине! Она ведь перевернута была…
Дарина цепенеет. Адриан чувствует сейчас ее мысли так, словно ему самому бомбят мозги электрошоком, еще мгновение – и он не выдержит, сорвется, только тревога за Дарину вынуждает его сохранять самоконтроль:
– А вы не знали, что вашей обязанностью было – вызвать милицию и «скорую»? А если она еще жива была там, в машине? Читайте Уголовный кодекс, уважаемая!
При упоминании Уголовного кодекса тетка вздрагивает, но не поддается:
– Да в грязюке же валялось! – заходит она с другой стороны, уже жалобно. – Ой, ну вы подумайте, вот же морока какая… А если б не взяли, так оно же все равно бы пропало! – натыкается она наконец на спасительную мысль. – Дождь же какой шпарил, что света Божьего не видно было, – скажи, Вась? Еще бы немного так полежало, и все краски бы раскисли… А так я, видите, сохранила…
Подступив к полотну, она по-хозяйски проводит по нему рукой, словно коврик разглаживает на продажу, и хитренько косится на Адриана (в отличие от мужа, она сразу поняла, кто здесь главный). В других обстоятельствах Адриана бы улыбнуло: во дает тетка жару! – но сейчас ему не до смеха. Прочухивается и дядька:
– Если хотите эту картину взять себе, то я не против… как ты, Галя? Пусть забирают, да? Оно нам не сильно и нужно… Только откуда мне знать, что вы мне правду говорите? Эдак всякое придет в хату и начнет забирать все, что ему понравится…
Адриан понимает: начался торг. Парочка уже сообразила, что вляпалась в передрягу, но будет перебирать ножками до последнего, чтоб выскочить из нее, хоть с какой-то для себя выгодой, – коли не съем, то хоть понадкусываю. Иначе они не могут, иначе им тоже будет «сильно обидно», как тому бедняге, который выпил яд от колорадских жуков. Хотя эти, конечно, не выпьют – эти жизнелюбы…
И тут Дарина начинает смеяться. Это не истерика, ни в коем случае, она просто не может сдержаться: последняя произнесенная дядькой фраза, вкупе с его обиженным выражением лица, застревает в ней и продолжает крутиться, вызывая с каждым оборотом новую волну неудержимого хохота, – «эдак всякое придет в хату и начнет забирать все, что ему понравится», – и она трясется от смеха, как разваливающаяся старая «Таврия» на грунтовой дороге, дребезжа бесконтрольными мускулами и связками, ой божечки, утирая слезы, – rewind и снова rewind, как родовые схватки или рвота, «эдак всякое придет в хату…», – она задыхается, и, главное от повторов эффект нисколько не слабеет: фраза продолжает казаться ей безумно, до выноса мозга, комичной, и она не может остановиться, хотя, кроме нее, никто больше не смеется, и она и сама не смогла бы объяснить, что тут смешного, но, блин, лопнуть же можно – трусы уже мокрые, и слезы текут из глаз по щекам, как струи дождя по лобовому стеклу, размывая дядьку с женой, «эдак всякое придет в хату и начнет забирать…», – и она вскакивает на ноги, крутя головой и давясь очередным приступом смеха, машет Адриану – в порядке, мол, она в порядке, сейчас вернется и присоединится к компании, вот только отсмеется как следует…
В это мгновение той, которая не может не наблюдать за ними обоими со стены через искалеченный, припухший-заплывший постерами глаз своей картины, должно быть хорошо видно, что и Адриана, и Дарину одновременно накрывает короткой, как промельк молнии, вспышкой дежавю: глядя, как Дарина, подхватив сумочку, выскакивает за дверь, Адриан вспоминает точно такую же недавнюю сцену в «Купидоне» – совпадение поражающее, как повтор в танце одной и той же фигуры, почти rewind, но все-таки не rewind, – кое-что изменилось, всегда кое-что меняется, и высветленные в нашем сознании элементы «тогда» и «сейчас», хоть и перекликаются друг с другом, как в геометрическом орнаменте, при всей кажущейся конгруэнтности все же никогда не бывают стопроцентно тождественны: на этот раз, понимает Адриан, ему не стоит за ней бежать – она действительно сейчас вернется, она сказала правду, она в порядке…
Ну а Даринино дежавю приходит прямым продолжением еще неостывшего, еще плавающего у нее в голове кусками грязной пены вчерашнего торга с Вадимом: в наивной попытке дядьки с женой, уже припертых к стене, все еще что-то откусить и спрятать за щекой она узнает тот самый элемент поведенческой матрицы, с которым столкнулась накануне, ту самую «депутатскую программу» – с каждой мели страгиваться так, чтобы удержать за собой контрольный пакет акций, – и именно в это мгновение, когда Вадим с Кукушкиным семейством соединяются у нее в сознании воедино, и второе передразнивает первого, накативший на нее хохот стихает, как внезапный весенний ливень – как анекдот, который перестает быть смешным, чуть только его объяснят, – и она, еще по инерции удивления покачивая головой: ну и ну, это ж надо такое!.. – шмыгая носом, нащупывает в сумочке пачку бумажных носовых платков – и толкает целомудренно прячущуюся в закутке белую пластиковую дверь, на которой гордо, словно начищенная солдатская бляха, сияет писающий мальчик…
В ванной пахнет потом и парфюмом: зажиточный дом, выстроенный с соблюдением всех городских стандартов. Из зеркала над умывальником на Дарину смотрит женщина, которую она где-то видела, но в первое мгновение не узнает: то ли клоунесса, то ли леди Дракула. Нет, скорее актриса немого кино, умывающаяся в гримерке: съемка закончена, роль отыграна. (Та страшная красавица с разлитым под кожей огнем, что один раз мелькнула из-под художественного грима, больше не повторится – да и некому ее больше гримировать…) Тушь размазалась вокруг глаз густыми, хищными черными веерами, и все еще несколько полоумные, как пьяные от хохота, глаза на контрасте светят из этого гротескного обрамления какой-то странной отстраненностью: словно уставившись во что-то невидимое. Что-то вне зоны досягаемости.
Я здесь не одна, толкает Дарину внезапная догадка. А кто тут еще? Кто со мной?..
Она открывает кран и подставляет под ледяную струю обе руки. Какое блаженство, какая это безграничная радость – просто вода, даже когда она всего лишь бежит из крана… Живая вода, та самая, что течет в Днепре. Или у них здесь артезианская?
Она наклоняется и ловит струю губами, пьет, глотает и пьет, как когда-то, она видела, примостившись пил из фонтана голубь: жадно подставив клюв, всем тельцем празднуя каждый глоток. Или это был пес? Господи, сколько жизни вокруг – и, о Господи, что же мы с ней делаем…
Подняв голову, она смотрит на женщину в зеркале – ревлоновская помада размазалась вокруг рта, как после поцелуя, – как на пудренице в женской сумочке, найденной на месте катастрофы: была такая картина, было такое фото, «я что-нибудь с этим сделаю, только еще не знаю, что именно» струйки воды стекают по подбородку, зависая сталактитовым потом, раненые губы шевелятся, и Дарина всей кожей слышит собственный шепот:
– Я всё сделала, как ты хотела, Владуся. Всё. Я заберу их. А теперь уходи.

– А часы он мне все-таки продал! – хвалится Адриан.
– Давай в правый ряд, – советует Дарина, сосредоточенная на дороге: она пустила его за руль, потому что сейчас он в лучшей, чем она, форме, но сама все равно не расслабляется, следит: одна голова хорошо, а две лучше, береженого Бог бережет. – Какие часы?
– А те, что на телевизоре стояли, не заметила? Довоенные еще – ъ немецкие, трофейные! Говорит, отец с фронта привез.
– Круто. А мой дед с фронта привез осколок в груди, из-за которого через год и умер. И еще две банки американской тушенки из своего солдатского пайка – сам не съел, детям вез, чтоб полакомились.
– Так что же ты сравниваешь. Видишь, традиция у них такая… Семейная.
– О, смотри, и здесь кладбище!
– Ну это новое, явно.
– Да ясное дело… Заправка, Адюша! Нам бензина хватит?
– Знаешь, я бы и сам непрочь немного заправиться. Может, остановимся где-нибудь за Борисполем? А то все эти «Петровны» и «Марьяны» у меня доверия не вызывают, а там дальше есть поприличнее забегаловки, ближе к городу…
– За разъездом? Хорошо, давай. Я тоже голодная. Как волк, если уж правду говорить.
– Это от передоза эмоций за сутки.
– А Бог его знает… Но почему меня на такую ржачку пробило, до сих пор не пойму! Ну что там смешного было, спрашивается?
– Нормальная защитная реакция… Зато какими они после этого стали сговорчивыми! Просто зайчики. Тетка сразу рванула расспрашивать, не тебя ли она по телевизору видела. Никак им с перепуга почудилось, что ты теперь их на весь мир ославишь. Сработало действеннее даже, чем упоминание про Вадима. И про картины тоже уже без сопротивления раскололись – что они у дочки. Так что ты, считай, переломила ход высоких переговоров. За что получишь отдельную благодарность от руководства.
– В виде отдельно взятого поцелуя? Слушай, может, ты меня вообще к себе секретаршей возьмешь? Я по крайней мере тебя не обворую…
– Хоть сегодня. Если ты и вправду согласна.
– Ты что, серьезно?
– Абсолютно. Разве это не был бы лучший выход?
– Я же совсем не разбираюсь в антиквариате, Адюша…
– А я тебя подучу. Без проблем. И на искусствоведческий не придется поступать.
– Вижу, ты уже начинаешь на мне экономить…
– Я буду для тебя золотым шефом! Вот увидишь.
– М-да, таких предложений ты мне еще не делал…
– Ага, оценила наконец серьезность моих намерений? – Он улыбается, но в ответ улыбки не получает. – Знаешь, кстати, как Юлечка его окрутила? Это он мне уже напоследок признался, когда мы с ним выходили покурить, – она, оказывается, с самого начала выдавала ему себя за владелицу! Что это якобы ее салон – крутой бизнесвуменши, которую преследует бывший муж, маньяк-алкоголик. То есть я.
– Я всегда подозревала, что она аферистка.
– Ну не до такой же степени… А я все удивлялся, почему это дядька пропал, и как же она, с ее-то бультерьерской хваткой, дала ему ускользнуть! Сперва позвонила мне, что вот такой-де алмаз в кожухе к нам прибился, – я, конечно, завизжал, как резаный хряк, что уже выезжаю, держи его, – а пока примчал, дядька-то уже тю-тю! Она мне наплела, что он на автобус опаздывал. А сама с тех пор все время вела его за моей спиной.
– А зачем же тебе звонила?
– Проверить, видно, хотела, стоит ли овчинка выделки. Тот ли это момент, когда ей пора начинать свою собственную игру. А я ей на радостях и вывалил, что, мол, такой прухи у нас еще не бывало… Что, между прочим, чистая правда, – часы с кукушкой у дядьки, оказывается, тоже были от отца, тоже трофейные – шварцвальдские! Это самая лучшая фирма, с восемнадцатого века еще. Из того Шварцвальда, из Германии, те кукушки и пошли, это уже потом их стали называть «швейцарскими» – когда корпус начали делать домиком, в виде шале…
– Осторожно, смотри – он мигает!
– Вижу… Ну давай уже поворачивай, человече, заснул, что ли! – Адриан сигналит серой «мазде» впереди. – А дядька, когда решил продать часы, просто пошел расспрашивать по всем антикварным салонам подряд, где больше заплатят. Вот так и попался моей Юлечке.
– Ну один другого стоит. Два сапога пара.
– Вот именно.
– А адрес дочки у тебя?
– Ага. И номер я в базу забил, дядька ей при мне позвонил. На Березняках она живет, бульвар Давыдова. Русланой звать. Я думал, будет какая-нибудь Лолита или Анджела…
– Ну Руслана тоже недалеко ушла… А Давыдов – это, кстати, тот киевский градоначальник, который руководил ликвидацией Бабьего Яра.
– Шутишь?
– Нисколько. Так с советских времен улицу и не переименовали.
– Ни фига себе. Так это при нем на Куренёвке дамбу прорвало?
– При нем, при нем… Проект-то, разумеется, был московский, он – только исполнитель… За что и удостоился. Вот так-то, Адя.
– Я вот думаю – кто-нибудь когда-нибудь возьмется произвести уборку в этой стране?
– Такие дела, ано трудно, ано трудно, как говорит Амброзий Иванович…
– А бабушка Лина говорила – глаза страшат, а руки делают… Я ему, кстати, вчера звонил. Папе. Он тебе привет передавал.
– Спасибо.
– Он тебе для фильма продолжает материал собирать. Тоже кое-что интересное нарыл. Я ему уж не стал говорить, что фильма не будет…








