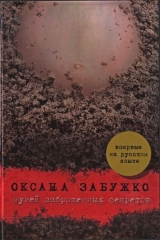
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
Как он к ним попал?..
И кто выдал в октябре крыивку Стодоли? Связная этого не сделала. За это гэбисты прибили ей язык гвоздем к доске. Он знал, как они это делают: приводят во время допроса своего врача, и тот делает вид, что осматривает пытаемого – щупает пульс, ставит градусник, может, даже обтирает лицо и обрабатывает раны… А потом просит, уже успокоившегося человека высунуть язык и сказать «A-а!». И этот язык, едва высунутый, тут же зажимают в тиски подскочившие «помощники». Тогда можно мордовать жертву хоть и до смерти, не боясь услышать от нее ни крика, ни проклятия, ни предсмертного «Слава Украине!». Все можно делать с человеком, чей язык зажат в тиски. Такая технология.
Нет, не всё. С телом можно, а с человеком – нет. Та девушка ничего не сказала.
А кто сказал? Почему была раскрыта крыивка Стодоли?..
Положи мне ладонь на лоб, попросил мысленно, адресуясь в ту сторону, где стояла Она с дитем от Стодоли в лоне. Остуди, очисть, освободи. Выпусти этот яд из души, расскажи что-нибудь еще, чего я не знаю. Расскажи, как он целует, как ты раздвигаешь колени ему навстречу и он входит в тебя мужем, и что ты при этом чувствуешь, и какие слова он тогда говорит тебе – я всё вынесу, лишь бы в этом была правда. Расскажи, чтобы мне не пришлось подозревать и тебя. В памяти промелькнули, обжегши болью, их счастливейшие часы в подполье – когда они вместе пели, пение и общая молитва – это были часы ничем иначе не выразимого единства, какими прекрасными, вдохновенными делались лица друзей, как горели глаза… Стодоля никогда не пел. У него не было слуха.
Как будто со стороны, извне, слышал тиканье хронометра – сознание, отделенное от его боли, трезвое, жестокое и беспощадное, словно рыцарь в ледяных доспехах, держало над ним наготове часы, отсчитывая минуты: Тик-так…Тик-так…Тик-так…
– Возвращаемся, – сказал он, с удивлением слушая собственный голос – то, как он выходит из горла. – Пора уходить из крыивки.
Ему показалось, что она сжалась. Словно он ее ударил (рассказывала им, как когда-то в селе во время облавы ее, одетую по-крестьянски, ударил по лицу капитан, и она, не успев сообразить, машинально ответила ему тем же, – ее хозяйка тогда в панике валялась у капитана в ногах, уверяя, что ее племянница «от роду не в себе», и те поверили – для них это было единственно понятное объяснение, почему беззащитный человек может ответить ударом на удар). Хорошо, подумал он, бей теперь ты. Бей, не жалей, топчи, ненавидь меня, если тебе от этого станет легче, – это уже не имеет значения; когда-нибудь, если останемся живы, я всё тебе объясню, а сейчас нам нужно спасаться. Черные охотники шли по снегу, черные псы бежали, увлекая их за собой, аж гудели поводки, чувствовал их отрывистое дыхание собственным затылком. Тревога, до сих пор тлевшая во всем его теле, как лихорадка, стянулась, обрела форму и была теперь нацелена острием вовне, как антенна в сторону села, – а Геля, как ребенок, занятый своей вавой, ничего этого не слышала; какие же эти женщины бывают иногда тупые.
Он сделал над собой еще одно усилие:
– Спасибо, что сказали мне.
– Я при хлопцах не хотела этого говорить.
– Понимаю. Но теперь пойдем к ним.
– Вы мне не верите, Адриан?
Он едва не расхохотался вслух. Только женщина могла такое спросить. Мог бы повторить ей заповедь ее исчезнувшего мужа – «не верь никому, и никто тебя не предаст». Мог бы сказать, что как раз в беременность ее верит, почему ж нет, – судя хотя бы по тому, как часто бегает на двор: он тоже читал немного медицинскую литературу, знает симптомы… Хотя нет, такого все же не смог бы сказать, ни одной женщине не смог бы. Да и не об этом она спрашивала.
И, вместо всего этого, у него вырвалось:
– А кому мне верить-то?..
Вышло неожиданно грубо, как у подростка. Как у подростка из батярского предместья, его даже в краску бросило – хорошо, что ей в темноте не видно! – и услышал в ответ ее приглушенный вздох – придержанный на всхлипе вздох облегчения, как дуновение ветерка, которым донесло до него, перебивая хвойный запах, ее аромат – белокурый запах ее волос, памятный ему с тех времен, когда они были на балу как Марлен Дитрих и Кларк Гейбл: давно не мытые, не уложенные, стянутые на затылке в жирный узел, волосы пахли тем сильнее, острее – скошенными цветами, сеном перед грозой – пахли Ею. И тут он быстро загадал: если тот не вернется, будь моей! Будь моей, пока я не упаду, до последнего вздоха, до последней пули, что ждет меня…
А она, ожившая от его откровенности, словно встрепенулась, заговорив с новой горячностью – продолжая свое, добивая до конца:
– Михайло необыкновенный человек, Адриан! Вы никто его на самом деле не знаете…
Михайло, понял он, – это Стодоля. Для нее он Михайло.
– Он когда-то говорил, что умеет все то же самое, что и большевики, только лучше, поэтому всегда их переигрывает. Он не дастся им в руки, вот увидите!..
Она всегда была такой, думал он, еще в Юнацтве, – всегда шла до конца, чтобы достичь однажды поставленной цели. А он стоял как болван – и все это слушал.
– Мы все годимся лишь на то, чтобы за Украину умирать. А он из той породы людей, что будут ее строить, когда она станет нашей.
– Может, и так, – сказал он. И подумал: а так оно, наверное, и есть. И всегда так было, сколько мир стоит: те, что больше всего на свете любят свою землю, – первыми и гибнут за нее в боях. И если им повезет – не просто по-солдатски, как до сих пор, тьфу-тьфу, везло ему, а особым везеньем исторического игрока, как картежника, попасть в нужное время в нужное место, так, чтоб их кровь пришлась в масть в разыгрываемой без них мировой политической партии, – тогда по их крови приходят к власти те, кто любит уже саму власть – и знает, как ее удержать. И Стодоля из этих вторых, это правда. И большевики – тоже. Если для удержания власти им понадобится самостоятельная Украина, они станут ее строить с не меньшим усердием, чем мы это делали в подполье. Вот ведь и теперь, когда Сталину в сорок четвертом нужно было вытащить из-под нашего влияния охваченную партизанкой Украину, он дал указания создать украинские министерства обороны и иностранных дел. А когда УГОС добивался от союзников статуса правительства в изгнании, Сталин опередил нас, сделав Украину членом ООН. И пусть все это пока что цацки-пецки, формальные атрибуты не существующего в действительности государства, – когда-нибудь они нам еще пригодятся, не сразу Киев строился…
И еще он подумал: он бы не посмел в этих условиях, живя одним днем, заводить с ней ребенка. А Стодоля посмел. Значит, не одним днем живет – рассчитывает на долгую дистанцию, заглядывает дальше. И это тоже каким-то образом подтверждало справедливость ее слов.
А она, разогнавшись, уже летела, как велосипедист с горы, не в силах остановиться, одержимая страстью во что бы то ни стало склонить его на свою сторону, сделать так, чтобы он разделил с ней веру в человека, чье семя несла она в своем лоне.
– Большевики его не убьют, он им самим нужен! Они же предлагали ему идти в свою разведшколу, а потом агентом в Югославию. И даже материала на нас от него не хотели – лишь бы он на них работал. А он их и тогда перехитрил – натер себе ладони до сорокаградусной лихорадки, чтобы попасть в больницу, а уже оттуда удалось организовать побег…
– Ого! – произнес он. – Я этого не знал.
Велосипед наскочил с разгона на камень, а она и не заметила, как тряхнуло, зазвенело скрежетом в противовес ее словам: так Стодоля уже был под арестом в гэбэ? (И впрямь, ничего-то он про него не знал!) Раз был – значит, должен был потом пройти проверку в высшем звене СБ, наверняка сухой нитки там на нем не оставили… Но эта мысль почему-то его не успокоила: разрозненные загнанные занозы, вытягиваемые одна за другой – исчезновение, снимок, провал крыивки Стодоли, его арест в прошлом, – уже непроизвольно складывались вместе, выстраивались, как в геометрической прогрессии, между ними проступала не замеченная ранее связь: каждое новое обстоятельство скрежетало все тревожнее, потому что вбирало в себя груз всех предыдущих, и эта новая последовательность элементов все больше отклоняла описываемое целое в сторону от того образа, который представлялся Геле… Я должен написать донесение в Провод, понял он. Вот так и написать, всё как есть. И словно часть груза сдвинулась с плеч, стало легче – всегда легче, когда должен решать кто-то другой, не ты. Он нетерпеливо шевельнулся, по щеке мокро царапнула коготками еловая лапа – он снова был на своем месте, знал, что нужно делать.
– У вас всё, пани Геля?..
– Не говорите мне «пани», Адриан. Очень вас прошу.
– Простите, не хотел вас обидеть.
– А то кажется, что вы не воспринимаете меня всерьез.
А ведь это только начало, подумал он. Дальше будет еще хуже – если только будет «дальше».
– Простите, – повторил еще раз. – А теперь прошу вас идти вперед, я замету следы.
– Дайте я это сделаю.
– Ну вы же и упрямица!..
– Ну вот, – засмеялась она, словно разбрызгав в темноте свет, – так уже лучше!.. Куда лучше, чем «пани». А я еще хотела сходить по маленькому к ручью…
– Я вас подожду, – сказал он, обескураженный такой неожиданной интимностью, которой ранее между ними не бывало: ну да, она же беременная! Вспомнил рисунок в какой-то толстой анатомической книжке: полукруглый купол, наполненный внутренностями, завораживающее и отталкивающее одновременно женское чрево, в котором матка, овальный аквариум с головастым в нем моллюском, давит сверху на мочевой пузырь… Он попробовал представить такое давление, передернулся, словно мокрую жабу почувствовал в штанах, – и впервые осознал, что ее состояние значит для нее что-то совсем другое, чем для него, – что все это время ее тело знало нечто такое, чего никогда не будет знать он, даже если бы выучил на память все книжки на свете, – и это нечто существовало вне логики их борьбы, не обращая на нее никакого внимания, словно происходило с другой планеты. И так будет всегда, поразился он, прислушиваясь, как она тяжело (и впрямь тяжело, изменился ритм походки!), как медведица, спускается по камням, примериваясь, куда поставить ногу (а та, что была на седьмом месяце, – как передвигалась она?..) – шарк, шарк, шарк, – потом на короткое мгновение стало тихо, после чего он различил на фоне мерного журчания ручья (слух у него был настроен, как у радиоприемника, на предельную мощность!), звук более громкого, своенравного и какого-то на удивление веселого журчания, – и этот звук внезапно сжал ему горло наплывом нестерпимой, всерастопляющей звериной нежности – и одновременно, темным сопровождением, словно гулом незамерзающего потока в басах под скрипичное соло, он с ужасом почувствовал, как напрягаются мышцы внизу живота, – тело, пробудившись, вспомнило ту, другую, утраченную, забухало молотами в висках, завопило каждой клеткой, возвращая себе ненасытную роскошь той весенней ночи, родную податливость влажной плоти, как набухшей соками земли, огненный контур во тьме в миг наивысшего восторга, словно и не было этих семи месяцев, – он уже не различал лица, они у него смешались: едва заметное пятно Гельциного личика в еловом полумраке, запрокинутое к луне белое, как кружок овечьего сыра, лицо Рахели с закушенной губой – он был слепой, он просто жаждал обнять Женщину, беременную женщину с круглым тугим животом. Положить свою голову между ее набухших молоком грудей, вдохнуть ее запах.
Короткое рыдание сотрясло его, как ветер – сухое дерево, – сухое рыдание, бесслезное, как беззвучный крик. Как немой рев зверя с прибитым языком.
Шарк, шарк, шарк – она возвращалась, это была Она, слышал ее дыхание: запыхалась. Он обрадовался – и тому, что она приближалась, и тому, что не видела его в момент слабости. (Желтоватые круги все еще плавали на месте огненного контура, словно кто-то надавил ему на глазные яблоки.)
– А хорошо теперь в лесу, – судорожно выдохнула она ему в затылок, будто тоже только что плакала. И сразу почувствовала произошедшую в нем перемену – наверное, женщина чувствует такие вещи, как олениха самца – на расстоянии. Только бы она сейчас не вздумала меня коснуться, думал он, только бы не это успокаивающее прикосновение ее руки. Тогда я выдержу. Он отступил в снег, давая ей дорогу, и так стоял, широко расставив ноги, машинально положив руку на пистолет – словно собрался защищаться.
– А знаете ли вы, – вдруг тихонько засмеялась она, и это было почти как прикосновение, только не то, которого он боялся, – что моя Лина тоже мама? Уже третий год!..
– Кто? – не понял он.
– Да Лина же, сестра моя!
Сестра? Ах да, у нее есть сестра…
– Вышла за очень хорошего парня – тоже из наших, студент политехники. И уже у них есть сыночек, назвали Бронек – в честь нашего папы…
– Ага, – сказал он. – Поздравляю, – и подумал: кому я сегодня это уже говорил? Хороший же мне выпал день – богатый на чужих детей. Лина? Это та девочка в матросском костюмчике, что бегала с песиком? Она еще так смешно краснела, когда он приносил ей пирожные в подарок… Он придержал еловую лапу, чтоб Гельце не пришлось низко наклоняться, ее приглушенное щебетание на ходу продолжало обволакивать его, как журчание ручья: недавно проведывала семью, в октябре, когда была на задании во Львове. Они и сейчас живут в том же доме на Крупярской, дом теперь принадлежит Советам, а их выселили в комнату на первом этаже. Они там все чуть с ума не сошли, когда она постучала ночью в окно, – ведь три года не виделись! А мальчик чудный, похож на Лину, она разглядела его, пока он спал…
– Мы и о вас вспоминали. Лина очень обрадовалась, когда я сказала, что вы живы. Вы же были ее первой любовью, вы это знали?
– Нет, – сказал он. – Я этого не знал.
Как многого в жизни он не знал! Но это уже не имело значения, он не изменил свое решение, она его не переубедила. Из крыивки нужно уходить. Часы тикают.
– Была влюблена в вас по уши. Когда училась в гимназии, у нее над столом была пришпилена фотография Кларка Гейбла – с заклеенными усиками, чтоб походил на вас. Думаю, она немного даже ревновала меня к вам…
Ну нет, подумал он, этим меня не проймешь, она что, хочет меня таким образом растрогать? Заклеенные усики и что только у этих баб в голове. Все они всегда были влюблены в него по уши, такой вот он сукин сын: женщины всегда влюблялись в него по уши, толпами выбегали на дорогу и бросали ему под ноги цветы, а как же – все, кроме одной. А некоторые, вместо цветов, бросали себя, но об этом сейчас лучше не вспоминать. Душой он уже не воспринимал смысл ее слов (совсем сдурела со своим Михасем, будто ориентацию без него потеряла и ничего не понимает!) – только и думал, в ритме тикающих часов, словно в колыхающейся воде поднимались искорки пузырьков, обкипая темный контур страха: она играет на мне, как хочет, как на пианино, и я ей это позволяю, я отвечаю за женщину, имеющую надо мной бо́льшую власть, чем я над ней, и это плохо; ох и плохо, друг поручик… В измученном теле снова зарождалась непроизвольная дрожь как пожар в доме. Сейчас он выпьет горячего чая; хорошо бы он уже заварился.
– Адриан.
Она остановилась, словно выключилась музыка. Стояли друг напротив друга, за шаг от пня, маскирующего крышку от люка, и в темноте он ощущал на уровне губ ее макушку. Это была женщина, скроенная аккурат по его мерке, – единственная такая женщина на свете.
– Я вам хотела сказать… Может, потом не будет больше случая. Я вам очень благодарна. Не только за то, что вы меня выслушали. За всё.
Он молчал, как ягненок перед обухом.
– Вы для меня как семья. Как брат, которого у меня никогда не было. Я всегда хотела иметь брата, сколько себя помню…
– Спасибо, – сказал друг поручик по кличке Кий. – Спускайтесь, Дзвиня.
Ты никогда меня не предашь?
Я никогда тебя не предам.
Не оставляй меня.
Я никогда тебя не оставлю.
У меня нет никого роднее тебя.
И у меня. Никого нет, только ты.
А тот… другой?
Не было никакого Другого. Забудь. То была не я.
Ты уверена? Откуда ты знаешь, что не передумаешь? Что, если он внезапно явится и позовет, ты снова не потеряешь голову и не побежишь к нему?
Потому что я не люблю ту женщину, которая с ним была. Себя тогдашнюю – не люблю. То, что мною тогда вело и толкнуло к нему, шло не от меня – да и не от него. Я на его месте видела совсем другого человека – его нарисовало мое воображение под влиянием тяжких поражений, неудовлетворенных комплексов и потаенных желаний моего народа. Он казался мне сильным. Тем, кто способен решать судьбу многих. Ведь судьбу многих у нас всегда решали чужаки и их прислужники. Украинский эсбист, украинский парламентарий, украинский банкир, люди власти – это всегда было недостижимой мечтой: воплощенная мечта векового коллективного бесправия о «своей», собственной силе, которая оборонит и защитит. Он казался мне сильным. А был всего лишь жестоким.
И к тебе? К тебе тоже?
Не будем говорить об этом. Не нужно.
Хорошо, не будем.
Все это было, как темный чад. Но я думала, что так должно быть.
Бедная моя девочка.
Да чего уж там… Путать силу и жестокость – самая распространенная ошибка молодости. Ведь молодость знает жизнь только по силе своих собственных чувств – такое постоянное гремучее фортиссимо с ногой на педали… Ей еще незнакома та высшая чувственность, настоящая чувственность сильных, которая делает жестокость невозможной, она еще не догадывается, с какой силой может ударять под сердце едва слышное пианиссимо. Женщины открывают это для себя с первым мотыльковым движением ребенка в лоне.
А мужчины, по-твоему, что ж, тупее?
Вы любите войну. А война не способствует тонкости переживаний, она лишь педалирует их силу. Все время сплошное фортиссимо – пока человек не глохнет.
Ты несправедлива.
Я женщина. Я хочу чувствовать движения мотылька и видеть в этом явление Бога. Бог постоянно является нам в малых вещах – в форме листка, в тонком кружеве молодого ледка над берегом. В чуде крошечных ноготков на пальчиках младенца. Война делает человека глухим и слепым к таким вещам.
Ты несправедлива. Война – тоже способ увидеть явление Бога. Может, из всех как раз самый прямой. И самый страшный, как это и должно быть, – страшно впасть в руки Бога живаго… Знамения на небе, кометы, огненные надписи, голоса духов, схождения ангелов, обновления церквей, которые завтра рухнут под бомбардировкой, – ни одна война не обходится без своей метафизической истории. И ни одна не дала столько мучеников, как эта. А мы лишь орудия, мы – камни из пращи Божьей…
Адриан. Скажи мне, эта война когда-нибудь кончится?
А война никогда не кончается, моя маленькая. Она всегда одна и та же – меняются только виды оружия.
Это ты мне говоришь? Или тот, мертвый?
Да кто из нас живой!..
Нет! Не говори так. Я так не хочу. И это вообще не твои слова!
Не забывай, что это сон. Это все нам снится, и слова могут залетать в сон откуда захотят – как мошка в глаз…
Я знаю, откуда эти слова. Я помню ту картину, что их сопровождала, «После взрыва», – ее написала Влада, которая тоже теперь мертва. Разве это не ее слова – про сильного человека, которого нарисовало ее воображение от страха перед проигрышем? Что она здесь делает, Влада, зачем она в этом сне?..
Сейчас он кончится. Потерпи еще немного. Нужно еще чуть-чуть протиснуться по этому узкому темному лазу – нам досталась плохая крыивка, с прямым входом, а вход в крыивку нужно делать под углом, зигзагами, чтобы, когда снаружи кинут гранату, никто бы внутри не пострадал…
Не вижу лаза. Вижу, как вхожу в воду, в ручей. Мою ноги, и у меня по ногам стекает грязь.
Может, в каком-то месте сон разделился на два рукава, и ты видишь чего не вижу я?.. Но вода – это хорошо. Хорошо, что грязь стекает.
Такие отчетливые черные подтеки на заголенных бедрах…
Это сходит все поверхностное. Душа очищается, остается собой.
И я тебя люблю. И никогда тебя не предам.
Знаешь, а я тебя ревновал!.. Долго ревновал, только не признавался. Те омары, что вы с ним ели, у меня в горле стояли.
Стекло, все стекло, словно и не было ничего этого… Вижу девочку, она смеется мне, беленькая девочка, ей годика два, – и откуда-то знаю, что она моя… У меня будет девочка?
Девочка! Ну конечно же, это должна быть девочка, как я не догадался! Девочка, конечно, – маленькая Геля с беленькими косичками…
А где мальчик?
Какой мальчик?
Тот, что будет ее защищать. Каждой девочке положен такой мальчик – муж, брат, кто-нибудь еще… Почему я его не вижу, где он? Или его тоже забрала война?
Может, он уже родился? Находится среди живых, и поэтому ты его не видишь?..
А в этом сне что, нет живых?
Только мы с тобой, Лялюша. Это наш сон. И мы не можем его изменить…

– Бандеры, сдавайся! Выходи! Кричали в воздухоход. Наверху лаяли собаки, топотали сапоги – много сапог, от их топота с потолка сыпалась земля, грохот нарастал, словно свист снаряда в полете: сейчас обвалится, взорвется, накроет с головой…
– Выходи, Кий, мы знаем, что ты здесь!..
Четверо смотрели друг на друга. В свете фонарика было видно, как с лица Левко схлынул румянец, оно стало землистым. Как и у Гели. И у Ворона.
«Вот и всё», – произнес кто-то у Адриана в голове – с неслыханным до сих пор спокойствием. И следом словно лопнуло, выбулькнув долгожданное облегчение: наконец-то! – на что вмиг взбунтовалось все его естество: нет!.. Он облизал губы – губы тоже были чужими, будто отдельными от него.
– Кто? – Он спросил беззвучно, но так, что услышали все, потому что каждый в это мгновение спрашивал себя о том же: кто привел облаву?..
Или это он сам и привел? Собаки взяли его след, еще от города?
– Выходи, блядь, говорю, пока не выкурили!..
А, так у них есть газ. Всё у них есть – и газ, и собаки, вся сила на свете. Горло сдавило спазмом ненависти, как автоматной очередью, мысленно направленной вверх, – на мгновение перестал видеть, темная пелена застлала глаза. Показал жестом, Ворон понял его первым: документы!.. Они начали торопливо выгребать из рюкзаков все бумаги скопом, рвали фотографии, Ворон чиркнул спичкой, вспыхнуло, затанцевало сполохами по лицам, тенями по стенам… Адриану показалось, что у Гельцы стучат зубы. Сам он тоже не чувствовал жара; наверное, не почувствовал бы и положив руку в огонь. Зато всем телом чувствовал холод пистолета, ставшего неожиданно тяжелым, – пистолет думал за него: куда, в висок или в подбородок?.. Подошел к воздухоходу, прокричал, запрокинув голову:
– Мать свою из хаты выкуривай! Где тот, что вас привел?
– А тебе зачем?
– Давай его, хочу с ним говорить!
Наверху забубнили, бу-бу-бу, на несколько голосов – из-за лая собак было не разобрать, о чем: совещались, в щели двигался свет. Они будут вести переговоры, понял он, я им нужен живой. Лычки, звания, награды, отпуска – они сейчас слюну пускают, как те псы, они не захотят выпустить из зубов такую добычу. Переговариваться, тянуть время, пока не сгорит архив. А потом на прорыв – гранаты в проем, и вперед. Какие-то шансы всегда есть, и не в таких передрягах бывал. Нет, подумал он, в таких еще не бывал. Боже, смилуйся над нашими душами, но Геля должна остаться, она должна жить. Рахель – это мой грех; дай мне теперь его искупить. Дай, чтобы хоть одна из двоих спаслась. Я теперь, как Орко вчера в бою, – охранником при беременной женщине. Если это был Орко – но все равно, кто бы ни был: он теперь был ими всеми – теми, кто погиб, подорвавшись в крыивках, сгорев заживо на чердаке сельской хаты, кто пал от пули, закрашивая красным снег под собой и последней судорогой пальцев намертво сжимая чеку, – бесконечный темный зал, в котором он танцевал свой danse funèbre[40]40
Danse funèbre — похоронный танец (фр.), выражение, созданное из двух устойчивых словосочетаний: «dance macabre» (танец смерти) и «marche funèbre» (похоронный марш).
[Закрыть], сжался, как в кулак, в этот подземный схрон, и тысячи погибших гремели маршем у него в крови. Благослови, Господи.
Возле воздухохода завозились. Сейчас, понял он. Ему показалось, что он слышит сверху дыхание, и это дыхание смешивалось с его собственным – как у двоих, укрытых одной плащ-палаткой. Внезапно тело его сотрясла долгая, яростная дрожь, едва ли не сильнее любовной, и на лбу выступил липкий пот. Никогда еще он не переживал такого омерзения.
– Друг командир…
Это был Стодоля.
Сзади тонко вскрикнула Геля, будто пискнула летучая мышь. Лай наверху прервался, перейдя в поскуливание, – видно, собаку ударили сапогом, чтоб не мешала. Сапогом, в морду, сапогом, сапогом.
– Выпустите ее, – говорил тот, кто был Стодолей; никто раньше не слышал такого у него голоса, и голос тоже сползал по Адриану, как гадючья кожа. – Выпустите Дзвиню, друг командир, пусть Дзвиня выйдет…
Адриан обернулся на шум. Дзвиня, что перед тем сидела на корточках, бросая документы в огонь, лежала поперек крыивки, при падении сбив головой приставленную к стене «пэпэшку», огонь уже лизал голенища ее сапог. Это ад, подумал он, глядя как хлопцы ее оттягивают; я в аду. Так это было на картине Страшного суда в старой деревянной церкви, где правил службу его папа: лопотали огненные языки, взметая искры, и черти в красновато-серых нимбах скалили навстречу голодные зубы. Ад – это омерзение, из которого нет выхода. Раньше он этого не знал. Раньше он был счастлив.
Дым уже ел глаза.
– Лучше вы спускайтесь к нам, – прокричал он, сдерживая кашель. – Ваша жена как раз потеряла сознание, нуждается в вашей помощи. Если ваши хозяева вам позволят.
– Это не то, что вы думаете, друг… Клянусь…
– Одну присягу вы уже преступили. Не трудитесь.
– Дайте мне поговорить с ней!
– Ничем не могу вам помочь. Просите у тех, кому вы нас продали.
– Она ни в чем не виновата!
– Тем хуже для вас, – он отвечал практически машинально, словно выстукивал на машинке стандартный повстанческий приговор: «Приказываем вам в сорок восемь часов убраться из села ……, а также с украинской земли. Для таких, как вы, места на украинской земле нет. Предупреждаем вас, что за неисполнение приказа…» Такие приговоры прежде исполнял Стодоля; теперь его место занял он. – С этим и живите. А суд украинского народа вас найдет.
Я сам, мысленно пообещал, влеплю тебе пулю, когда начнем бой, – и с какой же холодной радостью я это сделаю: как чирей выдавлю, чтоб шваркнуло. И тут он понял, как именно он это сделает, – в одно мгновение, словно в магниевой вспышке фотоаппарата увидел.
– Дым! Дым идет, товарищ капитан, они там чегой-то жгут!..
– Не дури, Кий, сдавайся! Дружок-то твой, вишь, умнее тебя!..
Уже знал, как это сделает; чувствовал удивительную ясность в голове и в теле. Не видели вы еще, как сдаются «бандеровцы». Хотите увидеть, так я вам покажу. Только чего-нибудь бы белого в руки – газету? Гелю посадили, прислонив к стене, ее голова упала набок. Только бы те наверху не заткнули дымоходы, а то погаснет огонь. Левко зачем-то бил ее по щекам: лучше б этого не делал, лучше бы ей не приходить в сознание.
– Советская власть вам, бандитам, навстречу идет, а вы рожу воротите!
Он подгреб носком сапога в огонь несколько клочков от фото: веселоглазое девичье личико с отодранной улыбкой, сложенные на коленях крестьянские руки. Где-то там горел и вброшенный им снимок, на котором все они впятером, – он разорвал его не глядя. Пусть останется лишь пепел. Лишь пепел, все остальное должно сгореть подчистую. Ни одного имени, ни одного знака, ничего после нас. Только кровь наша за тебя, Украина. Новое, незнакомое возбуждение разгоралось в нем по мере того, как огонь доедал архив. Кто-то кашлял; он вытер глаза и увидел на запястье размазанную сажу: это была его рука, но он этого не понимал.
– Газеты тоже жечь, друг командир?
– Не нужно. Пусть читают.
– Сдавайся по-хорошему, Кий, или тебе жить надоело?
– А ты кто такой, чтобы мне тыкать? – крикнул, прислушиваясь к движениям наверху: так он и думал – они залегли за деревьями подальше от входа, на случай, если из крыивки полетят гранаты: Стодоля показал им, где вход. – Или у вас там одни свинопасы? Так везите сюда полковника Воронина, будем разговаривать с ним!
– Ишь чего захотел! Не будет тебе полковника – операцией командую я, капитан Бухалов!..
Он подумал: моя смерть мне представилась. Из тысяч возможных обезличенных лиц она выбрала именно это. А я так хотел, чтобы это случилось в Киеве, – и так его и не увидел. Жаль. Вот только этого и было жаль, но эта жалость уже была слишком далеко, чтобы что-то в нем зацепить. Помоги, Господи. В последний раз Тебя прошу.
Щелкнул затвор: это охранник Стодоли Левко вогнал патрон в ствол. И зачем-то поднялся на ноги – полусогнувшись, низкий потолок не позволял выпрямиться, – и так стоял с пистолетом в руке, словно удерживал на себе всю землю и покачивался под ее тяжестью:
– Друг командир… Друзья…
– Погодите еще, Левко, – сказал Адриан. – Пока у нас еще есть оружие, негоже спешить на тот свет, не прихватив с собой парочку большевистских душ. Слышите, как капитану Бухалову не терпится?
– Сдавайтесь, Кий! Даю вам пять минут на размышления!
– Будем бросать гранаты? – хрипло, жадно спросил Ворон.
Адриан смотрел на Гелю. Была в сознании. Сидела неподвижно и светила из тьмы глазами прямо на него. На мгновение все звуки пропали, он слышал только звон крови в ушах. Такой тонкий, тревожный свист.
– Прости мне, Адриан.
Она знала, понял он. Знала, что я ее люблю. Она тут, со мной. Рука в руке. Мое счастье, моя любовь. Восторг рванулся в нем, выпроставшись и запылал высоко и ровно, как факел.
– Пусть Бог простит, – ответил он – голосом своего отца, священника Ортинского. – И вы меня простите, Геля. И вы простите, хлопцы, в чем провинился перед вами, Ворон… перед вами, Левко…
– Пусть Бог простит…
– Прощаю, простите, друзья…
– Простите и вы мне…
– Пусть Бог…
Они неловко, как чужие, перецеловались: каждый был уже один на один со своей догорающей жизнью, и прикосновение к другому телу с трудом достигало сознания – щека колючая, щека горячая, холодная, мокрая… Это Геля, понял он, она плачет: к ней вернулись слезы. Текли по ее щекам дорожками мокрого блеска, и он вдруг пожалел, что не успел напоследок побриться, – так, словно оставлял неубранным место постоя.
– Я сказал – пять минут, Кий! Ты меня слышал?
В крике слышался страх. Вот теперь пора, подумал он. Как в той сказке, где черт зовет девку танцевать, а она все время тянет, пока петухи не начинают кричать. Разве что нам петухи не закричат, и помощь не придет. Часы останавливались; секундная стрелка добегала свой последний круг. То, к чему он готовился долгие годы, возносилось перед ним огромной, грозной стеной, ничего величественнее и грознее он не знал раньше. Даже то чувство, с которым стоял в 1943-м в строю, когда четыре сотни УПА, приняв присягу, пели «Ще не вмерла Украіна…», не могло с этим сравниться. Ничего не могло. И сколько ни готовься, никогда не будешь к этому готов.








