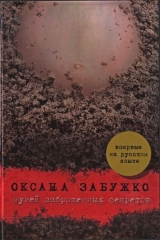
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
– Фильм будет, Адя.
Он бросает на нее короткий взгляд искоса.
– Будет, – повторяет Дарина с такой непоколебимой уверенностью древних прорицательниц в голосе, что его поскребывает холодком. – Теперь я в этом уже ни капельки не сомневаюсь.
Адриан молчит. Следит за дорогой.
– Ты еще не понял, да? – говорит она мягко, как ребенку.
– Что именно?
– Помнишь запись моего с Владой интервью? Ну того, в Пассаже, что тебе потом снилось, только с Гелей в главной роли?
– Не очень хорошо. А что?
– Влада мне тогда картину пообещала подарить. Из этого самого цикла – «Секреты». Сказала, придешь и выберешь себе.
– А потом погибла. А ты не успела прийти и выбрать. Я понимаю, Лялюша, как тебе горько, что нет у тебя ничего на память из ее вещей. Фото или видео – это совсем иное, чем то, что сделано руками самого человека, это я очень хорошо понимаю…
– Ничего ты не понимаешь. Как раз выбрать я успела.
Он снова взглядывает на нее. Эта женщина никогда не перестанет его удивлять.
– Я выбрала именно эту работу, Адя. Вот эту, что мы у них забрали.
– Не может быть.
– Ее самую. Только тогда она была, конечно, целая, не порезанная.
– Ты уверена? Может, это тебе теперь так задним числом кажется?
– Нет, не кажется. Я ее сразу узнала, с первой минуты. Это от нее подарок, от Влады. Это она меня сюда привела. На то место, где ее «Секрет» был спрятан. О той подаренной картине, кроме нас с ней, никто больше не знал.
– Черт-те что…
– Да нет, все просто. Она очень аккуратная была девочка. Знаешь, из тех, кто всегда убирает за собой – и не любит иметь долгов. Я думаю, она закрывает свои земные счета. Выполняет обязательства, которые когда-то на себя взяла. Очевидно, без этого она не может уйти. Я имею в виду, совсем уйти. Понимаешь?
– Ага… Похоже, это не только с ней так.
– Да, у меня тоже это кладбище тридцать третьего из головы не выходит…
– Дорога через братскую могилу, н-да…
– Ну таких братских могил по этой стороне Збруча – в каждом селе… Только что не через каждую машины ездят, слава богу.
– С черепом кислотная история.
– Знаешь, что я подумала, когда она рассказывала? Череповище – это же Голгофа по-древнееврейски!
– Лялюш. Мой Лялюш.
– Что?
– Ничего. Слушай, иди ко мне в секретарши, а?
– И будем вдвоем скупать у наследников «воинов-освободителей» трофейные часы, а потом перепродавать их новым мародерам?
– Нет, ответ неправильный. Попробуй еще раз.
– Извини. Не обижайся, Адя. Но видишь, так ведь оно и выходит…
– Знаешь, что я на самом деле хотел бы иметь? – говорит Адриан. – Какой магазинчик? – Он не смотрит на Дарину, смотрит перед собой на дорогу. – Не салон – салон плохое слово, гламурное, для новых малорусских… Магазинчик. Чтобы там постоянно были выставлены на продажу вещи, которые больше не производят. Хорошие, нужные вещи – от швейной машинки «Зингер» до набивочной для самокруток. Умные, практичные вещи, которые пригодились бы и сегодня. Вещи, предназначенные служить долго, но вытесненные массовым серийным производством. Ты же согласишься со мной, что куча женщин охотнее шили б сами и себе, и детям, чем ходить в «мейд ин Чайна»? А сколько бы народу курило настоящий табак, а не этот лицензионный мусор! – он кивает на пачку «Davidoff», лежащую возле коробки передач. – Ну вот… В таком, значит, духе. И рядом, за стеной – чтоб ремонтные мастерские. Типа тех на Крещатике, во дворе возле «Макдональдса», где мы тебе осенью застежку на колье чинили. Хорошие, честные ремесленные мастерские. И там бы сидели серьезные дядьки, которые бы все те вещи возвращали к жизни. Чтобы люди покупали их не для понтов, а для себя. И пользовались бы ими и дальше.
– Магазин «Утопия», да?
– Пусть и утопия. Пусть мечта. Называй как хочешь.
– И домашний ткацкий станок поставь там, пожалуйста. Это уже лично для меня. Всегда хотела платье из настоящего домотканого полотна.
– Не вопрос. Уже заказываю.
– Классная игра.
– Это не игра. Ты же сама сказала – утопия. Так лучше.
– Я думаю, ты быстро набрал бы клиентуру.
– Я тоже так думаю.
– И нашел бы последователей. И может, даже основал бы сеть. Как те швейцарцы, что «Freitag» сделали, только у тебя круче задумано.
– Вот видишь.
– А потом однажды ночью приехали бы пацаны на джипах и спалили бы твою утопию к едрене фене, вместе со всеми чудесами. Как только бы у них упали продажи их «чайны».
– А может, и не спалили бы. Пока не попробуешь, то и не узнаешь, ведь так?
– Это очень красиво, Адюш. Правда.
– Тебе нравится?
– Да. И знаешь, кому бы это еще понравилось? Владе. Ужасно бы понравилось. Это в ее стиле. Она из Швейцарии и мне сумку от «Freitag» в подарок привезла, ту черную, большую…
– Это которые шьются из авточехлов?
– Да, они. Владка радовалась им так, словно сама придумала, – не столько дизайну, сколько идее. Реабилитации, как ты говоришь, честного ремесла… Она и себя считала ремесленницей. Так и говорила, даже в прессе… Ох, Адя, как жаль, что ты ее не знал!
– Жаль, что невозможно знать всех хороших людей, которых уже нет.
– Вы с ней в чем-то очень похожи. Очень. Какой-то у вас один и тот же душевный витамин в избытке – как раз тот, которого мне по жизни хронически недостает.
– Вижу, ты действительно оголодала. Уже подъезжаем, еще немножко – и будет хорошая корчма. В лесочке, под соснами.
– Ох, котя, я серьезно говорю! Может, неуклюже выражаюсь, извини, но это только потому, что слишком много разом всего навалилось…
– А ты не суетись. Ты же все время вибрируешь, как в розетку вставленная. Из-за каждой машины на дороге дергаешься. Не нужно, малыш.
– Адя. Послушай. Я об одном все думаю. О плохом, о страшном очень. Все время думаю, с тех пор как та баба про могильник сказала. Даже тебе озвучить боюсь.
– А ты не бойся.
– Это про Нину Устимовну. Про ее родителей, точнее. Про Владиных деда и бабушку.
– А они тут при чем?
– Сейчас скажу. Слушай. Влада подозревала, что они в тридцать третьем «на голоде» работали. Раскулачивали, выходит, где-то здесь, на Киевщине. Оттуда и карьера Владиного деда пошла, это уже потом, когда голод начался, их в город перебросили. Дома об этом, конечно, не говорилось, но она что-то такое когда-то подслушала. Да и по биографии так ложилось… Говорила, что ее бабушка, когда, уже персональной пенсионеркой, детей во дворе гоняла, чтоб яблоки не рвали, на пике ярости обзывала их «куркуляками». Самое грозное ругательство у нее было.
– «Двоедушны вы все и злы, трижды проклятые куркули!» – патетически декламирует Адриан.
– О Господи, а это еще откуда?
– Из украинской советской поэзии, вестимо. Со школы застряло, не помню чье. А вас что, не учили такому?
– О боже, Адя, ты что, не понимаешь, про что я?!
Он накрывает ее руку своей.
– Всё я понимаю, Лялюша. Не думай об этом. Не нужно.
– Но ведь так нечестно! – почти выстанывает Дарина. – Почему пришлось ей… Почему нужно было, чтоб это была именно она… Чтоб это ей выпало, на этом самом месте… Адя, она была таким светлым человеком, если б ты только знал! Из лучших людей, которых я в своей жизни встречала…
– А это уже не нашего ума дело, Даруся, – говорит он, включая правый поворот, и она машинально оглядывается назад: дорога свободна. «Фольсваген-гольф» сворачивает с трассы и, шумно разбрызгивая из-под колес дресву[43]43
Дресва — крупный песок, гравий.
[Закрыть], подъезжает к придорожному ресторанчику.
– Ты же сама говорила – Голгофа, – говорит Адриан, вынимая ключ, и они продолжают сидеть в упавшей, как исцеляющий компресс на раскаленный лоб, тишине: голова женщины на плече мужчины, он касается губами ее волос. – А Голгофа, – произносит чуть слышно, – это, между прочим, и есть – смерть за чужие грехи. Тоже, между прочим, способ убираться, чтоб чисто было… Кто-то это должен делать, когда грехов набирается в избытке. Такой вот способ очищения системы, по закону больших чисел: много-много маленьких Голгоф…
Он целует ее за ухом и выпрямляется.
– А вообще, я тебе вот что скажу, Лялюша. Думай проще: ехала женщина в глубокой депрессии, куда глаза глядят, по пустой дороге, чтоб только ехать… Реакции притупившиеся, дорога мокрая, дождь, какая-то зверюга выскочила на дорогу, собака, например, или что еще… Затормозила на большой скорости, машину занесло, наверное же и скользко было, – вот и всё… Мостик, кювет. Конец фильма.
Она тоже поднимает голову, не сводя с него по-детски недоверчивых, расширенных глаз:
– Ты на самом деле так думаешь?
– Нет, – говорит он. – Но это не имеет никакого значения – ни что я думаю, ни что ты. Или кто другой. В пределах системы утверждение не верифицируется. Есть такая теорема Гёделя… А теперь пойдем что-нибудь съедим. Пока мы еще в пределах системы, это, по крайней мере, нам точно делать приходится.
Наконец она улыбается – впервые после того приступа истерического хохота ему удалось вызвать ее улыбку.
И только уже на дорожке от парковки к крыльцу он замечает у нее в руках белый пластиковый пакет, из которого выпирает ребрами завернутый в несколько газетных слоев полотняный прямоугольник.
– Нет, – качает она головой, перехватив его взгляд, и улыбается на этот раз немного виновато: – Говори что хочешь, но в машине я ее больше не оставлю.
ЗАЛ 8
Кровь в Киеве
Ах ты Господи, а в мире-то весна, оказывается!..
Солнце бьет отовсюду, будто грянул оркестр, который только и ждал моего появления из архива СБУ, чтобы врезать на улице туш, – из всех щелей, из просветов между домами, из луж на асфальте слепит влажное, с легкой примесью синьки сияние, а асфальт блестит вдоль Золотоворотской, как спина свежевыкупанного тюленя: за то время, что длилась моя аудиенция у Павла Ивановича Бухалова, в мире прошел дождь!.. С мокрых стволов, как с тел счастливых любовников, стекает пот, из водостока клокочет настоящий ручей, у прохожих – в последнее время все больше подавленно-хмурых, словно по мере приближения к выборам на город надвигается циклон спертого воздуха, – сейчас физиономии сделались глуповато-радостными, как у тех чернокожих миссионеров, которые выкрикивают во дворах на русском языке с американским акцентом новость про Христа, не подозревая, что опоздали к нам с нею столетий так на двенадцать, и молоденькая травка сверкает на газоне так живительно, что хочется стать кроликом и поскакать пастись, и почки сразу превратились в уже видимую пестроту, в тот прозрачный золотистый дымок, который окутывает деревья таким нежным свечением, будто пух на головке младенца… Есть, есть все-таки в жизни светлые стороны – например Киев в апреле после грозы! И как это мне внутри не было слышно, когда она разразилась? И неслабая, видно, была гроза, раз вокруг луж до сих пор пена белеет… Ничегошеньки не было слышно – полная звукоизоляция, как в темнице.
А там и правда темница, в этом их архиве. Искусственное освещение, вечный сумрак. Как из бомбоубежища вышла на волю.
Два типа, явно из этого же здания, перекуривающие на тротуаре, дружно провожают меня взглядами. А может, и не из этого, тут же еще банк какой-то рядом. А у банковских работников такие же глаза, как у работников спецслужб. И манера держаться такая же: фальшивая приветливость и холодная затаенность. Все, кто встречался нам, пока Павел Иванович провожал меня до выхода, смотрели именно так, а шли мы по коридору, по ступенькам, снова по коридору, снова по ступенькам, аж до самого турникета. Отдайте, пожалуйста, пропуск. Ну да, а то я еще, чего доброго, зажилила бы его себе, и что тогда?.. Подпись сотрудницы бюро пропусков СБУ стала бы достоянием иностранных разведок?
Есть вещи, которые не меняются. Меняются названия государств, памятники, языки, деньги, униформа, военные команды, даже способы воевать… А вот спецслужбы не меняются, они всегда одинаковые. Всегда и везде, во всех странах. Из числа полицаев, осужденных в СССР после войны, каждый шестой до войны был сотрудником НКВД. Если бы, каким-то чудом, в СССР тогда вошла не немецкая, а американская армия, они точно так же пошли бы на службу американской демократии – и американская демократия их бы так же радостно приняла. Потому что есть вещи, которые не меняются.
Так, а теперь можно, наконец, и самой закурить. Вдохнуть, что называется, жизнь полной грудью. Перевести дух.
Никакого диктофона, попросил Павел Иванович, никаких записей. И не ссылаться на него, ни в коем случае. Так его учили, еще в школе КГБ, а спецслужбы не меняются. И неважно, что смысла в таком запрете нет ни малейшего, – разве что создать мне дополнительные трудности. Теперь нужно где-нибудь сесть – здесь за углом на Рейтарской есть одна уютная кафешка – и записать, пока не забыла, самое главное из того, что он мне любезно сообщил. Хотя штука в том, что как раз самое главное – то, что меня больше всего жжет и в чем я надеялась на его помощь, Павел Иванович мне сообщить не может, потому что он и сам не знает, что охраняет. И никто из них, работающих в этом здании, не знает – и, похоже, никогда уже не узнает.
Никто никогда не узнает, что именно было вывезено из украинских архивов в Москву в 1990-м, а что сожжено уже после провозглашения независимости – в те осенние дни 1991-го, когда мы, молодые-глупые, радостно маршировали по Владимирской перед уже-не-страшной темно-серой громадиной и скандировали: «Позор!» А внутри, во дворе люди тем временем занимались делом: жгли «вещдоки», зачищали следы. Весь сентябрь и октябрь, сказал Павел Иванович. Мой любезный Павел Иванович. Старый друг семьи. Он же, голубчик, и жег.
Какой это скалозуб когда-то ляпнул, что «рукописи не горят»? А остальные подхватили и до сих пор трещат наперебой – словно специально для того, чтоб прикрыть работу бригад поджигателей…
Ноги сами несут меня в сторону Софии. Что ж, пройдусь, сделаю крюк – как раз на одну сигарету, а потом вернусь на Рейтарскую по Стрелецкой, с другой стороны. Заодно посмотрю, не зацвела ли сирень возле Палат Митрополита…
Нет, что архивы уничтожались – это я знала давно, еще от Артема. Но я не представляла себе масштабов. И потому все эти годы, аж до сегодня, во мне жила – ах, жила, жила, куда же без нее! – успокаивающая твердая вера в то, что где-то в кованых сейфах на Владимирской сохраняется первоисточник тех четырех пухлых папок с тесемками, которые лежат у мамы на антресолях, – как секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа… И когда-нибудь все это еще «выплывет», как говорит мой Павел Иванович, все станет явным – буря в правительственных кабинетах, воровской «ремонт» только что открытого Дворца «Украина», самоубийство главного архитектора и, посреди всего этого – судьба одного рядового бойца убитого проекта: инженера А. Гощинского.
Я действительно в это верила – что все оно «где-то там есть», лежит в безопасности, запечатанное, и ждет только добровольца, чтобы однажды пришел и раскопал. Все равно когда, пусть и через двадцать лет. Или тридцать, или пятьдесят. Я знала, что сама таким добровольцем стать не смогу – мне было бы слишком больно все это читать. Слишком тяжело переворачивать заново еще раз истоки своей жизни – как лопатой мокрую глину… Не хочу, нет. Видно, для таких раскопок нужна историческая передышка, тот же перекур – перевести дух, сделать крюк длиной в одно поколение. Детям этого не дано, а вот для внуков – как раз два поколения – именно такая дистанция: систола-диастола, ритмичное дыхание, пульс прогресса… Чтобы продолжать жить, достаточно знать, что все оно в принципе «где-то есть», лежит-дожидается своей очереди. Так нас учили, вся европейская культура на том стоит – на твердой вере, что нет таких тайн, которые рано или поздно не стали бы явными. Кто это сказал, Христос? Нет, кажется, Паскаль… Наивный. Но эта вера лелеялась веками, обрастала своей мифологией: Ивиковы журавли, рукописи не горят. Онтологическая вера в принципиальную познаваемость всех человеческих деяний. В то, что, как учат теперь на журфаке, «все можно найти в интернете».
Так, будто и не было на свете сожженной Александрийской библиотеки. Или дела Погружальского – когда сгорел весь исторический отдел Публички, свыше шестисот тысяч единиц хранения, с архивом Центральной Рады включительно. Это было летом 1964-го, мама была уже беременна мною и почти месяц, по дороге на работу в Лавру, не доезжая университета, выходила из троллейбуса и пересаживалась на метро: от зависшего на поверхности смрада гари у нее начиналась рвота. Артем говорил, там были и старопечатные книги, и летописи – все наше Средневековье ушло с дымом, почти вся домосковская эпоха. Поджигателя громко судили, а потом отправили на работу в Государственный архив Молдавии: война продолжалась. А мы себя утешали тем, что «рукописи не горят».
Горят, и еще как горят. И восстановлению не подлежат.
Вся наша культура покоится на ложных основаниях. Вся история, которой нас учат, состоит из рева – все более оглушительного и уже с трудом различимого – перекрикивающих друг друга голосов: Я есть! Есть! Есть!.. Я – такой-то, сделал то-то, – и так до бесконечности… Но все эти голоса в действительности звучат на фоне выгоревших пустот – на фоне молчания тех, кого лишили возможности крикнуть «Я есть!»: заткнули рот, перерезали горло, сожгли рукопись… Мы не умеем слышать их молчание, живем так, словно их просто не было. А они были. И наши жизни слеплены и из их молчания тоже.
Прощай, папа. Прости, папа.
Кучка пьянчужек с пивом у киоска, запаркованные прямо на тротуаре иномарки… Поворачиваю в Георгиевский переулок, где ворота Заборовского, – там всегда безлюдно.
Осенью 1991-го они жгли свежак – недавние дела, сказал Павел Иванович, 1970–80-х годов. Так что по этому периоду немногое сохранилось. Он словно предупредил мой невысказанный вопрос – хотя я пришла к нему совсем не с ним и сама бы и не решилась раскрыть на эту тему рот: все-таки к Павлу Ивановичу меня привела не моя, а Адина родня. И про фильм я ему объяснила и предложила быть моим консультантом. Благодарность в титрах, все дела. Вознаграждение скромное, зато оплата почасовая – прямо тебе как в Голливуде, ага. Я уже зарегистрировала частное предприятие «VMOD-фильм» (В-М-О-Д – это Влада-Матусевич-Олена-Довган, но это никому не нужно знать) – и разослала в десяток фондов запросы на финансовую поддержку: все бумаги я принесла с собой и готова была ему показать. Собираю рабочую группу, ага. С него и начала (этого ему тоже знать необязательно). И все напрасно: Адин запрос никаких результатов не дал, сказал Павел Иванович. Нет, ничего у них нет в их архиве. Одни чистые руки остались. Ну и горячие сердца, соответственно, – привет от товарища Дзержинского.
Даже полного реестра единиц хранения нет. И как же его теперь составить – с учетом того, что «черная» торговля архивными документами была в 90-е для эсбэушников чуть ли не главным бизнесом? Вынести можно было практически что угодно. И до сих пор это нетрудно, скромно уточнил Павел Иванович. Ну да, я в курсе (сама кое-что из наших архивов выносила, и почему бы в эсбэушном было иначе?). И, разумеется, нашлись заинтересованные в том, чтобы получить на руки некоторые документы. Ну да, понятно. И готовы были платить. Ага, понятно, чего уж. Я только кивала с умным видом. Моя многолетняя вера в то, что когда-нибудь все станет явным и правда Толи Гощинского не исчезнет из памяти людей вместе со мной, разваливалась под его словами беззвучно, как нью-йоркские Башни на телеэкране с выключенным звуком. Нет, ничего нет. Можно будет успокоить Адьку: никакой люстрации в этой стране не будет – нечего уже люстрировать. Зато новое помещение построили, молодцы. Прекрасное помещение, с хай-течными хранилищами, где есть и кондиционеры, и регуляторы влажности воздуха, и всякие такие примочки. Для архивов, которых, по сути, нет. Для черного ящика, в котором осталось неизвестно что. Невыметенные ошметки, мешки от арестов 1930-х, так за семьдесят лет и не развязанные. Семьдесят лет просидели на мешках с краденым, молодцы. Что ж, теперь, когда живых свидетелей не осталось, можно и развязывать – понемногу, никуда уже не торопясь. Всем им, кто работает в этом здании, до пенсии будет чем заняться, и тем, кто придет после них, – тоже. Как же они, бедненькие, должны были метаться тогда, осенью 1991-го, чтобы выбрать в том бедламе, что именно следовало скоренько сжечь!
Десятое управление, сказал Павел Иванович. Архивная служба, отборные, проверенные кадры. Так что, он тоже был отборный, проверенный кадр? И до сих пор этим гордится? А мы-то с Адькой думали, что назначение на работу в архив для кэгэбэшника – это было как для дипломата высылка в Монголию!..
Я была сама искренность и отзывчивость. Кивала, как заводной зайчик, подхихикивала, как клакерша в «Комеди Клаб». И все напрасно: нет такого дела, заверил Павел Иванович, не нашли. Искали, он дает мне слово офицера (видно, слово офицера спецслужб в его представлении все еще ценнее слова журналистки или предпринимателя!) – искали, но не нашли. Ни среди оперативно-розыскных, ни среди уголовных дел Довган Олена Амброзиевна, 1920 года рождения, не обнаружена. Ему очень жаль. Возможно, ему и правда жаль, и не только потому, что теряет возможность покрасоваться в консультантах фильма, ну и «копейку» подзаработать тоже. Но ему и от души хотелось сделать мне приятное: ведь я небось одно из немногих его благих деяний за всю жизнь, за всю его отборно-проверенную службу. Его «луковка», как у Достоевского. Хотя вряд ли он думал именно так – скорее всего, ему просто приятно было, глядя на меня-красотку, живьем ссаженную с телеэкрана к нему в кабинет, вспоминать молодую, и тоже красотку, Олю Гощинскую, которую он когда-то спас от «черных списков», когда это ему ничего не стоило. Приятно чувствовать себя порядочным человеком – то есть, в переводе на язык совковых реалий, тем, кто, призванный делать подлость, не проявлял при этом инициативы.
Так что я ему верю, Павлу Ивановичу. Верю его «слову офицера»: действительно искали и действительно – не нашли. Но не нужно терять надежду, сказал Павел Иванович, не исключено, что когда-нибудь то дело где-то еще выплывет. Я так и не поняла, что он имел в виду – какую-то очередную перестройку в России, после которой снова-отреформированное ФСБ снова ненадолго откроет архивы, – или что это дело может лежать дома у какого-то их сенильного ветерана и после его смерти выплывет на черном рынке? Или и на антикварном, а что – попались же когда-то Аде обнаруженные в старом секретере польские любовные письма, писанные еще перед Первой мировой. Рукописи не горят, это же всем известно. Отличный слоган для профсоюза поджигателей.
И что это значит, спросила я. Уголовные дела заводились на арестованных, объяснил Павел Иванович. Ваша, э-э, родственница была арестована? Нет, она погибла в подполье. Во время боя с отрядом – я чуть было не ляпнула «ваших», – с отрядом войск эмгэбэ. Вот видите, удовлетворенно сказал Павел Иванович, чего же вы хотите. Сраженная его логикой (есть логика формальная, есть женская, а есть спецслужбовская – мутить и флудить, пока у оппонента крыша не поедет), я не сразу смогла отреагировать. А то, что вы раньше сказали, – оперативно-что-то-там, это что такое? Оперативно-розыскное дело, объяснил мне Павел Иванович, как блондинке в анекдоте, заводится на объект оперативного розыска. И что, такого тоже нет, спросила я, действительно уже как блондинка. Нет, развел руками Павел Иванович. Престарелый красавец Павел Иванович, с глазами арабского скакуна. Или арабского террориста.
Видите ли, продолжала я теребить его, как мертвый член, у меня все-таки не укладывается в голове, как это из архивов госбезопасности мог бесследно исчезнуть человек, из-за которого была арестована и выслана целая семья? Ведь родственникам после ссылки в МГБ даже выдали справку о ее смерти, с датой – 6 ноября 1947 года. Значит, когда Олена Довган погибла, МГБ должно было как минимум провести опознание тела и соответственно это задокументировать, разве нет? Значит, какое-то дело все же должны были на нее завести, нет? Да, нестыковка, согласился Павел Иванович. Это когда, говорите вы, было? Ах, в пятьдесят четвертом – ну тогда много таких нестыковок случалось. Много дров наломали… И тут и рассказал мне, попросив на него не ссылаться, как уничтожались архивы, несколькими плановыми волнами, в последний раз – осенью 1991-го. А впервые – как раз в 1954-м, после смерти Сталина: тогда тоже всполошились и бросились сжигать «вещдоки». И эпидемия самоубийств среди высшего руководства тоже тогда прокатилась – как и в 1991-м. У Павла Ивановича все это звучало как отчет о природных катаклизмах.
Так вы хотите сказать, спросила я, что дело Олены Довган тоже могло быть уничтожено в пятьдесят четвертом – уже после того, как из него выписали и выдали родственникам справку о смерти? Все может быть, согласился Павел Иванович. Тогда объясните мне это, сказала я, вынула из сумочки и положила перед ним на стол фото – как на приеме у экстрасенса. Или у знахарки.
Это она? Она. Хм, сказал Павел Иванович, профессиональным глазом рассматривая четырех мужчин и женщину в форме УПА, хорошее фото. Это он оценивал не эстетические качества снимка, не ракурс или композицию, а его пригодность для оперативной работы – для опознания пятерых выстроившихся в ряд объектов розыска, сфотографированных тогда, когда самого Павла Ивановича еще не было на свете. (Или, может, уже был? Ему же где-то так и есть, под шестьдесят, и мама тоже говорила, что он после войны родился…)
Откуда у вас это фото? Это звучало уже как допрос. Из архива, честно сказала я, только не из вашего – из фондов одного академического института. Вот как оно могло там оказаться, откуда, как вы говорите, могло выплыть? Хорошее фото, повторил Павел Иванович и положил снимок на стол. Ага, сказала я, уже немного раздраженная этим некстати демонстрируемым гэбэшным профессионализмом, который заключается, кроме всего прочего, и в способности уклоняться от неудобных вопросов, – и ткнула пальцем в Того, который любил Гелю: вот этот, слева, даже на вас похож, смотрите, ей-богу, похож! Правда, здесь тень неудачно легла на лицо, но, ей-богу, что-то есть…
Павел Иванович как-то странно, быстро взглянул на меня. Как кондор, не поднимая век: глаза как два агатовых перстня. И, удивительное дело, – я это брякнула, особенно не задумываясь: ну похож и похож, мало ли на свете похожих людей, я даже слышала где-то теорию, будто у каждого из нас должен быть на планете хотя бы один живой двойник, гримасы генной комбинаторики, – но под этим его неподвижным взглядом кондора, или нет, змеи (глаза восточной красавицы, прямо тебе Шахерезада, блин!), что-то во мне включилось и загудело в сознании: где-то я его видел, сказал Адя, когда впервые пришел к Павлу Ивановичу в архив, а я тогда смеялась и цитировала из «Пропавшей грамоты» голосом Ивана Миколайчука: «слушай, кого ты мне, казак, напоминаешь?»… Наверное, такая яркая внешность сама по себе провоцирует в людях всякие странные дежавю, вот ведь и мама говорила – Омар Шариф, или как там того актера времен ее молодости звали, а я бы сказала – Кларк Гейбл из «Унесенных ветром», которого во времена маминой молодости советскому народу не показывали, только Кларк Гейбл, переделанный на восточный лад, словно бы отредактированный исламским цензором для съемок на фоне пальм и минаретов… А может, это вообще такой особенный тип – Человек, Которого Каждый Где-То Видел, и такие тоже нужны в спецслужбах, чтобы лучше морочить людям голову? В любом случае, я не издевалась над Павлом Ивановичем, как ему, возможно, показалось, а сказала вполне очевидную вещь, которая должна была бы ему польстить: лицом он и правда немного похож на того красавца с печальными глазами – на мужчину из моего сна, на того, в ком Адя подозревает своего тайного тезку, что прошел сквозь судьбы Адиной семьи, как каскадер в фильме, так и не расшифровавшись (какой-то «Ад. Ор.», говорит Адька, хоть я сразу возразила, что «Ор.» – это же, наверное, «Орест», и уже потом засомневалась, не навеяно ли мне и это кинематографом – «Белой птицей с черной отметиной», где молодой Ступка впервые в советском фильме сыграл не карикатурного бандеровца, и как раз Ореста…). Но Павел Иванович, похоже, совсем не был польщен таким сравнением, потому что достаточно сухо сказал мне, что его отец как раз в те годы служил в тех краях – и как раз в отделе «по борьбе с бандитизмом», вот так. Я только рот разинула. И даже был тяжело ранен в бою: чудом выжил. Вон как, сказала я, не зная, что тут еще сказать. На всю жизнь остался инвалидом, пожаловался Павел Иванович. Я и себе скорчила скорбную гримасу, с чувством, что теперь это уже он надо мной издевается, – ведь это моего отца сделали инвалидом, и не без помощи того самого ведомства, в котором так отличилась династия Бухаловых. И если уж про борьбу с бандитизмом, то это мой отец ушел на нее с голыми руками и не вернулся – с тем бандитизмом без кавычек, что захватил полмира: властным, державным, господствующим! – а Павел Иванович будто складывал судьбы наших отцов в одну папочку и предлагал мне дружить семьями: две сироты инвалидов, здравствуй, Маугли, мы одной крови, ты и я… Я спросила, жив ли еще Бухалов-старший. Нет, умер в восемьдесят первом. И снова мне показалось, что Павел Иванович ждал, будто я отзовусь: а мой в восемьдесят втором! Словно нарочно вызывал меня на тему отца, которую сам не решался задевать, на какую-то игру с непонятными правилами, вроде перестукивания на Пасху крашеными яйцами, на пробу, чей отец крепче… Но я промолчала. Моя подорванная вера в онтологическую неуничтожимость каждой правды торчала из меня во все стороны обгоревшими металлоконструкциями, и место разрухи было огорожено желтой полицейской лентой: Ground Zero, вход запрещен. А потом мне его почему-то стало жалко – моего самозваного Маугли, Павла Ивановича Бухалова. Инвалидского сироту.
Бросаю окурок в лужу, крайне возмутив стайку воробьев (такие комочки, а сколько шума!). А вот и ворота Заборовского, к которым не водят туристов, третье столетие замурованы наглухо – с буйно-кудрявым барочным фризом и колоннадой, утопленной в стене… По ту сторону переулка онкологическая клиника, у больных отличный вид из окон для размышлений о вечном: замурованные ворота, No Exit. Оставь надежду.
Жаль все-таки, что Адя сейчас на переговорах.
Может, маме позвонить? Нет, маме придется долго рассказывать, да и не уличный это разговор… Привет ей Павел Иванович и на этот раз передать не забыл, даже спросил, работает ли она еще там же в Лавре, в музее кино? Нет, она уже на пенсии. Неужели, удивился Павел Иванович, – наверное, ему запомнилось, что мама должна быть моложе. По виду запомнилось, а не по году рождения, непротокольно. Наверное, она действительно ему нравилась. Повезло ей. И мне, соответственно, тоже.








