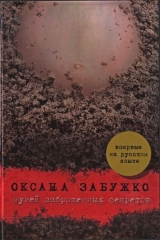
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 44 страниц)
Что-то еще хотел спросить – не может же быть, чтоб человек ничего больше не заметил! – но взял себя в руки: из глубины двора донесся шум – кто-то вышел из дома и шел через двор. Молодой, танцующей походкой. Походкой человека, который еще никого не родил. Чье тело еще верит в собственное бессмертие.
– О-оля!.. – нараспев, будто нож шелковую ткань, разрезал сверху тишину женский голос.
– Задержитесь, – шепнул Адриан. – Спросите дорогу, будто заблудились. И, упаси боже, не идите за мной – нельзя, чтобы вас со мной видели.
«Пусть вас Бог благословит», – добавил он еще – или только хотел добавить. Но ответа уже не услышал.
Ему предстояло восемнадцать километров пути, где каждый встречный мог его узнать. Охотники шли по снегу, откормленные псари в новых тулупах и тугих кожаных портупеях разглядывали поле в бинокли, – а собаки уже рвались с поводков, захлебывались лаем, словно стремясь извергнуть из себя легкие, и свирепо рыли землю задними лапами, выбрасывая в небо фонтаны черной грязи… Зверь не подвел, зверь угадал, только лишь высунув до рассвета нос из крыивки: теплый ветер с юга нес с собой запах облавы – и это была облава на него.
Ты видишь?
Вижу.
Он идет.
Да.
Не бойся.
Я не боюсь.
Это только сон. Это нам с тобой снится один и тот же сон.
Разве так бывает? Чтоб двоим людям снился один и тот же сон?
Бывает. У моих дедушки с бабушкой так было однажды в Караганде. Это на самом деле очень просто – ты снишься мне, а я тебе.
И правда, просто. Даже странно, как во сне все просто – кажется, будто иначе и быть не может…
Потому что во сне все так, как есть на самом деле. А днем – только так, как нам кажется.
Значит, я на самом деле тебя люблю. Сейчас, во сне, это так ясно, что не нужны никакие доказательства. Я не вижу тебя в этих ночных декорациях, ты где-то в стороне, сбоку, как часть меня, – я только чувствую, что рядом со мной есть чья-то другая жизнь, и я ее люблю. И я знаю, что это ты. Ведь это ты?.. Ты?.. Это ты? АДРИАН?..

Адриан?.. Ох… куда ты убежал? Зачем зажег лампу?
Спи, спи… Я только запишу, а то забуду…
Что запишешь?.. Уфф… Одеяло сбилось… Который час?
Не знаю. Четвертый.
Ты чувствовал, как я тебя любила? Во сне? А ты взял и проснулся. Там еще что-то было. Дай подумать.
Иди ко мне, будем думать вместе.
А, черт!..
Что такое?
Колено… Задел… Будто зашиблено, что ли? Только обо что я мог его ударить? С вечера все было о’кей…
Может, об тумбочку? Мечешься всю ночь, вскакиваешь… Дайка я гляну.
Странно. Очень странно…
Нет, синяка не видно. Когда так нажимаю – больно?
Да вроде нет…
А здесь?
Оно будто внутри болит, глухо так. Очень, очень странно…
Ну, ложись уже… Напугал меня, и снова весь мой сон убежал. Только и запомнила, что почему-то очень тебя любила. И почему бы это?
Вот и хорошо. Люби меня. Все время люби.
А я что делаю?
Вот повезло мне.
Нам обоим повезло.
Да. Безумно.
Ох… Адюшка… Адичка, родной, чудо мое… Нет, не останавливайся… О Боже… Ах, ты ж… ты… ты… ты..

Любимый мой… любимый…
Дай слезки вытру… Положи голову мне на плечо. Вот так…
Это лучше, чем было во сне.
Это продолжение.
А так и есть… Потому что я каждый раз с тобой что-нибудь вижу. Каждый раз какие-то новые картинки – как в кино…
Моя ты картинка. Самая лучшая картинка на свете.
Только мне жаль, что ты не видишь… Что я тебе не могу показать. Такое бы было видео…
И что же было на этот раз?
Вспышка. Просто вспышка, только очень яркая. Такая, будто прожектором в глаза, как после темного подвала… И – взрыв… Такая смесь восторга и ужаса, как вылет из тела. Вот интересно, это и в смерти тоже так?..
Ты так застонала, я аж испугался.
Это и правда было похоже на смерть.
Знаешь, я только что благодаря тебе понял одну штуку.
Снова про какие-нибудь твои множества?
Нет, про тот сон… Я понял, почему там нет страха смерти. Ни в одном из этих снов. Хотя, в принципе, все они про смерть. Странно, правда?
Дурачок ты мой…
Что ты, малыш? Почему ты опять плачешь?..
Потому что я тебя люблю. Так люблю, что не знаю, что с этим делать…
Чшш… Не плачь. Хочешь, я возьму тебя на руки и покачаю?
Ой, Господи…
Ну вот, лучше уж смейся.
Рассказывай, рассказывай дальше. Что там со страхом смерти?
А ничего, в том-то и дело. Нет его там. Я думаю, он вообще не боялся умереть, тот человек. Думаю, он постоянно был к этому готов. И потому все картинки в его голове были такими… предельно резкими, физически ощутимыми… Это так же, как в экстазе, понимаешь? Когда ты сказала про вылет из тела, я сразу об этом подумал.
О Боже. Не может быть.
Что такое?
Нет, ничего… Так, догадка. Я, кажется, догадываюсь, кто это мог быть.
Что, правда?
Приблизительно… Ты же его в лицо не узнал бы? Скажем, на фото?
Не больше, чем себя самого без зеркала.
Ну так нечего и думать…
Про что?
Про ту вспышку. Ничего, пустое. Забудь. Как твое колено?
Затихло. Молчит. Ты меня вылечила.
Адя?
Ммм?..
Как ты думаешь, это правда мы? Или мы себе только снимся?
Не знаю, Лялюша…
У меня иногда такое чувство… Только ты не смейся, хорошо?..
Не буду.
Такое чувство, будто нам досталась чья-то чужая любовь. Чья-то, когда-то несбывшаяся – знаешь, как в грамматике, – несовершенный вид…
Ну, значит, так должно было случиться.
Нет, ты послушай… Однажды, когда я была еще совсем маленькая, мы тогда на Татарке жили, – из нашего двора уезжала одна девочка. Дом уже был предназначен на снос, вскоре потом и нас выселили, – а эта семья была первой, весь двор им помогал переезжать. Перед подъездом стоял грузовик, из квартиры выносили мебель – те самые кресла, по которым мы прыгали, когда приходили к этой девочке в гости, как сейчас вижу их там, в гостиной… На улице, под открытым небом, они выглядели как вырванные изо рта зубы. Мне дали подержать абажур, который висел у них над столом, – знаешь, такой, на проволочках, оранжевый с кисточками…
Знаю: пятидесятые годы.
Ну да, у них все было старое… Снятый со своего места, он тоже перестал быть абажуром – если б надеть его через голову, была бы юбка принцессы… И вот тогда, понимаешь, меня больше всего мучила одна вещь… Накануне мы с этой девочкой вместе делали «секрет». Предмет нашей совместной гордости. И я все время думала – вот она уезжает, и что же теперь будет с нашим «секретом»?.. Понимаешь, она про него забыла. Ей было уже не до него. Может, если бы мы вдвоем улучили минутку, убежали от взрослых, раскопали бы тот «секрет» и поклялись над ним в вечной дружбе, все было бы иначе. Тянуло бы на мелодраму. Или, если б она тот «секрет» кому-нибудь «завещала», позволила бы после своего отъезда еще кому-нибудь показать, какой-нибудь другой девочке… Но ничего такого не случилось – было ясно, что наш «секрет» умер. Умер, потому что она про него забыла. С ним случилось то же, что и с креслами, и с абажуром: он потерял свой прямой смысл. Хоть и оставался там, где и вчера, никем не тронутый, он больше не был «секретом»– был уже просто кучкой закопанного мусора. Ты слушаешь?..
Ага…
И я помню, какая недетская печаль меня тогда охватила… Ребенок – он же чувствует так, как и взрослые, только объяснить не может. Словно мне открылись разом все «секреты», которые мы сделали, а потом забросили и никогда больше к ним не наведывались, – как они все так и лежат там, в земле. Все наши запечатанные дружбы, слезы, клятвы… Наши маленькие жизни, накрытые стеклышками – как экспонаты у мамы в музее. Такой огромный музей заброшенных «секретов». А люди по нему ходят – и даже не догадываются, что он там, у них под ногами…
Музей заброшенных секретов – хорошо. Мне нравится.
Я, кажется, как-то бестолково рассказала…
Нет, я понял. Ты хочешь сказать, что мы с тобой вместе потому, что случайно откопали чью-то чужую любовь. Как тот брошенный «секрет».
Ну… Примерно так.
А ты не думаешь, что, может, его владельцы нам его тоже «завещали»?..
Я тебе скажу, что я думаю. Я думаю, что тот человек любил Гелю. А она что-то сделала не так. Совершила какую-то ужасную ошибку, из-за которой все пошло наперекосяк. И до сих пор не наладится.
Ну, это уже твои фантазии…
Это просто чутье. Нормальное бабское чутье, поверь моему слову. Как раз мы, красавицы и умницы, умудряемся таких в жизни дров наломать, что никакой дурынде не приснится. Правда, правда… Знаешь, почему? Потому что у нас рисков больше. Больше, чем у серых мышек, соблазнов представить, будто ты хозяйка над чьей-то судьбой.
Никогда не любил серых мышек…
Ага, в этом-то и беда! Всем вам подавай красавиц и умниц. А нам, думаешь, от этого легче на свете жить?
Ой, ты ж моя бедняжечка…
Правильно, пожалей меня, пожалей… Я-то хотя бы жива – пока что.
И очень, очень теплая… Ах, черт!
Что такое?
Колено! Вспомнил! Я вспомнил, Лялюшка!.. Я крался вдоль плетня где-то на окраине города, а в городе меня поджидала измена. Я должен был убить предателя, Лялюша! Я для этого и шел, меня для этого вызвали! Но я даже имени его не узнал, ничего!..
Это во сне было?..
И я ударился коленом о тот плетень!..
Шутишь?
Какие шутки, девушка! Я из-за этой боли и вспомнил… И ты, кстати, тоже там была – говорила со мной.
Я? И что же я говорила?
Стоп, а может-то, и не ты была… Может, бабушка Лина… Во всяком случае, голос был женский, это точно. Какая-то очень близкая мне женщина, дорогая… Неужели мама? Вот блин, не могу вспомнить… Только мокрая земля все время почему-то перед глазами стоит…
И ты не помнишь, что она говорила, та женщина?..
Подожди, я же записал, сразу как проснулся! Где-то здесь на столике должно быть… Вот, нашел! Есть. На сигаретах.
Покажи. Ого, ну и накалякал…
Так в темноте же писал! «Не понадобится»… М-да…
Что это значит?
А я откуда знаю? Вылетело все на фиг… Вот уж действительно «не понадобится», как нарочно на смех фразочка… Какая-то кровь в Киеве… Тоже не помню… Женщины… При чем здесь женщины?
Дай я гляну.
Какие-то, блин, пророчества дельфийского оракула – слова на месте, а смысла никакого!.. Как ты говорила про тот «секрет» – кучка закопанного мусора…
«Женщины не перестанут рожать».
Как-как?
Так здесь написано. «Женщины не перестанут рожать».
Тю. Тоже мне, e = mc2.
А знаешь, не так уж это и глупо, как может показаться…
Да при чем тут… Ты пойми, этот сон был предупреждением – и предупреждение почему-то осталось неуслышанным! Кто был тот предатель, которого я должен был убить? Из-за него же кто-то должен был погибнуть – раз тот сон и до сих пор меня по колену лупит!..
Слушай. Пора это прекратить. Мы оба сходим с ума. Это, как у Макбета с ведьмами – тот тоже старался расшифровать вещее послание, и чем все кончилось? Мы все равно так ничего и не узнаем. Никогда ничего не узнаем. Всё, милый, баста. С меня хватит. Туши свет, скоро светать начнет…

Лялюшка?
Ммм?..
Ты спишь?
Я спу.
Ну хорошо. Спокойной ночи…

То, что случилось, не укладывалось ни у кого в голове.
Стодоля исчез.
Как это исчез?! А вот так – вышел еще до рассвета, вскоре после ухода Адриана, из крыивки в село за продуктами – и исчез. До сих пор не вернулся.
Как ни старался Адриан отводить взгляд, его везде встречали Гелины глаза – страшные, расширенные почти сплошной чернотой зрачков, с кровавыми уголками. Такие глаза были у зайца, которого он когда-то подстрелил, – пока их не затянуло мутной пленкой, и потом они остекленели, помертвели. Эти Гелины глаза его раздражали, требовали от него какого-то дополнительного усилия, а мысли и без того разбегались во все стороны, как мыши в риге. Геля ему мешала; лучше бы ее здесь не было.
Все это тем более не укладывалось в голове, что продукты у них еще были – правда, уже на исходе, и одни только крупы, а их сырыми не особо погрызешь, но ведь Геля и в этих «переходных» условиях умудрилась сварить мамалыгу, еще день-два могли бы пересидеть! И немного травяного чая от цинги еще оставалось, правда, без сахара… Он бы сейчас с удовольствием выпил этого чая, пусть без сахара, только бы горячий, но ничего не поделаешь – пришлось довольствоваться с дороги остывшей мамалыгой, и теперь в отяжелевшем желудке урчало, будто там двигали мебельный гарнитур; это его тоже раздражало. Да, черт возьми, хоть бы и впроголодь пришлось немного посидеть, что тут такого?.. Есть – не срать, можно подождать (как подбадривали они себя, когда Геля не слышала!): сколько раз, бывало, в лесу живот прилипал к спине, кору с листьями жевали, лишь бы запекшийся, как сухая сковородка, рот наполнился слюной, а обманутое тело загудело сладким дурманящим теплом, – в новинку ли повстанцу терпеть голод!.. И что могло заставить Стодолю сломя голову помчаться за продуктами, не дождавшись даже возвращения Адриана?..
Не то, не то, что-то здесь было не то – и он это чувствовал, и хлопцы чувствовали, и эта невысказанная мука вместе с тревогой саднила в душах, как свербеж, когда у огня костра выводят вшей, и те начинают вылезать из-под кожи, – и легче вытерпеть честную, как хирургический нож, обжигающую боль в руках, растопыренных на лезвии огня, чем этот зуд, пронизывающий до мозга костей…
И кто – Стодоля!.. Тот, кто нещаднее всех заботился о конспирации, кто обладал властью отдавать людей под военно-полевой суд за малейшее нарушение – и кто знает, скольких уже отдал, на его счету были не только жизни врагов… Его девизом было – «Никому не верь, и никто тебя не предаст»: теперь Адриану казалось, что Стодоля каждый раз говорил это слишком нарочито, с глумливо-разухабистым каким-то вызовом, – будто впрямую предупреждал, чтоб ему не верили, и забавлялся тем, что никто не отважится его так же прямо спросить: так и вам, друг, нельзя верить?.. Давний парадокс, из гимназического курса логики: критянин сказал, что все критяне лжецы; правду ли он сказал? Парадокс, не имеющий решения, – согласно теореме Гёделя, в каждой аксиоматической системе есть утверждение, которое в рамках этой системы доказать невозможно. Но когда в рамках системы находишься ты сам, то от такого знания зашатавшийся мир начинает плыть, все вещи сдвигаются с мест, как в страшном сне, где переходишь замерзшую реку, и внезапно на середине лед начинает раскалываться под ногами, открывая черную бездну: если в каждом подозревать предателя, в товарище, который вынес тебя на себе из-под пуль (да так ли это было на самом деле? Не был ли это всего лишь хитрый трюк, специально подстроенный, как те энкавэдэшные засады-«бочки» с инсценированной стрельбой, чтоб обманутая жертва поверила, будто ее «отбили свои», и рассказала предполагаемым «своим» все, чего из нее не вырвали под пытками в тюрьме, – откуда можешь знать, как это было на самом деле, ведь, кроме Стодоли, других свидетелей того фатального майского перехода не осталось, а сам ты тогда был без сознания?..), – если никому не верить и во всем усматривать коварство врагов, то как тогда жить, и как – не сойти с ума?
А может, Стодоля как раз и сошел с ума? Нервы не выдержали, помутилось у него в голове, – а никто из группы не заметил, не остановил?..
Большевики так сходили с ума, и нередко. И стрелялись, и из окон выбрасывались их начальники. Адриан давно перестал этому удивляться – с тех пор как однажды в бою увидел: за краснопогонниками, что кинулись врассыпную, гнался их майор, небольшой и тщедушный, словно гном в гротескных накрылках погон, и с криком: «Стой… твою мать!» – стрелял убегающим в спины – и нескольких же и уложил, пока Ворон, первым опомнившись от общего оцепенения (такого дива – офицер стреляет в спины своим людям – никто из повстанцев до сих пор не видывал!), – не скосил гнома короткой очередью. Адриан надолго запомнил тогдашний, разом всколыхнувшийся в них всех общий душевный всплеск – сочувствие к живым врагам, – до тех пор ему приходилось жалеть только мертвых, когда те лежали в лесу неубранные, в чужой форме, с остекленевшими, уставившимися в небо глазами (мысленно укорял их: ты зачем ко мне пришел?..), – а тогда подумалось, что все зверства гарнизонников, их непросыхающее черное пьянство, их дикие взрывы иррациональной ярости (где-то до смерти забили шомполами дядьку, приехавшего в лес за дровами, где-то устроили стрельбу по детям, съезжавшим с горки на санках, и одного из ребят убили…) – должно быть проистекали не только из чувства безнаказанности («Нам все можно!» – гаркнул один такой пьяный Ванька, когда крестьяне пришли жаловаться «пану офицеру», что «так нельзя»), а еще из того, что на клокочущей партизанской чужой земле эти люди, превращенные в винтики, – как винтики же и ломались, не выдержав давления: как в страшном сне, у них постоянно раскалывался под ногами лед, а сзади подстерегал какой-нибудь свой майор в погонах, в любую минуту готовый выстрелить в спину. А этому майору, в свою очередь, – какой-то его вышестоящий начальник, а тому – еще выше, и так аж до самого Сталина: все всех боялись и никто никому не верил. Это и была главная формула их власти, которую они несли с собой, как массовое помрачение рассудка, – сделать так, чтобы никто никому не верил. Чтоб никто никого не любил – потому что доверие возможно только между любящими. Именно этого они от нас добивались, в этом должна была состоять их победа.
И теперь его дополнительно злило то, что он чувствовал в себе и в хлопцах этот гнойный вирус – разъедающую отраву молчаливого подозрения. Хоть и гнал от себя мысль о наихудшем, но она была уже в нем, в них во всех – уже впрыснутая в кровь, как та «прививка», которую сделали арестованным в К., – после чего гэбэ нежданно-негаданно отпустило их домой, и в течение месяца все семьдесят привитых скончались от неизвестной болезни. Самое унизительное ощущение для мужчины – будто ты, сам не заметив когда, поддался и, помимо своей воли, ведешь себя так, как этого хочет противник. И все, что давало тебе силы – дружба, братство, любовь, – начинает распадаться изнутри, подтачиваемое сомнением. Ты сам делаешь за врага его работу – сам рубишь лед, на котором стоишь, тюкая топором в ритме ударов сердца…
А может, Стодоля просто не рискнул идти с полными мешками-бесагами назад по лесу, когда развиднелось, и сейчас где-то пересиживает, дожидаясь ночи?..
Да где же, в селе?
А почему бы и нет – станичный мог его спрятать. Еще есть надежда, нужно лишь дождаться ночи. Мало ли что могло случиться.
Адриан понимал, что они тут без него уже обгрызли между собой до сухой косточки все вероятные версии того, что могло случиться, – а его возвращение словно влило в них новые силы, для захода на второй круг. И в самом деле, чего только на войне не случается. При других обстоятельствах, то есть, если бы Стодоля был здесь, он бы рассказал им про милиционера, которого встретил в городе, за три с половиной этажа до условленной двери. «Уходите, там капкан…» А теперь нет, теперь уже не расскажет. Даже если Стодоля, даст Бог, вернется, живой и здоровый, – все равно не расскажет. Только в отчете, проводнику. Не верь никому, и никто тебя не предаст.
Нет, проводник говорил ему когда-то иначе – давно, еще во Львове, при немцах, в то недоброе время, когда наши люди провалились совершенно неожиданно и необъяснимо – когда гестаповцы расстреливали членов ОУН на улицах, узнавая их среди прохожих так безошибочно, словно наши фотокарточки были у них в карманах, пока не разъяснилось, что и правда были, и не только фотографии, – что еще в ноябре 1939-го в Кракове, на совместном совещании гестапо и НКВД Советы передали немцам списки всех политических дел, доставшихся им от поляков, и все, кто вступил в ОУН при Польше, должны были исчезнуть, уйти в подполье: «Запомни, – говорил ему тогда проводник, – даже если я предам, ты не предашь никогда». И он запомнил – по тому, как у него при этих словах мурашки по спине побежали. На всю жизнь запомнил: он – часовой, который не смеет покинуть пост, даже если б остался абсолютно один.
А он ведь был не один.
Лица Ворона и Левко, озабоченные и насупленные в призрачном мерцании керосинки (Геля все же взялась заваривать травяной чай – единственная разумная вещь, к которой можно было прибегнуть, чтобы сохранить видимость ненарушенного порядка), будили в нем сейчас непривычную, болезненную нежность – так, будто эти хлопцы, моложе его на каких-нибудь семь-восемь лет, были его сыновьями. Если бы Бог дал ему сына, он бы хотел одного – чтобы тот вырос таким, как они. Их с малых лет учили, что основа жизни – это труд и молитва, а на самом деле научили отличать добро от зла. А только это и имеет значение, это главное, что отец должен дать своему ребенку, – все остальное уж Божья забота… Адриан чувствовал, что у него мутится в голове и глаза начинают слезиться – возможно, потому, что в крыивке не хватало воздуха. И еще ему мешала Геля – не мог видеть ее кровавых глаз подстреленного зайца, они словно прошивали его насквозь. Словно обвиняли, так прямо и говоря: ты всегда его не любил – ну что, теперь рад?..
Не был он рад. Ей-богу, нет. Хотел лишь одного – знать в конце концов правду. Или туда, или сюда. Или сухая земля под ногами, или с головой в ледяной воде – только чтоб уже наверняка либо одно, либо другое. Только бы не это сомнамбулическое потрескивание льда там, где надлежит быть тверди. Только бы уже наконец пробудиться от семимесячного сна, сквозь который он слепо шел с раскрытыми глазами. Шел потому, что любил эту женщину. Она сейчас смотрела на него почти с ненавистью, а он по-прежнему ее любил.
Нет, стрельбы не было, сказали хлопцы, – если бы была, услышали бы, звук разносится далеко. Стало быть, была надежда, что Стодоля жив.
Но из крыивки нужно было уходить. В чем в чем, но в этом Адриан был уверен. От этой крыивки несло могилой. С самого начала несло.
Поэтому стоило выпить чай – им предстояла ночевка в лесу.
Геля смотрела этими своими страшными почерневшими глазами, будто не понимала. Mater Dolorosa – раздраженно пронеслось у него в голове. Она не любила спать на снегу, когда-то призналась, что это для нее самое неприятное во всем партизанском быте. Наверное, для женщины это действительно неприятно – когда все спят под одной плащ-палаткой, улегшись вместе на один бок, как ложки в ящике, переворачиваются все разом, и мужик спросонок может ухватиться рукой за что-нибудь ему не принадлежащее, – но его, Адриана, сейчас больше волновало, как им для этой ночевки утеплиться: снега, чтобы набросать на плащ-палатку сверху для термоизоляции, выпало явно недостаточно, худо будет, если ночью приморозит. Геля ляжет посредине, они будут ее греть, будут ее беречь, чтобы она не простудилась. А если Стодолю все же захватили облавщики? Вода все не хотела закипать. Давайте я на нее подую, предложил Левко, и Ворон с готовностью гоготнул, поддержав шутку, – они показывали сами себе, что способны еще шутить. Или и в самом деле их юная энергия, как у молодых зверят, брала верх; что ж, неплохо. Неплохо. Еще повоюем, хлопцы, еще, как тот капитан говорил, дадим им жару… Смотрел на безжизненный котелок: ну закипай же, закипай! – а перед затуманенным взором стояло другое схожее видение: в продолговатом металлическом ящичке над пламенем колыхалась вода, и со дна на поверхность поднимались, все чаще и чаще, сияющие искорки пузырьков, обкипая вдоль по контуру хирургические металлические щипчики, приготовляемые для операции… Та операция так тогда и не состоялась, да?..
Вздрогнул: Геля его позвала! И тут он испугался – по-настоящему, до холодного сжатия в груди: да что это я, сплю? – и вся усталость разом пропала, как рукой сняло. Снова был собран, готов к действиям – только сердце билось учащенно. Это все то проклятое сомнение так его подкосило, отобрало остатки сил. Сейчас, сейчас…
Геля просила его, чтоб вышел с ней на улицу. Показывала глазами.
И это тоже когда-то было, тело помнило: он выходил в ночь из крыивки за другой женщиной, с колотящимся сердцем, не осознавая ничего, кроме ее близкого присутствия, навстречу лунному свету, – только тогда была весна, а теперь снег белел под елями, и в графитовом небе, к которому они вместе, выбравшись из крыивки, машинально подняли головы, всеми чувствами поспешно вбирая в себя открывшееся пространство, чернели голые ветви граба на фоне мутной, в меловых подтеках луны. Было тихо – ветер угомонился, только снизу приглушенно журчал незамерзающий ручей. Адриан успел подумать, что Геля чаще всех выходит из крыивки, вчера еще это заметил, – наверное, у нее сейчас женская слабость, а в крыивке нет даже параши, не рассчитана она на долгий постой… И тут услышал ее голос, голос мгновенно отрезвил его от опьянения ночным простором – он звучал как из-под камня:
– Это я виновата. Это из-за меня.
В еловом полумраке он едва различал пятно его лица. Если отступила бы еще на шаг назад, совсем потерял бы ее из виду. И такое тоже уже, казалось, когда-то было – где? Когда?.. Она страдала, а он ничем не мог ей помочь.
– Он ради меня пошел… за теми продуктами. Молока мне хотел достать.
Молока? При чем здесь молоко?.. Она словно говорила на чужом языке, на который он никак не мог настроить ухо. Послышалось ему или и правда где-то в зарослях хрустнула ветка?..
– Я должна была его отговорить. Я ему говорила, что это пройдет… эти мои приступы тошноты. Эта утренняя слабость, потом это проходит…
Он по-прежнему не понимал – понимал только, что она сейчас не с ним, не с ними, не здесь – тем его и раздражала, как голос, что тянет поперек хора! – отдельная от них, замкнутая в какой-то своей непрозрачной скорлупе. У ее тревоги был иной цвет, иная плотность. Так она больна?..
– Это не болезнь, – отозвалась Геля на его невысказанную мысль, будто ласково отвела протянутую в темноте грубую мужскую лапу: в ее голосе прорезалась новая нота – успокаивающая, уверенная, почти материнская, – голос снова светился, хоть и неярко. – Такое часто бывает… на четвертом месяце беременности…
Свершилось. Удар обрушился на него мягко, как пласт снега со смереки. Когда-то на Гуцульщине он видел, как хозяин забивал ягненка, перед тем что-то долго ему приговаривая, чуть ли не на ухо нашептывая, – пока животное не склонило покорно голову, словно соглашаясь принять свой конец. Таким ягненком видел сейчас себя.
Вот оно, значит, как, думал тупо. Вот в чем дело. Словно с разбега ударился в глухую стену и по инерции перебирал ногами на месте: вот оно что. Вот, значит, как. Однако, как ни странно, чувствовал и облегчение – как если бы из раны спустили гной, прижгя раскаленным железом: так, значит, Стодоля пошел за молоком. Пошел, никому ничего не объяснив, потому что его жена была беременна и нуждалась в усиленном питании. Что ж, на его месте он тоже, наверное, пошел бы. На карачках бы полез, да хоть прямо сейчас. Лез бы, пока хватило воздуха в груди…
Она по-своему истолковала его молчание:
– Я выдержу, Адриан.
Это «Адриан» отозвалось в нем, как поворот железа в открытой ране. Могла бы сейчас обратиться к нему и по псевдо; хоть крошечку милосердия могла бы к нему проявить. Но ей было не до него – он стоял тут, перед ней, живой, здоровый и свободный, и отцом ее ребенка был не он.
– Я вам обузой не буду. А рожать весной пойду в Карпаты. Все уже договорено, у меня есть адрес…
Она извинялась, она лишь одну себя считала виноватой в том, что случилось. И при этом из нее била такая несгибаемая твердость, что он задохнулся: она словно стала выше ростом в темноте. Не знал эту женщину, не представлял до сих пор ее силу. «Они ничего с нами не сделают!» – блеснуло вдруг дикой, сумасшедшей радостью, взрывом восторга, как перед величием стихии, – почти сверхчеловеческим порывом гордости за наших женщин: никто ничего не сделает с таким народом, всё одолеем, всё!.. Невольно он выпрямился, словно собирался отдать ей честь. Геля, о боже. Та самая лилейная девочка, маленькие ножки в шнурованных ботиках, осыпавшиеся лепестки следочков на снегу – когда-то он стоял ночью под ее парадным, всю ночь простоял, не помня себя от счастья, Геля, Гелечка моя единственная, почему ты не моя?!.
И сразу за тем все внутри у него оборвалось, образовав тошнотворную пустоту: он вспомнил, где и когда потерял ее – вспомнил сон, который мучил его долгие годы, еще с польской тюрьмы: они вдвоем танцуют в темном зале, где-то в «Просвите» или в Народном доме, и в какое-то мгновение Геля исчезает – выскальзывает из рук и пропадает во тьме. Так же, как если б вот сейчас, отступив, могла исчезнуть, потеряться в темноте леса. В том сне он бегал как сумасшедший по залу, разыскивая ее, и никак не мог найти – зал все расширялся и расширялся, словно ночной плац без конца-края, заполняясь вдоль стен мертвыми, которые все прибывали и прибывали, – это были те, кто уехал на другой танец, «у кривавий тан – визволяти братів украінців з московських кайдан…». И он тоже пошел в «кровавый тан» – умирал в госпитале, подвешенный на кресте, и центурион ударял его копьем под ребра, туда, где вошла пуля, а Геля была сестрой милосердия, нет – была Магдалиной в подбитой живым пурпуром, как содранная кожа, шинели с завернувшейся полой, и как ни старался он до нее докричаться, не слышала и не смотрела в его сторону, а центурион пообещал ему со злобной ухмылкой, что они еще встретятся – хо, еще как встретятся!.. А сестрой милосердия была другая женщина – Рахель. И ту женщину он тоже любил.
Чернявая такая, на еврейку похожа… Где-то на седьмом месяце… А Геля, значит, на четвертом? И вдруг до него дошло: тогда, когда они вместе фотографировались, в ней уже жила новая жизнь!.. Словно воочию увидел пятном света на том месте, где скорее ощущал, чем различал между еловых лап ее хрупкую фигуру, тот снимок – осиянный, как византийская икона, ее полупроявленной улыбкой: так улыбаются женщины, что носят под сердцем тайну, невидимую для постороннего глаза? Его охватило странное желание положить руку ей на живот – и тут-таки, следующим толчком, мелькнуло, как было бы хорошо, если б это был живот не Гельцы, а Рахели: тогда бы он знал наверняка… Но он не успел додумать эту мысль до конца, не успел уяснить себе, что именно он хотел бы знать наверняка, потому что откуда-то из темнейших недр сознания поднялось грозно и неукротимо, словно приступ рвоты у беременной женщины, то, что он все время и обтоптывал, все восемнадцать километров по дороге назад из города перебирая ногами, будто топтался на месте, напрасно стараясь затоптать раз уже впрыснутое в кровь подозрение: фото!.. Его фото, вывешенное возле милиции, его «личность», которую узнал учитель из П., видевший его до этого только однажды, полгода назад, – это фото должно было быть недавним, а значит, могло быть только тем же самым – с их группового снимка. С того, где он был в печали, – лицо в тени, будто в саже, только белки глаз светятся, как у дьявола: непохожий на себя, цыган цыганом, черта с два узнаешь, если прежде не видел, – словно загримированный той тенью, что невесть откуда взялась, как цыганские чары… А других фото Кия гэбэ взять было неоткуда, за последние годы это был единственный снимок – тот, что летом решил сделать Стодоля.








