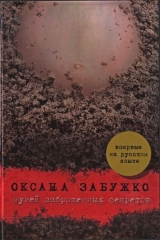
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 44 страниц)
Тот снимок был колдовской, мольфарский. Другого объяснения не находил. Наверное, такими проступают лица людей, когда гадают на воду, и всплывает наверх то, что в них скрыто. Едва глянув на свое лицо (ударившее в глаза первым из группы!), Адриан вспомнил цыганку из С.: вот, значит, каким она его увидела! Не соврала чертова ведьма, правду сказала – на нем была печаль. Еще какая печаль, мать твою. На снимке это отчетливо проявилось. Было так, как с запахом, который идет от человека в день смерти – когда, бывает, семеро сидят в крыивке или вместе днюют в лесу, и вдруг от кого-нибудь одного начинает нести землей: верный знак – этот погибнет еще до захода солнца… Если б он заметил среди своих людей кого-нибудь с такими глазами, как у него самого на этом снимке (даже в объектив не смотрел, зараза! – смотрел куда-то в сторону, словно прислушивался к далекому хору стеклянных голосов, ой жаль-жаль!..), – он бы такого, опечалившегося, постарался поскорее спровадить куда-нибудь на более спокойный участок, в Карпаты, на передышку… А еще лучше – легализовать: с такими глазами долго не повоюешь. Было неловко за такой унылый вид перед Вороном – тот, как и Стодолин Левко, как раз получился на снимке очень хорошо. А лицо Адриана будто было накрыто невесть откуда упавшей черной тенью: казалось, что он намного смуглее Стодоли на другом краю группы, – одни белки глаз светили. Как у цыгана. Или это та ведьма в С. такую порчу на него навела, чтоб помнил ее?..
Со светом на снимке вообще творилось что-то несуразное – он шел непонятно откуда, вопреки всем законам оптики. Один лишь свет летнего дня, там-сям проблескивающий сквозь чащу на заднем плане, не смог бы создать такой эффект. Будто они фотографировались не в лесу, а в церкви: в алтарной части, где сверху, из-под невидимого купола, падают под разными углами косые сияющие столпы, падают – и преломляются вокруг Гели. Геля в этом световом оазисе выглядела так, словно возносилась в воздухе над всей их группой, – не удивился бы, если б увидел, что ее маленькие, спрятанные в сапогах ножки не касаются земли, – безмятежная, спокойная и так таинственно улыбающаяся, словно знает, что ее поставили за старшую над этими парнями, но они об этом знать не должны, и оттого ее живительная – прикипел бы глазами и вовек их не отводил! – драгоценная улыбка, которой никогда раньше у нее не видел, – недопроявилась, задержалась на полпути, едва тронув ее изящно очерченные губы, но не изменив их выражения, и ее милое – о, не было на свете милее! – ясноокое личико казалось освещенным изнутри – словно это в Гельце и находился источник того странного свечения, проявленного мольфаровским «фотокором», и косые сияющие столпы текли и струились одновременно и от нее, и к ней, создавая, если смотреть дольше, эффект живого, пульсирующего мерцания…
И этим мерцающим светом, как Почаевская Божья Матерь плащом, Геля накрывала непроницаемо темную фигуру человека, стоявшего с ней рядом, – и видно было, что они – вместе.
Не было между ними границы, которая всегда бывает между человеческими телами. Невзирая на то что стояли, друг друга не касаясь, на расстоянии в полшага, и левую руку Геля дисциплинированно держала на «лимонке» возле пояса, выставив в сторону Стодоли решительный предостерегающий локоток, – словно специально подчеркивала этим официальное между ними расстояние.
А границы не было.
Они были единым целым, как в Писании: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть».
Впервые это увидел – будто током его ударило и упала в голове заслонка.
Почему ОН? Черт побери, почему именно он, – что в нем есть такого, чего нет у меня?!
Одно мгновение – одно-единственное мгновение, но оно было, ни за какие блага, даже за спасение души не признался бы в этом! – ненавидел Стодолю. Ненавидел в нем всё, одним порывом: и это его насупленное лицо с торчащим вперед, как топор, горбатым носом, надвинутую чуть ли не на брови красноармейскую фуражку и то, как стоял, по-хозяйски выставив ногу вперед, – а красиво же стоял, дьявол, невозможно не залюбоваться: хоть и по команде «Вольно!», как и все они, но весь как есть подтянутый, настороженный – как заряженная винтовка с взведенным затвором, как волк на охоте, в мгновение ока готовый вскочить и вцепиться в горло чужаку, – и Адриану сделалось аж горячо от стыда за свою мимолетную вспышку: сукин ты сын, да ведь этот парень вынес тебя на себе из-под пуль!.. Его усилиями была разгромлена вражеская агентура по трем надрайонам, его разведка работала, как швейцарские часы, и знала планы большевиков на пять минут раньше их самих – ну и что с того, если он не чувствовал, не знал, где можно расслабиться и не употреблять свою слишком твердую власть без необходимости?.. Он, Адриан, мог сколько угодно тосковать по «старой войне», на которой враг ходил с оружием, но та война кончилась, осталась несравнимо более трудная, – и та молодица, что подсыпала полученную от гэбистов отраву в хлеб повстанцам, и тот «батюшка», что допрашивал людей на исповеди, оружия при себе не имели – они сами были оружием, орудием в руках врага, который предпочитал оставаться невидимым, так стоит ли удивляться тому, что Стодоля, все время имеющий дело с той, самой темной стороной человеческой природы, привык относиться ко всем людям как к орудию в достижении цели?..
Неужели и к той, которую любил, – тоже?..
Ведь Стодоля любил Гелю. Адриан видел, как он следил за ней глазами, как менялось его лицо, когда они встречались взглядами. Подарил ей на именины цианистый калий в светонепроницаемой синей ампулке – у него самого такой не было, где только и раздобыл, нечасто попадалась в руки такая роскошь… Некоторые из знакомых Адриана обзаводились стрихнином, но это было ненадежное средство – Советам достаточно было сделать жертве промывание желудка. Кроме цианистого калия, ни одно средство не было надежным: последняя пуля, оставленная для себя, могла застрять в стволе, граната могла не взорваться… Адриан был счастлив, что у Гельцы есть зашитая в воротничок ампулка чистой, как молния, верной смерти. Был благодарен за это Стодоле.
Но все равно, рассматривая их группу на снимке – словно, очнувшись от сна, впервые видел их всех со стороны, – он ощущал явное беспокойство: как нарастающий сигнал тревоги.
ТИК-ТАК… ТИК-ТАК…ТИК-ТАК…
Беспокойство шло от Стодоли. От надежного Стодоли, твердого, как крепостная стена. От Стодоли, которому можно было только подчиниться – или погибнуть.
Не могло Ей быть с ним легко. Это ему Она облегчала жизнь, его силу смягчала своим светом. Долго ли она сможет выдержать эту двойную тяжесть – и от подполья, и от мужа?..
…Второй раз он ощутил такое же беспокойство, когда пришло известие о провале крыивки, приготовленной на зиму для Стодоли. Случилось это в середине октября, когда уже поздно было строить новую. Счастье еще, что не успели туда перенести запас продуктов и печатную машинку. Без предателя, сказал связной, не обошлось – тогда же на том же участке связную Службы безопасности выдал ее парень: поверил, дурачок, гэбэ, что как только девушка развяжется с подпольем, то заживут они с ней спокойно. Связной, которая на допросах молчала, гэбисты прибили язык гвоздем к доске – на глазах у этого парня. Возможно, что и про крыивку узнал и донес он же, но выяснить это было уже невозможно: парень сошел с ума.
Стодоля с Дзвиней остались без крыивки. Кто-то должен был разделить с ними свою. Только вот со Стодолей никто не рвался зимовать: провести с ним четыре месяца в бункере – это не в бабки-прятки играть.
И, внезапно ощутив тошнотворную пустоту в груди, как это бывает, когда смотришь прямо в нацеленный на тебя черный зрачок револьвера, Адриан понял: он сделает это. Попросил связного подождать и сам написал Стодоле шифровку. Пригласил его зимовать вместе. С секретаршей и охранником – в крыивке у Адриана как раз хватало места для пятерых.
Гелюшка… Лялюшка, ох… Ты тут?
Чшш… Слышишь?
Что?
Ветер гудит…
Слушай. Мне снова это снилось.
Мне тоже.
Что?!
Не кричи. Ты кричал во сне.
Что я кричал?
Очень умные вещи. Только очень громко. Разбудил меня. Говорил, как с листа читал – целыми предложениями.
И что я говорил?
Что множество воспоминаний конечно.
Что, правда?!
Не знаю, что это означает, но ты повторил это несколько раз.
Ни фига себе… Что-то еще?
Я всего не запомнила, Адя. Что-то насчет того, что все, что с нами было, уже было с кем-то раньше. Множество всех воспоминаний на свете конечно. Какая-то девочка, которая дает себя понюхать. Что это за девочка?
Ее звали Маринка. Мы играли за мусорными баками, и она при мне пописяла. Дала мне провести пальцем по бороздке.
Маленькая шлюха.
Нет, подожди… Я помню это ощущение – на ощупь, как шелк… Но почему она говорила по-польски?
Ты же не знаешь польского.
Это было во сне. Только это был не мой сон, а его. Того, мертвого.
И во сне была другая девочка?
Девочка, может, и другая, но воспоминание то же. Множество воспоминаний конечно… Слушай, а это идея! Какая ты умничка, что проснулась и подслушала, я бы сам уже не вспомнил!..
Новая профессия – ночная секретарша. Буду брать в постель включенный диктофон и сторожить твои сны.
Нет, слушай, Лялюша, а если это правда? Если множество всех воспоминаний у человечества правда конечно, и все, что происходит с нами, уже происходило с кем-то раньше? Тогда это величина, которую в принципе можно измерить, – теоретически можно все воспоминания, которые есть на свете, закатать в какой-нибудь десяток хард-драйвов, представляешь!.. И это было бы единственное разумное объяснение всем дежавю, нет? Когда нам в память просто залетает кусок чужого воспоминания, ну вроде как мошка в глаз, какие-нибудь пару сотен килобайт…
Милый, ты меня совсем сбил своими килобайтами. Я уже не помню ничего из того, что снилось мне.
И я не помню – только обрывки какие-то крутятся… Но про конечное множество – это очень классная идея, Лялюша! Я об этом думал раньше, только ответа не находил, а он вот он! – если воспоминания разных людей на самом деле совпадают не за счет совместно пережитого опыта, а по методу случайных чисел, ну понимаешь, так, словно карты из одной колоды, когда, например, выпадает четыре шестерки, – то сразу иная складывается картина…
Фотография!
Что такое? Почему фотография?
Ты сказал – картина, и я вспомнила: там была фотография. В моем сне. Та самая, с Гелей в лесу.
Что, правда?
Да, кажется, она… Фото женщины незадолго до смерти. У Влады, когда мы в Пассаже интервью с ней записывали, в один из моментов такие глаза были – как будто уже не ее. И еще я почему-то тетю Люсю вспомнила, мамину сестру, – ты ее уже не застал, она умерла в двухтысячном…
От чего?
Рак груди. Очень хотела жить, до последнего дня верила, что поправится. Мама при ней была, говорила, у нее, когда сердце остановилось, было такое удивленное выражение лица, типа: как, и это всё?.. И в гробу такое же оставалось… Она вообще сильная женщина была, из тех, знаешь, на ком вся семья держится, маме до нее в этом отношении как до неба. После войны, когда голод был, куда-то в ваши края ездила за хлебом, мешок муки на себе из Здолбунова притащила, не знаю, где раздобыла… С той мукой тогда и пережили голодный год, а то мама уже не вставала. И потом, когда мама училась, каждое воскресенье ей в Киев продукты возила… Но почему я про нее вспомнила?..
Такая, значит, ночь. Мертвые просыпаются. Может, к дождю?
Юмор у тебя…
А это не юмор. Вот помолчи минутку. Слышишь?
Что?
Ветер гудит…
Нет, не слышу. Разве это не холодильник в кухне?
А ты помолчи. Сейчас услышишь. Иди ко мне. Вот так… Лялюшка моя, Лялюшка… Девочка моя яблоневая…
Каркнула спросонья какая-то птица. С верхушки ели ей, захлопав крыльями против ветра, жалобным криком ответила другая. (Ни дать ни взять – связные перекликаются!)
То ли всполошились на звук человеческих шагов, то ли это уже знак, что рассвет близится?..
Должен был выйти из леса еще затемно. Должен был пройти через город днем – в своей офицерской шинели со споротыми нашивками, в каких ходили демобилизованные красноармейцы, – свежевыбритый, и даже побрызганный, чтоб не несло от него лесом, тем убийственно едким «шипром», которым обливались все советские военные (черт побери, что за носы у этих людей?!), – чтобы чуть ли не в самом вражьем логове, в старом доходном доме, уже наполовину занятом новыми «хозяевами», встретиться с умирающим, который не имел права умереть, пока не расскажет ему то, что знает.
Когда-то его папа тоже так ходил ночью, в непогоду и метель – соборовать умирающих. Маленький Адзя просыпался от скрипа дощатого пола и звука шагов за стеной – и видел золотистую полоску света, пробивавшегося из-под двери детской. В печи гудело, и плакал ветер в дымоходе; дружно, как два ежика, посапывали во тьме под перинами младшие и более крепкие на сон Миросько и Геник. А во дворе, за окнами, двигались черные лохматые тени – взрослые мужчины отправлялись в дорогу, потому что кто-то в них нуждался. И у мальчика щемило в груди сладким мятным холодком от знания, что когда-нибудь и он станет взрослым – и тоже будет куда-то отправляться среди ночи, потому что таков долг мужчины, и его нужно исполнять.
И теперь он должен успеть, пока тот еще жив. Должен получить от него информацию, от которой зависит жизнь сотен других людей. Чем не соборование?..
«До встречи!» – сказал он своим: так, как всегда прощаются в подполье. До встречи, ни в коем случае не «Прощайте!». «С Богом!» – вразнобой, на четыре голоса выдохнула ему вслед настороженная тьма: так, как и мама крестила в дорогу папу, а потом, одного за другим, всех своих сыновей: с Богом! Геля и хлопцы – это теперь была его семья; другой не было. Все его прошлое было при нем, от самых ранних детских лет: вся прожитая жизнь, разом намотанная на бессонное, напряженное двадцатисемилетнее тело, как на шпульку.
Нес все это на себе. И должен был пронести туда и обратно, целым и невредимым. Слишком много он знает, чтобы погибнуть. А на обратном пути будет знать еще больше…
И тот, другой, что борется в эти часы со смертью, тоже знает, что не смеет умереть, не передав дальше хранимых им тайн. Адриан шел освобождать его от гнета земных обязанностей; отпустить его в смерть.
Чем не соборование?
Не знал, кто это такой, боялся даже думать (должно быть, кто-то знакомый, кто-то из окружного Провода…), – знал только пароль, чтобы войти в дом: «У вас есть на продажу англики?» – «Есть, но только сорок второго размера». Такие «англики» – английские хромовые сапоги, не удобнее, но щеголеватей на вид, чем американские военные ботинки, и поэтому особенно любимые уголовниками, послетавшимися «на Западную» со всего Советского Союза грести, что недогребли «товарищи», – ему бы и правда пригодились: его собственные ботинки, еще немецкие трофейные, совсем износились. Но хорошо ему послужили – ни разу на лесных тропинках не заскользила нога…
Лес уже редел в предчувствии опушки. Сквозь гудение ветра Адриан ловил обостренным слухом плямканье с ветвей оттаивающих мокрых пластов: к оттепели. Снег под ногами больше не трещал, как выстрелы, все чаще пружинил полуприсыпанной опавшей листвой, мхом, валежником… Новый снег, когда он мокрый, вообще самый опасный, не то что сухой. И еще нет хуже, чем старый, покрывшийся настом. А сейчас, если он и оставил где-то в темноте случайный незаметенный след, тот скоро расплывется, стает. Когда развиднеется, чужаки уже ничего не найдут. Хоть бы и с собаками шли. Но своих собак они натаскивают на запах человеческого жилья, на дух деревенской хаты, – а он воняет по-ихнему, «шипром». Воняет, как холера, – как каждый собачий начальник со звездой на фуражке.
Так что же ему так муторно на душе, а?..
Что-то плохое ему снилось, вот что. И он не помнил, что именно.
Даже обрывки того сна не смог бы собрать. В одном только не сомневался: сон был плохой. И его упорно не покидало чувство, будто ему во сне доверили какую-то гнетущую тайну, связанную с судьбой многих людей, а он эту тайну профукал, пропустил мимо ушей, словно растерянный новичок-деревня на первом сеансе связи. Зверь, живший в нем, потерял ориентацию и скреб лапами его нутро, не зная, откуда грозила главная опасность – сзади, из прочесываемого облавщиками леса? Ждала впереди, в городе? И ему ли она грозила, или друзьям, оставленным в неудобной временной крыивке?..
Когда-то, читая «Vom Kriege» Клаузевица, он, пораженный точностью описания, подчеркнул для себя: атмосферу войны составляют четыре элемента – опасность, напряжение, случай, неуверенность – формула, с которой он начинал свои лекции на унтер-офицерских курсах: когда есть готовая, кем-то заданная формула, действовать всегда несравнимо легче. Уж ему ли привыкать к неуверенности? К разлитому в воздухе чувству опасности? Что с ним, черт возьми, происходит, ведь он всего-то-навсего забыл свой сон?!
А чувствовал себя так, словно у него отобрали оружие.
Стоял на краю леса, вглядываясь в уже отчетливо чернильную синеву, в которую быстро, ох и как же быстро – со стремительностью, невзирающей на все человеческие проклятия и мольбы – перетапливалась ноябрьская ночь (почему-то все самые рискованные поручения, как и самые важные события в жизни, всегда приходились у него на ноябрь), – и чувствовал, как к горлу неудержимо, словно рвота, подкатывается из глубины невыспавшегося тела отвратительная, бесконтрольная дрожь. Стянул рукавицу, поднес к глазам растопыренные пальцы, – но еще не развиднелось настолько, чтобы увидеть, дрожат ли они… Черт подери. Неужели дошел уже до того, что боялся выйти из леса?!
Стодоля. Это Стодоля был причиной всему – Стодоля вытеснял из памяти его сны. Наваливался на его сознание с первой же минуты пробуждения всей тяжестью своего присутствия (о да, он постоянно ощущал присутствие Стодоли как чего-то постороннего!) – и притягивал к себе ту часть внимания, которая должна бы удерживать сон на плаву. Был тяжел, да, – ни на что, кроме себя самого, не оставлял вокруг даже щелочки. Был сильнее его, вот в чем дело. Наконец-то он себе это сказал. Был сильнее, чем он, Адриан Ортинский, Зверь, Аскольд, Кий, поручик УПА, надрайонный организационный референт, награжденный Бронзовым Крестом Заслуги и Серебряной Звездой… И все это ничего не стоило в сравнении с простым фактом: Стодоля был сильнее.
И Геля это знала.
Потому и выбрала – его.
Ну да, женщина ведь. Она во всем была женщиной – как это будет по-французски, par exellence? А женщину не обманешь, она чувствует, кто сильнее, раньше, чем командиры, – и безошибочнее, чем подчиненные. У Стодоли хватило бы воли, чтоб нагнуть под себя не десятки, а сотни людей – а может, и тысячи. Надрайон был для него слишком тесен – ему бы в округе работать. А то и в краевом Проводе СБ. Когда-нибудь, если не погибнет, Стодоля наверняка там и будет. А он, Адриан Ортинский (Зверь, Аскольд, Кий…), лучше всего себя всегда чувствовал в прямом бою – и тогда, когда удавалось выйти из него без потерь. И больше всего не любил посылать людей на смерть. Сколько бы ему еще ни было суждено топтать землю, окружным проводником он никогда не станет.
Почему-то вспомнил вчерашний рассказ Левко, больше похожий на исповедь, – у Левко действительно была артистическая натура, и он нравился Адриану: был чутким. Из всех из них Левко встревожился первым – как только они вошли в ту крыивку пересидеть. Шутил, балагурил, но получалось у него это как-то нервно, и Адриан это чувствовал – с Левко, которому он когда-то вовремя подсказал вынуть пулю из ствола перед чисткой оружия, их роднила особенная, молчаливая связь, что возникает между спасителем и спасенным, – именно та, что не складывалась у Адриана со Стодолей. Когда оказались с ним с глазу на глаз, Левко разговорился, словно только того и ждал, – и рассказал, как ликвидировали взятого во время акции в С. майора эмгэбэ, прожившего с ними в лесу полгода, за которые тот сдал всю, что знал, агентуру на участке. Тот майор им очень помог – сам пошел на сотрудничество, и они с ним за полгода вполне сжились, под конец уже считай и не охраняли – да и куда бы он стал бежать, к своим большевичкам? Под трибунал и расстрел? Когда Стодоля собрал боевиков СБ и объявил, что операция окончена и майор им больше не нужен, стало тихо, как на погосте. Про майора они уже знали больше, чем друг про друга. Знали, что он украинец, родом из Запорожской области, что был мобилизован на службу в НКВД еще молодым парнем, что привез с собой во Львов жену и ребенка, а в Запорожской области у него старуха мать, которой он каждый месяц посылал деньги, – много чего знали… Стодоля спросил, берется ли кто поручиться головой, что майора можно оставить в подполье. Что если его оставить, он примет присягу на верность Украине и будет воевать на нашей стороне. К такому повороту никто не был готов. Молчание продолжалось. Стодоля спросил, вызовется ли кто-нибудь добровольно провести ликвидацию. Никто не вызвался. Тогда Стодоля сам назначил двоих исполнителей. Те двое вернулись потом такие, что хоть самих в землю закапывай. Майор им сказал, что другого приговора для себя и не ждал. Что он тоже военный и все понимает. Хоть он и не был военным, был энкаведист – а значит, на своем веку сам должен был не раз стрелять в безоружного человека с завязанными глазами. Вояки из такой службы выходят, как правило, никчемные: не привыкли к тому, что дуло пистолета может так же легко повернуться в обратную сторону, и, если такое диво с ними случается, вмиг теряют человеческий облик; видеть такое неприятно… Но за полгода, что он прожил с ними, майор и сам изменился, переродился – и смерть свою встретил так, как подобает армейскому офицеру: будто единственное, чего он хотел, – это заслужить у них уважение, как ровня. Сказал, чтобы жене ни в коем случае не передавали о нем никаких известий, потому что это только поставит ее в опасное положение перед «органами», – пусть лучше на самом деле ничего не знает и получает за него повышенную пенсию. Попросил, чтоб не завязывали ему глаза. И закурить. Они закурили, все трое. Ну давайте уже, ребята, сказал майор.
Это не была ликвидация, это было убийство. Все это понимали. Те двое очень скоро после того тоже погибли – один за другим пошли добровольцами на «мертвое дело», такое, с которого не возвращаются. Они искали себе смерти, сказал Левко. Что-то в них сломала та акция. Левко говорил это без осуждения, как про случайную пулю или перемену погоды, – он никоим образом не собирался обсуждать с Адрианом приказы своего командира, в правильности которых не сомневался; его мучило другое, и Адриан это видел: Левко виноватил себя – что не отважился в решающую минуту поручиться за того майора. Не отважился выступить вперед, щелкнуть каблуками и, глядя в глаза Стодоле, сказать: «Я ручаюсь». И плевать, что будет потом.
Он был хороший парень, Левко, – и мучился тем, что ему не хватило отваги. Что из-за его, и только его трусости погибли люди, которые могли бы жить. Все трое.
– Вы не трус, – сказал ему Адриан. – Но хорошо, что боитесь им быть. Человек всегда чего-то боится, это только дурак не знает страха. Вопрос в том, чего мы боимся больше. Тогда этот больший страх подавляет меньшие – и это и есть подлинная отвага.
Эта мысль была ему дорога, он давно к ней пришел, еще при немцах, когда впервые участвовал в нападении на тюрьму гестапо: то, что отвага, та подлинная, которой не поколебать, есть лишь вопрос иерархии страхов – когда позора и клейма предателя боишься больше, чем смерти (а больше всего – так что кровь стынет в жилах – боишься шевченковского предостережения: «Погибнешь, сгинешь, Украина! И след твой выжжется дотла…» – ничего страшнее того, нежели стать этому свидетелем, на твоем веку случиться не может, и нет на свете такой силы, которая бы тебя от этого страха избавила). Но не был уверен, понятно ли для Левко слово «иерархия». Хотя на самом деле он все это говорил лишь бы что-то сказать. Лишь бы не молчать. Так, словно заговаривал свою собственную совесть. Ведь разве на месте Стодоли он, Кий, не распорядился бы точно так же?..
Выходило, что он словно утешал Левко от имени Стодоли. Чего сам Стодоля делать явно не стал. И Левко впрямь немного отошел, оживился, как отогретый щегленок (почему-то некстати подумалось, на него глядя: жаль, хлопец, твоего румянца, позеленеешь за зиму, как картошка в погребе…). И только сейчас, на краю леса, в ожидании, когда тучи, быстро бегущие по небу, разматываясь свитками дыма, спрячут луну и можно будет выйти на опушку, у Адриана в памяти всплыл тот разговор, как горькая отрыжка после тяжелого обеда, – и он подумал, холодно и зорко: да, приказ на месте Стодоли он отдал бы такой же, – но у него Левко бы решился выступить вперед. Щелкнул бы каблуками и, приложив к козырьку руку, сказал бы: «Разрешите доложить, друг командир, я ручаюсь».
И плевать, что будет потом.
Он понял, что наконец пришел в себя окончательно. Внутри было пусто, как перед выходом на линию огня. Время со свистом стянулось мехами русской гармошки – в мгновение настоящего, в единственный просвет для немедленного действия. И та противная нутряная дрожь – угомонилась, затихла. И пальцы не дрожали.
Он был свободен.
Вокруг него в ночной тишине дышала его земля. Все духи леса, которые его берегли, проведя сквозь чащу, стояли у него за спиной. Это была его земля – его сильная, как смерть, крепчайшая изо всех любовь, пульсирующая сквозь ночь, словно невидимый свет. У тех, что пришли топтать ее своими сапогами, не было этой силы. И ничего они ему не сделают.
Чувствовал, как входит в него злая, батярская веселость. Та, азартная, что появляется в бою и – если повезет – на задании, наполняя тело легкостью, как во сне, дразнящей щекоткой опасности, которая возбуждает и пьянит тем неудержимее, чем откровеннее ты эту опасность презираешь, – и тогда она униженно отступает, потому что ты оказался сильнее… Впереди белело поле – да нет, уже рябело, гостеприимно чернея навстречу мокрыми проталинами, сознание – белый рыцарь в ледяных доспехах – наблюдало со стороны с часами в руках, часы громко тикали, отсчитывая минуты, отмеренные до возвращения, – а где-то в пространстве, или в нем самом, невидимая рука уже накручивала шарманку в ритме шустрого, юродиво-веселенького мотивчика коломыйки, туго, туго, только бы не треснула пружинка, ах нет, это веточка треснула под ногой, как девка от нетерпения: «Ой по плаю білі вівці по плаю, по плаю, а я спала з партизаном, Бігме, си не каю…» – Он криво усмехнулся, шумно вдыхая острый лесной воздух всеми легкими, словно растягивая меха гармошки в предчувствии жестокого, как волчий гон, танца, только это уже был не он – а демобилизованный капитан Советской армии Антон Иванович Злобин, с прекрасными документами и именным наганом, командированный в район по линии Заготзерно для проверки окончания хлебосдачи.
«Ну, твою мать, вперед!..» – сказал Антон Иванович. И перекрестился.
Начиналась свадьба.
Утраченный сон Адриана
…Почему я крадусь согнувшись вдоль этого плетня, и конца ему не видно – прутья мокро блестят, как отлакированные, и то и дело по ним стекают, словно слезы по старческим – крупным планом – морщинкам, водяные струйки, – это оттепель, светает, и яснеют на черном холме латки хлипкого, уже подточенного, как шерсть молью, снега, и мои ноги послушно, как завороженные, их обходят, чтоб не ступить на белое.
– …А это такое правило, милый, как в детской игре в «классики», первейшее правило: «не наступи!» – проскачи по всем квадратам, не пропуская ни одного, аж до главного нефа райского неба – вот и я, Господи! – только, чур, не наступи ни разу на линию, потому что каждая такая линия – это линия огня, и «наступивший» выбывает из игры – бабах, убит!..
И тогда ему не достичь райского неба?
Тогда ему нужно всё начинать сначала. Снова и снова – пака не пройдет весь путь.
Я готов. Готов снова пройти всё сначала, если меня сейчас убьют.
У тебя еще есть время. А до райского неба – целая вечность. Потому как всех убитых Господь собирает в одном месте, куда живым нет хода, – разворачивает их плечами к небу, а лицом к земле, с которой их до времени вырвали, и из этого Божьего укрытия, как со сторожевого поста, они за вами наблюдают – воюют, когда вы собираетесь воевать, следят за вами, чтоб вы не сбились с пути, и шлют вам письма, которые вы не умеете прочесть…
Так это они сейчас за мной наблюдают? Игорь, Нестор, Лодзьо, Роман, Явор, Мирон, Лесовой, Ратай, Легенда, все хлопцы, которые бросили меня здесь одного, – я слышу их молчание, разлитое в пространстве, оно висит над землей, словно целый отряд рассматривает меня из неведомого укрытия в свои оптические прицелы, – и когда я поднимаю оружие, они все разом затаивают дыхание, чтоб моя рука не дрогнула, и когда мой Голос меня предупреждает за волосок от гибели – это тоже они?
Они, они… Да это ты знал и раньше. Спрашивай, чего не знаешь, – у тебя есть время еще на один вопрос.
Тогда вот что… Я никому этого не говорил. Я хотел бы погиб путь в Киеве, как Лодзьо. На тех апостольских горах, где начинался мой народ. Где синева Днепра и золото храмов, как исконные цвета наших знамен пред взором небесного воинства. Там, где шумела княжеская и гетманская слава – и наши отцы выступали за нее походом, под звон колоколов Святой Софии. Я так туда и не дошел, а так хотел дойти, увидеть своими глазами, поэтому и псевдо себе взял – Кий…
Кровь твоя будет в Киеве. Большего тебе знать не надо.
Кто ты, говорящий мне это?
«Черная земля вспахана и пулями засеяна… И пулями засеяна… и кровью вы полощена…» [37]37
Из украинской песни:
Чорна рілля ізорана, гей, гей!Чорна рілля ізоранаІ кулями засіяна, гей, гей!І кулями засіяна.Білим тілом зволочена, гей, гей!Білим тілом зволоченаІ кров’ю сполощена, гей, гей!І кров’ю сполощена…
[Закрыть]
Я узнал: ты – бабушка Лина! Ох, как же я тебе рад – только где ты, почему я тебя не вижу?..
Я не бабушка, человече. Я земля.
Земля?.. Да, вижу – черная земля, не пашня – болото, на ней тоже остаются следы, я должен быть осторожным, ступать, не скрипнув снегом, не разбудив ни людей, ни собак, не оставив никакого следа на своей подмокающей, жирной земле, – вижу, как движется в воздухе передо мною пар от моего дыхания, и прикрываю себе рот и нос шарфом овечьей шерсти, в котором сразу делается мокро внутри, – слезы теперь набухают и у меня на глазах, полные уши ветра, полные влаги глаза и ноздри, оттепель, оттепель, кругом подтекает, чавкает, каплет, охает, стонет – что?..
Это булькает земля, напоенная кровью, – жирная от крови, как стенки женского лона: липкая, бродильная, клокочущая тина, – больше крови она не приемлет, створаживается от нее на черное молозиво – просит отдохновения, просит зимы…








