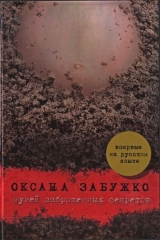
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)
Шекспир, Брехт – тоже какая-то своеродная нуворишеская позолота, как на еврованнах, все эти его цитаты… Он не врет – он только как-то непонятно фальшивит, словно исполняет свой монолог на расстроенном инструменте. А может, это его гневный пафос так чудовищно дребезжит, мешает мне? Все-таки их поколение истощило все национальные резервы пафоса на сто лет вперед, ничего не оставило нам такого, что бы могло звучать естественно, без скрежета по дну… Как посмеивалась Влада над матерью: «Ну сомм лез артист, маман!..» Нина Устимовна, ах, Нина Устимовна…
– А вы говорите – упреждающий удар! Подлость это, дорогуша, обыкновенная человеческая подлость! Рефлекс людоедки, которая откусывает голову каждому, кто попадется на ее пути, и ломит дальше не оглядываясь! – (Я невольно зажмуриваюсь под этим градом слов – так, словно это Влада сидит на моем месте и вынуждена их выслушивать). – И собственного мужа она так же схрумкала и не заметила! Премии ему таки не досталось, ни тогда, ни после, на самый-то верх его не пустили, – он снова злорадно кривит рот, – нашлись конкуренты, на которых Нинель обломала зубы, небезграничны были и ее возможности… Но клеймо на моей биографии эта дама сумела поставить на много лет вперед. Одно время я был просто вычеркнут из жизни – в полной безысходности! Понимаете? В ПОЛНОЙ!..
– И тогда вас завербовало КГБ…
Он так и остается с открытым на вдохе ртом: стоп-кадр. Ничего не могу с собой поделать – это у меня профессиональная привычка к эффектам: словно и правда живу внутри какого-то детективного сериала, где должна параллельно заботиться о драматургии, и каждый раз, когда трюк срабатывает, получаю маленькое производственное удовлетворение. Адька, моя аудитория (вся, что у меня осталась!), и он же мое боковое зрение, мой режиссерский голос из-за кадра, оператор с другой стороны камеры и визажист с пудреницей наготове, как же быстро я передала ему все полномочия своих когдатошних контролирующих инстанций! – издает короткий горловой звук, который при желании можно приравнять к рукоплесканиям: умничка, своим цепким математическим умом он в мгновение сложил вместе все части уравнения, и если б даже и оставалось у кого-то из нас еще сомнение, действительно ли я угадала решение или наугад ткнула мелом мимо доски, то достаточно глянуть на Лысого, чтобы всякое сомнение рассеялось: такое впечатление, что на нем сразу весь пот высох. Как при резкой смене сезона: ударил мороз, и все застыло.
Угадала я, угадала. Напрасно он так уж полагался на мое незнание предмета – я все-таки сотни интервью сделала, с очень разными людьми, и в голове у меня имеется свой персональный Гугл. Я даже знаю, сколько им платили, вот таким штатным сявкам-стукачам, за их ежемесячные письменные отчеты про то, что их подопечные ляпали за рюмкой, – шестьдесят рублей. Хорошая цифра, двойная Иудина ставка, – кто-то неслучайно придумал, с юморком. Деньги, на которые худо-бедно можно было и прожить. Вот он и жил.
В одном он прав: я действительно не могу себе представить, как он жил. Как таскался годами, непрошеный, в гости по чужим домам, по еще не сметенным тогда новыми застройками старокиевским деревянным флигелькам и чердакам андеграундных мастерских, где ловил свою толику заемного тепла – хлебал налитый хозяйкой борщ, пил коньяк – дешевый, армянский, другого тогда не было, – ругал советскую власть, смотрел работы хозяина и изрекал над ними свои ненаписанные рецензии, – небось и вполне вдохновенно изрекал, сыпал цитатами, оттачивал стиль, – и все время при этом потел: источал из всех пор мутную влагу, как недодавленный творог, под гнетом своего тайного поручения… А потом брел домой – и переделывал все услышанное в «стори» для своего капитана. Не представляю я ни такой жизни, ни того, как можно было годами ее выдерживать.
Не напишет он ничего про этот «малоизвестный пласт нашей культуры». Никогда не напишет, пусть сколь угодно бодрится перед Адькой. Я могла бы сейчас сказать ему это прямо в глаза, снять с него грех, чтоб он больше не мучился, чтоб раз и навсегда перестал потеть под своим неснятым грузом: не напишет потому, что однажды он всех тех людей уже описал – в доносах. Сделал из этого «стори» – такую, как от него требовали. И эта «стори» осталась с ним, замкнула его память. Потому что со «стори» всегда так бывает, знаю по собственному опыту – людей, живых или мертвых, помнишь потом не такими, какими их знал, а такими, как про них рассказал. Все равно кому – телезрителям с экрана или кэгэбэшнику в кабинете за закрытыми дверьми: другой «стори», чтоб зачеркнула первую, новым текстом поверх старого, из того же материала уже не получится – материал «сгорел». Сгорел, весь вышел, переплавилсяя, превратился в шлак, оставив после себя только горький вкус обиды, вечное ощущение обделенности, протравленное скорбью очертание рта. Его «стори» у него когда-то отняли, забрали. С его же согласия, его же руками, никто теперь не виноват. Может, если бы он не согласился, то и в самом бы деле погиб – гибли-то как раз те, кто не соглашался… А те, что остались жить, теперь ничего не могут нам рассказать, потому что однажды уже рассказали. И, увы, не нам.
Теперь им бы рассказать нам другую историю – историю отнятых «стори». Историю своего поражения, но делать это никто не хочет. Влада тоже наверняка никогда не слышала от матери о том эпизоде с Лысым – да и помнит ли о нем сама Н. У.?.. Люди часто забывают зло, которое причинили другим, но навсегда сохраняют чувство неприязни к тем, кому его причинили, – причины подыскиваются и подставляются в пазл уже потом, задним числом. Влада могла слышать дома имя Лысого, произносящееся с глумливой ноткой в голосе, со снисходительным смешком, как обычно говорят про амбициозных неудачников, и таким его и считать. И почему-то мне из-за этого обидно – так, словно ее обманули, Владуську. Будто все ее обманули, и обманывали всю жизнь, сызмальства, – и все вместе, общими усилиями, загнали в кювет.
Я устала. Боже мой, как же я устала за сегодняшний день – неужели только нынче утром я собиралась на встречу с Вадимом, повторяла мысленно свою заготовленную прокурорскую речь про девчоночье шоу, специально надевала пиджак и гольф – те самые, в которых была у него на Тарасовской в день Владиной смерти, с расчетом на то, что у Вадима сработает на них павловский рефлекс, включатся подсознательные механизмы вины и памяти, идиотка, – будто мужчины вообще замечают, во что одета женщина, если только не намерены это с нее снять… Брр. Многовато мне что-то на один день – чувство такое, словно сегодняшнее утро было примерно неделю назад. И хмель уже прошел, выветрился напрочь, и мне холодно, такой знакомой, мерзляковатой дрожью пробирает за плечи, – может, это начинается простуда, гриппозный сезон, а тут еще сквозняк от дверей… И не нужно на меня, пожалуйста, кричать – я и так устала сверх всякой меры и не в состоянии больше реагировать ни на какие раздражители, пусть бы уж взял нож и разрезал меня пополам, как циркачку в ящике, только вряд ли я после этого опять сложусь воедино – Адя, сделай что-нибудь, ну чего он так кричит?..
А покраснел-то как, батюшки, – всею лысиной, словно бутыль с вишневой наливкой разлилась у него под кожей, не приведи боже, его сейчас здесь еще кондратий хватит, как Адька любит говорить, по-нашему это будет инсульт… В мое сознание прорываются только отдельные фразы («Кто здесь пострадавший? Что, может, из-за меня кто-то пострадал? Нет, из-за меня никто не пострадал, ищите сколько хотите, не найдете такого!») – в нечто целостное его монолог у меня уже не связывается, дробится, к тому же он кричит, а крик я и обычно-то воспринимаю плохо, – кричит уже не баритоном, а фальцетом, с истерическими бабскими модуляциями, и тоже как-то фальшиво, словно заранее заучил, что именно так нужно кричать от возмущения, когда тебя подозревают в сотрудничестве с КГБ, а может, за годы двойной жизни он вообще разучился говорить незаученно, просто забыл, как это делается – говорить что думаешь, не держа в голове заранее заготовленного текста?.. («Это меня выбросили на улицу, как собаку, и виновата в этом ваша Нинель! Именно она, и никто другой! И вы не сможете это опровергнуть!») Адька говорит ему что-то успокаивающее, воркует, как и весь вечер ворковал, – теперь бы надо вступить и мне, примирительно шаркнуть ножкой, может даже попросить прощения, сказать, что ничего такого у меня и в мыслях не было, и вообще, я хочу домой, – всё, хватит уже, хватит всех этих воспоминаний, расцарапывания язв, вечного украинского самоедства, – Адька хлопает ладонями по столу, словно загоняет назад в столешницу всех вызванных мною джиннов, – всё, пора на воздух, здесь душно, плохая вентиляция и носками воняет, – он брезгливый, Адька, только это никакие не носки, отстраненно, словно чужой головой, думаю я, – это смрад разлагающихся душ, я сегодня весь день их к себе притягиваю, наматываю их на себя, как на катушку, – сначала Вадима, теперь вот этого, и если это и называется моим журналистским расследованием, которое я сама себе поручила, то в гробу я видела такие расследования… И тут в речи Лысого прорезывается уже не фальшивый, а несомненно искренний звук: поспешно, захлебываясь, последним клокочущим аргументом из закрученного крана – победительный выкрик застарелой ненависти:
– Но Бог – есть, есть! По трупам шла, трупы и получила, – а что, думала, весь век по ее будет? Думала, весь век, как сыр в масле – то за мужем, а как мужа в гроб загнала, так дочку в великие художники выпихнуть?.. Гениальная Владочка, куд-да там, – настругала своих лубочных коллажиков, как капусты, а Европе что, там давно пустыня, британцы вон уже и премию Тернера за какое только ге не дают, а наши и уши развесили – ах, скажи ты, всемирно известная художница, на гоночной машине ездит! Вот и доездилась – пусть теперь матушка получает на старость то, что заработала!..
Следующий звук – падение стула. Это из-под меня, – а я, вскочив на ноги, возвышаюсь над загаженным столом, как Ленин над трибуной в старом советском фильме, и выкрикиваю, давясь, в стёкла бериевских очков что-то маловразумительное и на удивление жалкое, что-то начинающееся с «да как вы смеете» или типа того, от чего самой хочется немедленно провалиться под землю, – и когда в поднявшейся суматохе, в круговерти белых официантских рубашек и повернувшихся в мою сторону множественными пятнами чужих лиц выныривает во весь свой монументальный рост Адька, взмахивая руками, как дирижер над ямой оркестрантов, что перепились и режут какофонию, я, уступив ему свою трибуну, самым позорным образом спасаюсь бегством – споткнувшись, больно ударившись по дороге бедром о какой-то угол стола или стула, невидяще рванув с вешалки полушубок, – прочь, в дверь с отчаянным визгом ее петель, в едкую, размокшую масляную темень с плавающими в ней фонарями, по ступенькам, шумно дыша и поскальзываясь, под топот собственных сапожек, – и только на тротуаре, остановившись, замечаю в руке судорожно стиснутую салфетку: это когда же я ее схватила и зачем, интересно бы узнать, – собиралась запустить ею в лицо Лысому, что ли?..
Ночь, сугробы, опушенные изморосью фонари, тучи над Прорезной, что несутся быстро-быстро, разматываясь свитками дыма поверх свинцовой лунной подсветки… В детстве папа с мамой катали меня вечером на саночках – впрягались и бежали по длинной зимней улице, и как-то на повороте я из саночек выпала – и осталась лежать в сугробе, неподвижным закутанным свертком. За ту минуту или две, пока родители спохватились, вся вселенная обрушилась на меня одну – как на астронавта, что вышел в открытый космос. Помню небо вверху – усыпанную звездами черноту – и неимоверную, вселенскую тишину, какой никогда больше потом не слышала. Когда родители вернулись, с шумом и смехом, я уже знала, что мир на самом деле другой, чем они стараются меня убедить. Что человек в нем одинок. И что плакать – а они очень удивлялись, что я не плакала, – плакать под этим небом не для кого.
Не знаю, сколько времени проходит теперь – тоже минута или две, – пока я не слышу за спиной торопливое шуршание снега под знакомыми шагами – шух-шух, густой пар дыхания, родной запах прокуренного шерстяного пальто, автершейва, тепла, кожи – дома. Звенят ключи:
– Маленькая ты моя, ну что ты, а ну давай быстро в машину, а то еще простудишься…
И только теперь – развернувшись к нему, толкнувшись головой в расхристанную грудь, в родной запах, прогребаясь руками сквозь мягкую ткань шарфа, через отвороты кашемирового пальто, утупливаясь, зарываясь в него всего, как в землю от артобстрела, я наконец даю волю всем слезам разом, будто накопившимся за двадцать лет – от того самого дня, когда плакала на груди у Сергея, у первого мужчины, перед которым раскрылась, – одним взрывом, словно из меня со страшным, рявкающим звуком выбило пробку, и рыдания, что весь день подступали к горлу, как лай, вырвались наружу. Как собачий лай.
Мама, мамочка. Адя, Адюша. Не отпускай меня.

– Ты уже спишь?
– Умм…
– Ты со мной каким-то другим стал, знаешь?
– Ммм?..
– И когда входишь… Внутри… Как-то по-другому… Я больше не жду развязки, понимаешь? Просто ты во мне, и всё. Как во сне. Или как дыхание.
– Это хорошо или плохо?
– Глупыш мой… Хорошо, хорошо… Спи.
– Иди сюда.
– Что, снова?
– Ага. Снова и всегда. Зачем ты вообще эту рубашку надела?
– Послушай. А ты в это веришь? В то, что он сказал про Владину маму?
– Что она на него стукнула? Да похоже – а то чего бы столько лет чужую тетку ненавидеть, как родную…
– Нет, не это, а то, как он сказал про Владиного отца – что она его убила? Ты веришь, что так бывает?
– У тебя ножки до сих пор холодные, ах ты утенок мой… Давай их сюда… В жизни всякое бывает.
– Ты когда-нибудь был с такой женщиной? Которая тебя убивает, и ты это чувствуешь – изо дня в день?
– Я уже забыл. Все забыл, что было раньше. Интервью не в тему.
– Ну ты даешь, а у кого же мне теперь о таком спрашивать?..
– Смешное ты, я тебя хочу. Все время. Представляешь?
– Нет, ты послушай… Я еще днем, когда от Вадима вышла, про Владу подумала то же самое. Ну что у нее не было с ним, с Вадимом, другого выхода. Знаешь, как в туннеле, где можно только вперед… Может, это вообще так – в смерти одного из супругов всегда виноват другой?.. Вот ведь и в старину к вдовам недаром относились с подозрением… И к вдовцам…
– Ммм…
– Нет, я серьезно… Тот, кто выжил, того другого, так получается, ну как бы не удержал – отпустил… Отдал смерти, понимаешь?
– Тшшшш… Не думаю о таком. Мы с тобой будем жить долго и счастливо и умрем в один день.
– Правда? Ты мне обещаешь?
– Слово-кремень. В случае чего подорвемся одной гранатой.
– Почему ты это сказал? Про гранату?..
– Откуда я знаю. Я вообще уже спал.
– Бедняжечка!
– Ага. А ты меня растолкала – и, вместо того чтобы заняться делом, стала допытываться, кого я убил.
– Чудо ты мое. Положи лапку вот сюда, угу, так хорошо… Я знаю, что ты никого не убивал. Честно.
– Честно-честно? Ты мне веришь?
– Верю, Адюша.
– Тогда давай спать.
ЗАЛ 6
И нам будет сниться один и тот же сон сон. Один и тот же сон, моя маленькая, – только смотреть мы его с тобой будем с разных концов.
Ты где, Адриан?..
Я здесь. Не бойся. Дай мне руку…
…Ночью гудел ветер, и жалобно свистело в воздухоходах, словно плакали гонимые над землей сонмы загубленных душ. Громадные ели над входом в крыивку угрожающе махали во все стороны лапами, загребая воздух, – и Адриану на мгновение показалось, будто это десятки рук с треском раздвигают ветви, проламываясь через лес, и в завывании ветра почудились, далеким отзвуком, крики чужаков и лай собак. Но это был лишь ветер – «лем ветер», как говорили прибывшие из Закерзонья лемки, которые, проблуждав все лето по опустошенной земле, среди сожженных поляками сел, где только одичавшие коты выбегали навстречу людям, верили, будто воздух умеет хранить отзвучавшие голоса, – уверяли, что ветер нередко приносил вместе с запахом пожарищ гомон большой массы людей: плач детей, рев домашней скотины, треск моторов – все те звуки, что сопровождали 24-часовую депортацию, происходившую на самом деле более месяца назад. Адриан каждый раз терпеливо растолковывал им в ответ на это, что существование звука без его источника – вещь физически невозможная, и даже рисовал прутиком на земле спектр затухающих колебаний, – но в последнее время и у него все чаще случались подобные звуковые галлюцинации: истончались нервы, и это было скверно, потому что впереди возвышалась целая непочатая зима, как крепостная стена, через которую не перескочишь, и перебраться на другую сторону можно только подкопом, ползком, терпеливо зачеркивая в крыивке на календаре день за днем… «Я ж с ума сойду!» – мелькнуло в голове внезапной вспышкой – он рассердился на эту мысль и, вскочив на ствол поваленной смереки[34]34
Смерека – хвойное дерево.
[Закрыть], перевернулся, обхватив ствол снизу руками и ногами, бесстыдно-радостно ощущая каждой мышцей пробуждение тела (сущее ребячество, баловство, мог бы и поверху пройти, а следы замести хвоей!), – тело включилось, мгновенно припомнив давно забытые навыки, глубоко затаившуюся в нем ловкую, паучью четырехрукость альпиниста, с которой когда-то, в другой жизни, оно преодолевало горные овраги в пластовых походах, – это было то же самое тело, пружинистое и послушное, и настоящим, взрывным наслаждением оказалось вот так, по-медвежьи, карабкаться низом по стволу, стараясь не сбить налипшую сверху мокрую снеговую напушку, – вмиг вспотев, согретый изнутри здоровым, как из печи, жаром, он добрался до места, откуда нужно было соскочить в незамерзающий ручей – «теплицу», остановился, вновь оседлав ствол, и победно перевел дух, окидывая взглядом всю подсвеченную в темноте снегом лесную расщелину с ручьем на дне…
И тут только увидел – словно плетью по глазам хлестнуло – то, чего они боялись: снег предал!.. Первый, ненадежный и обманчивый ноябрьский снег, как только переменился ветер и с юга дохнуло теплом – не выдержал, сдался, и над тем местом, где была их крыивка, отчетливо проступила на белом фоне оттаявшая, как отдышенная проталина на замерзшем стекле, темная земляная прорубь.
Даже отсюда, с порядочного расстояния, он видел, как рыжеет на ней опавшая листва. Ах ты, дьявол.
Ветер их «заложил», расконспирировал. И малый ребенок бы догадался, что в этом месте под землей сидят люди и варится пища, – три часа тлеет огонек керосинки, пока дойдет каша… Ах, холера. Паршивая это была крыивка, сразу ему не понравилась: неглубоко вырытая, плохо приспособленная (земля время от времени с шелестом сыпалась с потолка, раздражая и без того натянутые нервы!) – и для пятерых все-таки катастрофически тесная. Но у них не было иного выхода, кроме как засесть здесь и выжидать. А сейчас он шел в город и оставлял товарищей на произвол судьбы – на милость южного ветра. К обеду должно еще потеплеть, и земля зарябит такими же черными проталинами и на других открытых местах, тем самым наново маскируя место их укрытия, – воздух (потянул носом) был влажный, только бы ветер не переменился… Но делать нечего – скоро рассвет. Нужно идти. По этому самому мокрому снегу.
Высвободил руку из рукава шинели – и торопливо, как когда-то это делала мама, если он ночью уходил из дома, перекрестил затаившийся в предрассветном оцепенении берег с черным пятном на белом.
И прыгнул в ручей.
Чер-тов ветер! Прокля-тый ветер!.. Так декламировала им Геля – она знала наизусть множество стихов, а он уже забыл все лишнее, чему когда-то учился, и, не уставая удивляться, просил ее читать еще и еще, лишь бы и дальше жить со звуком ее голоса, который в темноте, наполненной как мешок берестой, духом четверых обовшивевших мужиков (и она – Она! – вынуждена вдыхать этот запах!), лился и шелестел, словно шелк, и казалось, что он светится серебром: это Тычина? Вправду? Тот самый, что нынче славит Сталина и колхозы?.. Сам он с гимназических лет предпочитал Ольжича, «Неизвестному воину», – это было про него, про его жизнь. Но Ольжича замордовали в немецком концлагере, и сделал это, говорили, не кто иной, как тот самый Вилли Вирзинг, которого он, Адриан, должен был ликвидировать еще во Львове в сорок третьем: дважды пытался это сделать, и оба раза не получилось – гестаповец был как чертом заговоренный, гуцулы говорят про таких – есть у него «тот»… С тех пор Ольжича Адриан в себе похоронил, вместе с чувством вины за невыполненное задание: ни за какие богатства мира не стал бы читать его вслух. Даже Ей. Тем более – Ей. Чертов ветер… Идти под таким ветром, правда, безопасней: не слышно по лесу шагов. Но ведь не только его шагов не слышно, но и тех, если б они шли, – тоже…
Когда-то у него было псевдо Зверь – давно, еще при немцах. Потом, когда за Зверем начало охотится эмгэбэ, псевдо пришлось сменить, но того старого, зверевого чутья опасности, что берегло его все годы подполья, он, благодаренье Богу, не утратил, и теперь оно скулило в нем, как придавленный щенок: этот ветер нес с собой запах облавы.
В конце концов, думал, бредя по незамерзающей воде «теплицы» (метров двести еще нужно было так пройти для верности, подальше от крыивки, чтобы не демаскировать ее своими случайными следами) и успокаивая сам себя, – в конце концов, что же тут удивляться: облавы шли по всему району уже вторую неделю, из-за них они и вынуждены были остановиться в лесу, в этой подвернувшейся, «переходной» крыивке, не дойдя до села, где собирались зазимовать, – здесь их и застал снег… Оказалось, что в селе стоит большевистский гарнизон, шли обыски, все хаты трясли, несколько семей, как сообщил связной, забрали среди ночи сразу же, и люди шныряли по дворам как тени – по вечерам никто не зажигал свет, только в сельсовете – у бывшей плебании (священника вывезли с семьей в Сибирь еще в прошлую зиму) краснопогонники с «ястребками» заседали до рассвета и «для храбрости» глушили ведрами награбленный днем самогон, – крестьяне быстро сообразили, что это для Советов первейшая валюта, и теперь гнали его чуть ли не в каждой хате, но от грабежей это людей не спасало, потому что кроме самогона «те» сметали как саранча все, что попадалось под руку, – у вдовы, у которой была приготовлена крыивка для повстанцев, истыкали штырями всю кладовую и, не достукавшись, к счастью, до крыивки, забрали единственную ценную вещь в доме – хром на сапоги. Орда, говорил связной с нескрываемым презрением: пожилой уже человек, он партизанил давно и твердо знал, что во всякой порядочной армии, как и в УПА, за мародерство положен расстрел, – но, добавлял, хорошо уже то, что хаты на этот раз не жгут…
Теперь им уже не требовалось жечь хаты, как они это делали, когда только пришли и считали Западные Земли вражеской территорией – и вывозили в Сибирь целые села в чем похватали, без суда убивали людей на месте, поднимали на штыки, привязывали к лошадям, распарывали животы беременным и насиловали девушек на глазах у матерей. Теперь Сталин тот приказ отозвал, теперь это была уже территория, которую они считали своей, – и требовали послушания и дани: по семь центнеров с гектара земли, хоть бы та земля была и не пахотная, по четыреста литров молока от каждой коровы в хлеву – как и немцы до них, разве что немцы не трудились так нещадно врать – и, загоняя евреев в гетто, не уверяли, что их ждет величайшее в мире счастье… В селе уже был колхоз – еще в августе, в разгар страды, в самую горячую пору наскочили гарнизонники, привезли с собой военного – украинца откуда-то из восточных областей, и тот, размахивая автоматом, согнал всех мужчин в овечий загон, окружил цепью солдат и заявил: пока не запишетесь в колхоз, ни один живым отсюда не выйдет! Выходить, с поднятыми руками, стали на третий день – когда уже начали пить собственную мочу. Так появился колхоз имени Молотова. Собранное зерно конфисковали, объявив, что будут выдавать его только тем, кто работает на колхоз, по пятьдесят грамм за так называемый «трудодень», – чистое издевательство, говорили люди, не иначе конец света близится, да ведь даже сто лет назад, при покойнице Австрии, не было такой панщины!.. Но хлеб все-таки вывезли, – кто из селян, особенно победнее, не смог спрятать для себя, тем станица помогала – из запасов, предназначенных для повстанцев. На сколько этого могло хватить, Адриану еще предстоит выяснить: через два дня он должен получить доклад от своего референта по хозяйственным вопросам, тогда и станет ясна ситуация на всем участке. Еще хорошо, что весной, когда в Галичину потянулись тучи голодных с Надднепрянской Украины и Бессарабии, наши расконсервировали тут поблизости, по приказу главнокомандующего, стратегический запас зерна, отбитого еще у немцев, так что хватило и на помощь голодным, и, говорил связной, до нового урожая хватит, выходит, люди пока узнали колхозную жизнь еще не во всех ее подробностях… Тот украинец-военный получил устное предупреждение – его перехватили, когда он ехал с женой через лес, и провели с ним часовую беседу. При этом случилась неприятность: жена так перепугалась, увидев вынырнувших из леса «бандер», что потеряла сознание, и муж потом отсылал ее на месяц во Львов – лечиться «от нервов». Сам он с тех пор притих, беседа подействовала: с людьми стал вежлив, даже про нынешнюю облаву предупредил станичного, но в селе ему по-прежнему не доверяли – ни ему, ни его несчастной жене, которая вернулась из Львова, говорил связной, какая-то пришибленная, как затравленный кролик… Адриана это немного царапнуло, как всегда, когда он слышал про невинно пострадавших женщин, – и тут ему бросилось в глаза, словно углем очерченное, окаменевшее – ни один мускул не дрогнет – лицо Стодоли, и он почти въявь услышал скрытый перестук его мыслей, словно часовой механизм бомбы: а точно ли та дама во Львове лечилась или между делом проходила в ГБ агентурную подготовку?.. Именно такие кролики часто и оказывались самыми опасными сексотами – нагнанный на них в ГБ страх лишал их рассудка и делал непредсказуемыми. И Стодоля в этом разбирался. Это была его война, он отлично себя здесь чувствовал. Адриан мог только радоваться, что с СБ ему повезло. Он и радовался, ведь ему действительно повезло. Разве нет?
…Это было странное состояние, как во сне, – все эти семь месяцев, с тех пор как после ранения вышел из госпиталя, он прожил как во сне с открытыми глазами (только изредка, в короткие минуты, когда, как сейчас, оказывался в одиночестве, видел, словно со стороны, всех их троих вместе – себя, Гелю и Стодолю, которого Геля называла Михасем, – и безучастно, словно находясь под действием эфира, когда мысль не достигает всей глубины боли, тупо удивлялся – как же такое могло случиться, и почему так случилось?..) – и в том сне он и правда не раз радовался за свою Службу безопасности, за каждую удачную акцию, которых они, тьфу-тьфу, провели немало, – это было горячее лето, лето года Господнего сорок седьмого, когда против нашего движения объединились спецслужбы СССР, Польши и Чехословакии, как один гигантский, на три страны раскинувшийся красный спрут, – и мы времени зря не теряли, не запятнали честь, не нарушили присягу… Все же ему неплохо работалось со Стодолей – они были как два альпиниста в паре, где каждый готов из кожи вон лезть, чтобы доказать другому, что и он чего-то стоит. Это как постоянная взаимная подпитка, что не позволяет ни поддаться усталости, ни утратить остроту чувств. Даже после трехсуточного неспанья – как тогда, летом, когда у них была условлена встреча, и Адриан шел на нее, отключаясь на ходу, на несколько секунд то и дело словно в темный колодец проваливался, пока чуткое тело само продолжало движение, – люди Стодоли тоже были измучены, у самого Стодоли глаза были как у тех, отбитых нашими возле С. заключенных: кровавые, как мясо в ране, со светлыми, когда моргал, пятнами век на почерневшем лице, – и тогда не Стодоля, а он, Адриан, успел заметить, как Стодолин охранник собирается чистить оружие, и сказал ему, словно уже сквозь толщу воды, – проверьте, друг, чтоб в стволе не было пули. И хорошо, что сказал, потому что пуля как раз была. И Геля была при этом. Он запомнил ее взгляд. Был тогда счастлив – и не только потому, что предупредил несчастный случай: таких случаев было у них на участке уже немало, а двое повстанцев и погибли, так именно поранившись – во время чистки оружия, когда от переутомления теряли бдительность. А он не потерял, и Она это видела. И Стодоля видел тоже. Боже, как же он тогда выспался – как за целое лето… А потом, наворачивая горячую мамалыгу, рассказывал им, опьянев от наплыва сил, как накануне со своей боевкой пустил в расход целую сотню краснопогонников, – те запрудили поляну в низине, как отара на убой, тут-то мы их и накрыли, только успевай с опушки автоматами во все стороны водить… Даже неразговорчивый Стодоля вслух пожалел, что его там не было. Нет, все-таки очень удачно они друг другу подходили – лучшего для пользы дела подбора кадров не придумали бы и в самом Проводе, ни одна человеческая голова специально бы такого не придумала: как оргреферент он должен бы пожать руку тому, кто свел их вместе, пусть бы это был хоть сам дьявол… И еще – где-то на дне того многомесячного сна-с-открытыми-глазами, как незамерзающий ручеек-теплица, в нем все время теплилось тайное чувство гордости перед самим собой – что не поддался весной после ранения слабости, что переборол себя – и не попросил перевода на другой участок по личным причинам.
Потому что поначалу такое намерение было. Не представлял, как сможет работать на одном участке с ними обоими. Подруга Дзвиня, друг Стодоля – от одной только мысли об этом у него волосы на голове болели. Однажды даже потащился с людьми Гаевого в село на свадьбу – никогда раньше этого не делал, когда у кого-нибудь из повстанческих семей играли свадьбу и приглашали в гости, а тут потянуло дурака на люди, в надежде хоть немного отвлечься, но и на свадьбе девчата пели словно специально для него, так бывает со свежей раной: в какую сторону ни повернись, а все ее чем-то заденешь, застонешь сквозь зубы – «А вже з тоі криниченьки орли воду п’ють, а вже тую дівчиноньку до шлюбу ведуть…» Отчетливо увидел в то мгновение, словно заглянул в освещенное окно среди ночи: Геля выходит замуж за Стодолю, и венчает их – отец Ярослав! Безотчетно раздавил, сжав в горсти, стеклянный стакан, и только тогда это заметил, когда кровь, подкрашенная узваром, потекла в рукав и вокруг поднялась кутерьма: «Ой жаль-жаль, непомалу, любив дівчину змалу – любив дівчину змалу, любив та й не взяв…» Удержали его тогда две вещи – первое, что не так-то легко было заменить его в округе, да еще в мае, когда кругом клокотало, как в адском котле, – во время боя никто передислокацию личного состава не начинает! – и второе – второе то, что Стодоля спас ему жизнь. Вынес его, раненого, на себе из-под обстрела.








