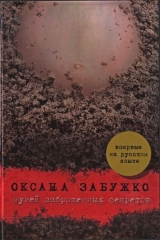
Текст книги "Музей заброшенных секретов"
Автор книги: Оксана Забужко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
– Вы остаетесь, Дзвиня, – сказал он. – Остаетесь здесь. Потом выйдете к ним… когда все кончится. Так будет лучше всего.
Она судорожно открыла рот, словно хватая воздух. И тут острая жалость к ней, жалость, что он отрывает ее от себя и оставляет одну, как если бы вырывал из нее, полной любви, свою изболевшуюся плоть, догнала его и вошла, как нож под ребра, – и он ужаснулся, обожженный скрытым в себе необозримым, неохватным огромом жизни.
– Все, что знаете вы, они и так уже знают – от него, – он словно оправдывался. – От того, что вы сдадитесь, никто не пострадает.
И тут только увидел, что она тоже держит в руке пистолет.
– Застрелите меня, Адриан. Очень вас прошу.
– Нет! – сказал он.
– Богом прошу, сделайте это. Я боюсь, что у меня дрогнет рука.
– Вы должны жить.
– Я не хочу.
– Геля, – сказал он.
Она с мукой мотнула подбородком в сторону, словно у нее не было сил довести до конца протестующий жест:
– Я не хочу… носить его кровь…
Последние слова она произнесла шепотом. Не знал, что на это ответить. Не был женщиной. Сила жизни, что была в ней, отличалась от той, которую он чувствовал в себе и которая гнала его в последний бой. Только и повторил:
– Вы должны жить. Вы выдержите, Геля. Вы сильная.
– Я не хочу им сдаваться. В конце концов, у меня тоже есть гранаты, целых две, – и все одновременно без слов вспомнили, как дарили ей в сентябре на именины «лимонку» – РГД, и она, видно, вспомнила то же, потому что всхлипнула, то ли засмеялась нервно: – Ой божечки, а ведь я для вас для всех гостинцы приготовила к Рождеству! – и уже выбрасывала в густеющий мрак из своего рюкзака какие-то дрожащие свертки: рукавицы, носки? – что-то белое вспорхнуло и упало крылом вниз, коснувшись углей, она подхватила, встряхивая: – А это для вас, друг командир, наденете? Это Лина, сестра, просила вам передать, я берегла к Рождеству…
Это была сорочка. Ослепительно-белая мужская сорочка с густой, как грядка чернобривцев, вышивкой на груди. Такая, как вышивают девчата своим суженым, – и у троих мужчин от ее вида перехватило дыхание: сорочка светилась во тьме как живая, она хотела быть надетой не на смерть, а на свадьбу. И вдруг Адриан понял, зачем она тут.
– Ах, пусть вам Господь воздаст! – сказал, уже ничему не удивляясь: все было так, как должно быть, жизнь, добегая до своего конца, точно, как пуля по стволу, катилась гладко, словно по высшему повелению, и все в ней укладывалось в положенные пазы. И девочка в матросском костюмчике, что, сама того не ведая, вышила для него последнее его оружие, тоже была здесь и смотрела на него с любовью. Вот под этой сорочкой он и выйдет.
Он объяснил свой план: он объявит, что сдаются. Выйдет первым, под белым флагом – вот под этим, – взял сорочку в руки, но она не пахла: он утратил обоняние, ощущал только запах гари. Сорочкой прикроет гранату – те не увидят, пока не окружат его, подойдя ближе. Тогда тремя взрывами одновременно они смогут уничтожить как минимум десяток врагов. А если повезет, то и больше.
И Стодолю с ними, подумал он, только вслух этого не сказал. Это было его последнее задание, никому другому не мог его поручить: должен был убить предателя. Не смел ни сам погибнуть без этого, ни друзей отпустить в смерть: такая смерть была бы поражением, на том свете он не посмеет взглянуть им в глаза. А Гельця должна остаться здесь, в крыивке, Гельца должна жить. Кто-то должен вырастить наших детей.
– Друг командир, – это снова была она, только голос у нее изменился до неузнавания, низкий, как при простуде. – Разрешите, я пойду с вами.
Но он уже не слушал – перед ним возносилась гигантская темная стена, больше всего того, что он преодолел до сих пор, и он сказал той, что не пускала его туда, удерживая при жизни:
– Нет, – и шагнул к воздухоходу.
– Подождите! – Ее волосы растрепались; выглядела как безумная. – Выслушайте меня! Они пришли за вами, друг Кий, – но он пришел за мной!..
Мужчины глядели на нее, будто впервые увидели.
– Он спасется, – сказала она; в ее голосе звенели истерические нотки: – Он выскользнет, он хитрый. Вы ему ничего не сделаете. А через две недели назначено краевое совещание проводников СБ. И он туда придет, уже с новыми облавщиками. И это будет конец. Господи, – почти крикнула она, – да разве вы не понимаете, что его вы не убьете? Не обманете его своим представлением, и он спасется, даже если бы у вас была сейчас не граната, а бомба, и вы бы уложили полгарнизона? Я должна выйти, я! И именно первой, как он и хотел! Только тогда он вам поверит – когда я буду стоять рядом с вами!..
Воцарилась тишина. Сквозь звон в ушах Адриан слышал словно тоненькие детские голоса: пели хором, где-то далеко, будто колядовали.
– Она верно говорит, – тихо молвил Левко.
При-йшли три ца-рі з східноі землї, при-несли да-pi Діві Марії…
Да, она говорит верно, Стодоля пришел за ней. Стодоля тоже знал, что я ее люблю, и на это и рассчитывал – что я не дам ей погибнуть. Она верно говорит, она его знает лучше. Она права, это единственный способ – выйти вместе; погибнуть вместе.
Я этого не хотел, думал Адриан Ортинский, с беззвучным звоном рассыпаясь вдребезги на мириады одновременно видимых близко, как в бинокль освещенные в ночи окна, осколков своей жизни, как рассыпается вьюга на мириады снежинок, – я этого не хотел. Но его воли уже не было – не как я хочу, а как Ты. Вставайте, пойдем. Вот, предающий меня уже близко. Ангельский хор вибрировал, звон в ушах нарастал – где-то далеко впереди, по ту сторону неохватной темной стены, которую им предстояло одолеть, звенели колокола Святой Софии, в Небесной Украине, куда они отправлялись. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Да, думал он. Верно. Она права.
Он кивнул. Очень медленно – все вокруг внезапно стало очень медленным, словно для того, чтоб ни одна мелочь не ускользнула от его внимания, ни одна снежинка, крутившаяся перед глазами, – видел их все одновременно, как-то все умещая разом: эбонитовую граненую рукоятку эмпэшки Ворона, выпуклый блеск пуговиц на куртках, побагровевшие, как иссиня-пепельный след от раны, остатки сгоревшего костра, темнеющие в руках, как живые, округлые морды гранат. Шесть гранат на четверых, не так уж и плохо.
– Хорошо, – сказал он.
И почувствовал, как по крыивке прошел тот сквознячок напряжения, что всегда перед боем.
Геля перекрестила его, и это движение он также видел отдельно, как снежинку под выпуклой линзой среди снегопада; так его крестила, глядя ему вслед и стоя в темном дверном проеме, мама, когда он в последний раз уходил из дома. Он хотел улыбнуться своей смертной суженой – как-никак ведь это была их свадьба, и хор тоненьких голосов, от звуков которого с медленным звоном разбивалась невидимая стеклянная сфера его жизни, пел им венчальную, – но улыбнуться уже не смог. Вместо этого бешеным, медвежьим рывком внезапно сгреб их всех за плечи в охапку, словно собираясь танцевать с ними в этом гробу аркан – древний танец, танец воинов, в котором единое многоголовое тело мчит по замкнутому кругу, и ноги одновременно с силой ударяют в землю, быстрее, быстрее разгоняется танец, руки на плечах, плечо к плечу, вечный мужской танец моего народа, что со времен татарских набегов нечеловеческими усилиями удерживает на своей земле круг, который то и дело разрывают ему с муками и кровью, и нужны новые кровь и муки, чтобы его восстановить, чтоб стянуть силы воедино и топнуть в землю: моя! Не отдам!.. – вот наш круг, ну вот мы и вместе, моя девочка, вот это он и есть, наш с тобой свадебный танец – когда-то нам его перебили, но все теперь исправилось, мы снова вместе, мы нашли свою музыку, нужно только доиграть финал – чисто, без единой ошибки, потому что переиграть его еще раз уже не получится…
Последнее содрогание секундной стрелки – и часы остановились.
– Мы складываем оружие! – крикнул из-под земли Кий. – Ваша взяла!
Он еще слышал движение наверху – как там забегали, засуетились, залаяли команды, – но думал уже только одним телом, будто кто-то иной думал за него, обматывая «лимонку» чужой свадебной сорочкой: она идет в двух шагах впереди, я срываю чеку с гранаты, – те сверху закричали, чтобы выходить с поднятыми руками, и он видел их страх, серый, словно стая возбужденных крыс с писком носилась вокруг крыивки, не уверенная в своей добыче, – крыс нужно было успокоить, и он говорил, или скорее это кто-то иной говорил за него, а он слушал со стороны, – тут женщине нужна медицинская помощь – и это были именно те бездумные, единственно точные, как движения, слова, которые теми наверху могли быть восприняты как команда, – потому что это он, Кий, в эти минуты принял над ними командование, он поднимал их с земли, уже повеселевших, уже ослабевших, перенацеленных мысленно с команды «Огонь!» на еще одну дырочку себе на погоны: а-а-а, таки наша взяла, баба уговорила сдаться!.. – это было для них понятно, согласовывалось с тем, ради чего они сами месили ночами в чужих краях снег и грязь и палили огнем ненавидимые ими за это города и сёла: баба, сытная пайка и все тебя боятся, – они уже поверили своей удаче, уже вытягивали шеи и потирали руки, простые организмы, низший класс хордовых, которому ведомы лишь первичные инстинкты и который уничтожает все, чего не может понять: хоть и сотворенные по Божьему подобию, они так и не стали людьми, и он не испытывал к ним ненависти – ненависть уже оставила его, как и все прочие чувства, некогда составлявшие его существо, – но среди них был тот, чье сердце он ощущал внутри своего как вросшее «дикое мясо», как второе, черное сердце, которое в эту минуту продолжало биться, и он должен был вытащить, вырвать его с корнем, как хирург при ампутации, – в открытый люк ударил сверху, ослепив паром и морозом, белый свет нацеленных на крыивку военных прожекторов, и черная женская фигура, так же бесконечно медленно, в остановленном времени, перекрытом, как запруда, невидимой темной стеной впереди, поднялась у него перед глазами и вошла в свет – холодный, дьявольский свет, предназначенный не освещать, а слепить, – с поднятыми вверх руками: давая ему еще несколько дополнительных секунд, чтоб ослепшие глаза снова могли видеть…
Рука сжала гранату со сдернутой чекой.
Какая иллюминация. Какая тишина.
Он глядел сверху, сбоку, с ночного неба, и видел себя – его тело выходило из крыивки, держа в высоко поднятой руке белый сверток, – и тут же не пойми откуда повеяло шумом от елей, словно лес вздохнул ему на прощание, и полотняное крыло взлетело над ним в свете армейских прожекторов, как затрепетавший парус, к которому прикипели десятки глаз.
Мир перестал дышать, а земля – вращаться.
Видел нацеленные на себя из тьмы дула автоматов и фигуры за ними – снизу, из ручья, с боков, из-за деревьев, – видел морду овчарки, что заходилась лаем, натягивая поводок, и Гелин профиль в двух шагах перед собой, и траекторию ее взгляда, как на баллистическом графике, – гиперболой вниз за ели, откуда бил свет и за ним маячила, как памятник, плащ-палатка и кучка фигур: там! – и этого общего оцепенения, которое продолжалось одно бесконечное, вплавленное в остановку мироздания мгновение, – когда среди всей толпы застывших среди леса людей двигались только он и Геля, с легкостью сомнамбул, что идут по краешку крыши, прислушиваясь к никому, кроме них, не слышимому музыкальному ритму, – этого ему хватило, чтобы получить преимущество – именно так, как он и хотел…
– Он! Это он!
На женщину они внимания уже не обращали.
– Бросай оружие!
Он бросил автомат.
И тогда они побежали к нему. Пришли в движение, так же медленно, несравнимо медленнее, чем командовало ему сознание, вынесенное вне границ его тела, – как ворох взвихрившихся прямо в глаза черных опавших листьев. Затылок обожгло громкое дыхание и звяканье ошейника, рука, державшая сноп света, отделилась от плащ-палатки, свет приближался, раздробившись на ходу на несколько фигур, и то лицо, которое колотилось в нем вторым сердцем – живое, настоящее, вытянутое вперед горбоносым топором, как волчья морда с близко посаженными провалами глаз, – вплыло в фокус его зрения, заслоняя свет: оно двигалось прямо к нему, искаженное диким спазмом ужаса и радости, и он не сразу понял, что – нет, не к нему, а к Той, что стояла с ним рядом и уже сделала перед этим шквалом черных листьев свой решающий шаг назад в ритме неслышного свадебного танца…
– Слава Украине! – сказал он Стодоле. И разнял сцепленные вокруг чеки пальцы. Сухо щелкнул оглушенный свет и всплеснула опадающая белая фата – крыло его свадебной сорочки…
– Граната! У него грана!..
– Еб твою…
– Боже!..
– Ложись!
Он не услышал взрыва. Не услышал и двух последующих, почти одновременных. Он только увидел вспышку, страшную вспышку, ослепительнее, чем может выдержать человеческий мозг, – будто вспыхнули разом тысяча солнц, и земля взлетела вверх высотным черным валом. Он еще успел податься вперед, вслед за своей рукой, протягивавшей на ладони врагам гранату, как тяжелый созревший плод, и налившейся во всю длину мышц напряжением удерживаемой тяжести, – но то, что было впереди, уже было отрезано вспышкой, и это уже двигалось лишь одно его тело – ту часть секунды, которую оставленное тело еще способно, по инерции, продержаться перед тем, как рухнуть, подчинившись силе земного притяжения, пока засвеченная вспышкой пленка продолжает шуршать, прокручивая у него под черепной коробкой пустые окошки.
– Геля, – хотел позвать он.
Но его уже не было.
ЗАЛ 7
Последнее интервью журналистки Гощинской
Кто он, собственно, такой – Вадим?
Сидит напротив, тяжелый, непоколебимый, он всегда так сидит, где бы это ни было – будто у себя дома, где все принадлежит ему – и предметы, и люди, и этот тревожно пустой, как в голливудском хорроре, ресторан, куда он привез меня, вызвонив среди ночи, тоже, – и очень похоже, что так оно и есть, потому что, когда мы поднялись на крыльцо, дверь была заперта, он нажал на какую-то не замеченную мною кнопку и, как только дверь открылась, не дожидаясь и не пропуская меня вперед (хамло!), направился внутрь, стаскивая с шеи шарф («Armani», 100 % кашемир) и бросая на ходу, через плечо, халдею у дверей: «Валера, пусть Машенька нам накроет…» – не попросив меню, не спрашивая, чего я хочу и хочу ли чего-нибудь вообще, – и вот сидит напротив меня в пустом зале, как Али-Баба в пещере разбойников (пещера – черный лак, черная кожа, подсвеченные поверхности, та стандартная смесь показной роскоши и казарменной безликости, которая в наших широтах именуется гламуром), – дородный и добродушный, как побритый безусый морж, и посапывает, как это бывает с откормленными мужчинами, чей пик физической мощи уже позади: одышка в начальной стадии, которую с непривычки можно принять за эротическое возбуждение. Может, Владе это нравилось? Или тогда, с ней, он еще так не сопел?..
– Не лезь ты в это дело, – говорит он мне, без всякого выражения глядя на меня ярко освещенными и пустыми, как этот его ресторан (и когда это он его купил?), глазами. – Там серьезные люди задействованы. Не нужно оно тебе.
Серьезные люди. Это значит – те, кто, в случае если помешаешь осуществлению их финансовых интересов, могут и грохнуть. И будет еще одна пропавшая без вести украинская журналистка. Или погибшая в автокатастрофе, или найденная мертвой у себя в квартире: самоубийство. Не смогла, например, пережить увольнение с работы, – а что? Одинокая женщина (бойфренд в милицейском протоколе не значится!), детей нет, вся жизнь – в работе, а тут облом вышел – не выдержала, не пережила. И главное – никто даже не усомнится: женщина без детей – идеальная мишень, заваливается без стука, от одного щелчка.
Как мило со стороны Вадима меня предупредить. Я уж было решила после той нашей неудачной беседы, что его ничем не пробьешь. А он, вишь, потрудился, спасибо ему, навел справки. За конкурсом «Мисс Канал» стоят серьезные люди, чьи имена мы никогда не увидим в титрах. Как и имена тех девушек, что приедут в Киев на отборочный тур, но не попадут на экран. Зато попадут в другое место. Может, и необязательно в заграничный бордель: кто-то же и дома должен приветить секс-туристов из ЕС, подняв таким образом рейтинг привлекательности страны для иностранных инвестиций, или сделать минет спонсору парламентской партии, пока тот мчит на джипе домой после встречи в партийном штабе. Серьезные люди, серьезный бизнес.
Вот только расплакаться мне и не хватало. В носу предательски пощипывает, я и сама начинаю учащенно дышать. Сидим так с Вадимом друг напротив друга и сопим, как два ежа на тропинке. Вот это, наверное, зрелище. Но, боже мой, какое же это омерзительное чувство – знать про преступление и быть неспособным его предотвратить…
Сколько это стоит – одна девочка? Те, что торгуют людьми, – почем они берут за душу? Почему, свыше десяти лет проварившись в журналистике, я не знаю этих цифр? И почему сейчас не решаюсь спросить об этом у Вадима, который наверняка ведь знает?
Кто он, черт побери, такой – Вадим?..
Все, что я знаю, – в прошлой жизни, до того как и самому сделаться серьезным человеком, он закончил исторический, КГУ. Ха-роший был факультет – наполненный сельскими мальчиками, отслужившими в армии, они щеголяли в синих двубортных костюмах с комсомольскими значками на отворотах и в стукачи шли не за страх, а за совесть. Теперь мальчикам изрядно за сорок, и у них новая униформа, улучшенного типа, – костюмы от «Armani», на руке «Rolex», настоящий. А в джипе шофер Вася – дальний родственник из родного села. Кто все эти люди, как такое получилось, что они теперь заправляют судьбами миллионов других людей – и моей тоже?..
– Бери колбаску, – говорит Вадим, кивая на тарелку с мясным ассорти. Свекольно-красные, кроваво-черные, ржаво-рыжие в беловатых сальных растушевках завертыши смотрятся в этой гламурной подсветке как какое-то готическое порно – инсталляция из посткоитальных женских вагин. Кажется, меня сейчас вырвет. Молча отрицательно качаю головой, Вадим, не обращая внимания на мое состояние, подцепляет себе на вилку горстку красно-мясных складок, оттуда выпадает хвостик петрушки и остается чернеть на подсвеченной столешнице, как экспонат в природоведческом музее. У Вадима всегда был хороший аппетит – знак, что мужчина умеет наслаждаться жизнью.
Я пригубливаю вино: «Pinot Noir», какого-то итальянского дома с непроизносимым названием, урожай 2002 года. Год был солнечный, заверил меня Вадим, когда халдей принес укутанную салфеткой бутылку и, по указательному движению Вадимовых бровей, гордо продемонстрировал ее мне, как акушерка маме спеленутое дитя. Вадим, по своему обыкновению, пьет коньяк, но в винах он тоже разбирается. Эти люди разбираются во многих вещах, без которых можно прожить, но с которыми жизнь протекает намного приятнее. Или без такого оприятнивания она у них была бы совершенно невыносима – как если бы под шоколадной глазурью в «Kindersurprise» оказался кусок окаменевшего дерьма? Перед глазами у меня всплывает давно забытое лицо Р. после секса, и я делаю еще один глоток. Действительно, вино отличное.
– Оппозиция заниматься этим не будет, – объясняет тем временем Вадим, накладывая себе еще закусок. – Резонансного дела из этого твоего шоу не раскрутишь, для войны компроматов не годится – слабо. Перед выборами тут требуется тяжелая артиллерия. А твое шоу – это так, забавка…
– Вообще-то это человеческие жизни, – напоминаю я.
Вадим мрачнеет, словно я допустила бестактность, и энергично принимается за лососину. Я и раньше замечала за ним эту привычку – не отвечать на неприятную реплику, будто и не слышал ее. Будто собеседник прилюдно пукнул. Вот что такое на самом деле власть – возможность пропускать мимо ушей все, что тебе неприятно, как убогий пук чьего-то немощного кишечника.
– И в таком случае, – продолжаю я пукать дальше, – какая тогда вообще разница между вашей оппозицией и этими бандюками у власти?
Вадим меряет меня поверх тарелки быстрым, коротким прищуром (где я недавно видела этот триумфальный взгляд – картежника, которому пришел удачный прикуп?..):
– А какая, по-твоему, должна быть разница?
– Это в еврейских анекдотах отвечают вопросом на вопрос. А мы же вроде всерьез?
Вадим загадочно улыбается:
– Та же самая, Дарина, разница, что и всегда между людьми, – у одних больше денег, у других меньше.
– Других различий между людьми, по-твоему, не существует?
– В политике – нет, – твердо говорит он.
Нет, он не шутит.
– Извини, а – идеи? Взгляды? Убеждения?..
– Это в девятнадцатом веке годилось. А в двадцать первом – всё, проехали.
– Даже так?
– А ты думала! – насмешливо отбивает он мою интонацию – хорошая реакция, боксерская, – и промокает салфеткой губы: губы у Вадима большие, чувственные, как у мультяшного персонажа, и из-за них не сразу замечаешь, какое волевое у него лицо. – Все идеологии, что в девятнадцатом веке формировали политику на столетия вперед, на сегодня уже сдохли. Национализм – единственная из них, которая дожила до нашего времени. И то лишь потому, что опирается не на взгляды, а на чувства.
– Так и коммунизм опирался на чувства! На одно из банальнейших человеческих чувств – зависть. На классовую ненависть, как они это называли. Чтоб не было богатых, потому что все богатыми быть не могут, ну так пусть все будут бедными, чтобы не было кому завидовать. Разве не так?
Вадим не любит, когда ему возражают.
– Так, да не так. Ты Маркса еще не забыла? Идеи только тогда становятся материальной силой, когда овладевают массами, – помнишь такое?
– Ну помню, и что?
– А то, что никто не договаривал дальше. А дальше-то как раз самое интересное, и большевики первые это просекли – Ленин все же был гений… Как добиться того, чтоб идеи «овладели массами»? Массам же всегда было и будет, прости, насрать на какие-либо идеи – массы требуют не идей, а хлеба и зрелищ. Как в Древнем Риме, и всегда так было и будет. Просто до сих пор ни одно общество в истории не могло им этого обеспечить, по причине низкого уровня экономики. Современный Запад впервые приблизился к идеалу: сытый обыватель сидит после работы с пивком у телевизора. Все управление страной свершается за его спиной, ему только показывают головы в телевизоре, показывают парламентскую трибуну – там выступают, спорят, разные люди стараются его переубедить, у него появляется чувство собственной весомости: будто бы он что-то значит, что-то решает… И время от времени он ходит на избирательный участок, бросает в урну бюллетень – и остается при своем иллюзорном мнении, будто это он всех этих людей избрал, нанял, он руководит страной… И он доволен собой – а самодовольный никогда не взбунтуется. То, что бюллетени он бросал за тех, кого чаще всего видел на экране в наиболее выгодных ракурсах, ему и в голову не приходит. А если и приходит, то он эту мысль сразу же гонит прочь, потому что она грозит завалить весь его комфортно устроенный мир. Ты следишь за моей мыслью? Что-то ты ничего не ешь…
– Я уже ужинала, спасибо. Так что же все-таки с идеями, которые овладевают?..
– Да нет их, идей, теперь в большой политике. В том-то все и дело, Дарина. Бери сыр. Это все иллюзии доинформационной эпохи – социализм там, либерализм, коммунизм, хренизм… Девятнадцатый век еще во все это верил – отрыжка Просвещения. А на самом деле, сколько ни пиши на заборе сама-знаешь-что, – за забором-то все равно дрова… Вон во Второй мировой воевали друг с другом два социализма, русский и немецкий, – и кто сегодня об этом вспоминает? Какие там идеи, кого они колышат… Массами правят не идеи, а определенные комплексы чувств, достаточно простые, чтоб их можно было просчитать. Самодовольство, зависть, обида, страх – ты же изучала психологию, сама должна знать… А идеи в политике – там, где реально нужна поддержка масс, – выполняли ту же функцию пусковой кнопки, что и слоган в рекламе.
– В смысле – влияли на подсознание?
– Ну да. Мобилизовывали определенные комплексы чувств и замыкали их на себе. Как у собак Павлова. Вот ты правильно сказала: коммунизм – это мобилизация зависти. Значит, фокус-группа здесь – социально ущемленные, это актив, на который можно опереться. Известно ведь, что наилучшие погромщики вырастают из тех, кто сам пострадал от погрома. Вон как большевики ловко российское еврейство использовали, пока не укрепились при власти… Актив мобилизуется через зависть, через желание реванша, – а пассив, большинство, вгоняется в страх, чтобы заблокировать сопротивление. И всё – никакая идеология больше не нужна!
– Хочешь сказать, что именно таким был первоначальный замысел?
– Таким не таким – какая теперь разница! Главное, что Ленин сделал гениальное открытие: не идеология является «материальной силой» на самом деле – а политтехнология! – Последнее слово Вадим выговаривает с таким смаком, будто оно съедобное. – На словах массам можно втюхивать все что угодно – сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, без какой-либо связи с предыдущим! Сегодня распускаем армию, завтра расстреливаем дезертиров, сегодня признаем независимость Украины, завтра приводим на штыках свое марионеточное правительство, сегодня раздаем земли крестьянам, завтра отбираем… Любой финт можно оправдать политической целесообразностью для данного момента, и пипл все схавает. Но – только до тех пор, пока давить на ту же кнопку! На тот же самый, то есть, комплекс чувств. А давить можно до бесконечности, если у тебя в руках не только силовые структуры, но и все СМИ, – и это еще у Ленина телевидения не было!.. Только нельзя менять кнопку, ни в коем случае нельзя, иначе машина взорвется. Вон Горбачев попробовал, и вишь, что получилось?
– Подожди, Вадим, я что-то и правда тебя уже не догоняю… Ты говоришь про политическую историю – или про механизм захвата власти криминальными группами?
Вадим морщится, но по-дружески: на этот раз он услышал мой пук и дает понять, что в обществе серьезных людей такой запах не приветствуется:
– Я про успешную политику говорю, Дарина. Возьми сыр, бри хороший, свежий… А политика – это всегда борьба за власть.
– Зачем?
– Что – зачем? – не понимает Вадим.
– Бороться за власть – зачем? Прийти к ней, сесть и сидеть? И отгонять других посягателей? Или все-таки власть это средство, чтобы реализовать какие-то, уж извини за выражение, идеи?.. Какие-то свои взгляды на то, как должна развиваться твоя страна и как вообще человечеству выгрести из той задницы, в которую его загнали «успешные политики»? Ты прости, я понимаю, что говорю ужасные банальности, но я и правда что-то не въезжаю…
Мы никогда не вели с ним таких разговоров, с Вадимом. Когда он внезапно позвонил мне в десятом часу вечера – «Привет, Дарина, это Вадим, есть к тебе разговор» – и огорошил, что сейчас за мной заедет, я могла себе представить что угодно (первая мысль была: что-то с Катруськой!) – только не эту лекцию в пустом ресторане по основам политического цинизма. Если он действительно хотел предостеречь меня, чтоб я сидела и не рыпалась по поводу того конкурса красоты, так это можно было сделать и по телефону. Тем не менее я почему-то не удивляюсь, послушно задаю вопросы, поддерживаю его игру. Словно беру у Вадима интервью на камеру (интересно, есть ли здесь камеры наблюдения?). Словно собираюсь однажды предъявить это интервью Владе, которая незримой тенью стоит между нами: это она оставила мне Вадима – как вопрос, на который сама не нашла ответа.
Вадим неторопливо дожевывает, снова промокает губы салфеткой и, аккуратно свернув, кладет ее рядом с тарелкой. После чего поднимает на меня глаза – утомленный взгляд государственного мужа, смесь скуки, снисходительности, иронии и сожаления:
– Ты что же полагаешь, Буш ночи не спит и думает, как спасти мир? Или Шрёдер, который Германию на российскую газовую иголку посадил? Или Ширак? Или Берлускони?..
– Да при чем здесь газ? Если они все уроды, это же не значит…
– Ну ты даешь! – развеселившись, перебивает Вадим. – Как это «при чем газ»? Власть – это энергоносители, голубушка! Именно они – ключ к мировому господству – были, есть и будут таковыми!
– Где-то я это уже слышала – про мировое господство…
Вадим снова зыркает на меня пристрельным, прищуренным глазом внимательного, все время внутренне сосредоточенного человека. (Где, где я видела этот взгляд? Ночь, тьма, красноватые отсветы огня на лицах…)
– Если ты намекаешь на Гитлера, то он как раз самое лучшее доказательство, что серьезному политику наличие идей только вредит. Противопоказано. Идеи у бедного Адика были – и, что хуже всего, он в них верил.
На мгновение меня охватывает отчаяние – словно мы с Вадимом говорим на разных языках: употребляем одни и те же слова, только у моих и у его слов – разные значения, и я не знаю, как из этой путаницы выбраться. А у него речь катится как под горку, и он явно получает удовольствие от процесса – от того, что она так хорошо катится:
– У большевиков Гитлер научился главному – технологии управления массами. И кнопку нашел правильно: национальная обида, комплекс веймарского поражения. Плюс та самая зависть социально обделенных, что и у большевиков. Вот и получилось «немецкое государство рабочих и крестьян» – на порядок успешнее, чем у русских, кстати. Если бы Гитлер, извини, не ёбнулся на идее добыть своему дражайшему немецкому народу мировое господство, – а это идея стопроцентно дебильная, никакой народ не может господствовать над миром, могут только корпорации, и так всегда было, есть и будет… Если б не было у него, короче, в голове идиотских фантазий, тогда бы вся история пошла другим путем. И США сегодня значили бы не больше, чем Гондурас. Или там, Новая Зеландия.
– Лоханулся, значит, Адик?..
Вадим не принимает моей иронии:
– Именно так – лоханулся! Сталин не зря до последней минуты не мог поверить, что тот на него нападет. Что такого уровня политик может оказаться таким идейным мудаком – словно студентик какой-нибудь. Могли же, как договорились в тридцать девятом, поделить между собой мир на сферы влияния, и все бы обошлось. И кровушки, между прочим, куда бы меньше пролилось… Я когда-то в университете диплом по Курской битве писал – страшное дело, скажу тебе: такое впечатление, будто с обеих сторон только и думали, как бы побольше своих солдат замочить. Вот тебе и твои идеи.
– Может, имеет все же значение, какие они, эти идеи?
– Да какие бы ни были, Дарина! В политике они только мешают, как информационный шум. Поверь мне, я в этом дерьме не первый год ковыряюсь. Без перчаток, – уточняет так, будто это уже какой-то особенно изысканный эксклюзив. – Сейчас на очереди новый передел мира – тот статус-кво, что сложился после Второй мировой, уже давно трещит по всем швам, эпоха Ялты себя исчерпала… Подумай сама, ты же умная женщина. Ты что же, действительно веришь, будто нью-йоркские Башни смогла вот так вот, самопалом, завалить горстка каких-то безбашенных арабов, не пойми откуда взявшихся? И Буш, у которого, между прочим, давний семейный бизнес с саудовскими нефтяными шейхами, полез в Ирак спасать мир? А чуть было не взорванные жилые дома в Рязани, когда Путин собирался бросить на Чечню Таманскую дивизию, из рязанцев же и состоящую, – не тот же сценарий? Только в России грубее сработали, и все в курсе, что то было дело рук ФСБ. Но уже поздно, дело сделано. И дорога к каспийским нефтепромыслам расчищена – еще Грузия там путается под ногами, но и до нее время дойдет… Теперь вот в Штатах какой-то ваш брат журналист делает фильм про 11 сентября – хочет доказать, что это тоже была политтехнологическая провокация и что Буш о ней знал заранее…








