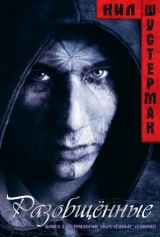
Текст книги "Разобщённые (ЛП)"
Автор книги: Нил Шустерман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
2 • Мираколина
О том, что её тело посвящено Богу, девочка знает всю свою сознательную жизнь.
Она всегда отдавала себе отчёт в том, в том, что она – десятина, и в день, когда ей исполнится тринадцать, принесёт себя в жертву и исполнится благодати, познав великую тайну: её тело будет разделено, а душа образует широко раскинувшуюся сеть. Сеть не в компьютерном понимании – поскольку передать душу в компьютерное «железо» можно только в кино, и ни к чему хорошему это не приводит. Нет, её дух вместе с частями её тела самым что ни на есть реальным образом сплетётся воедино с живой плотью десятков людей. Кое-кто называет это смертью, но она убеждена, что это нечто иное, нечто, овеянное мистикой, и она верит в это каждой частичкой своей души.
– Я полагаю, никто не может познать состояние распределённости, пока не испытает его на собственном опыте, – сказал как-то её духовник. Её поражало, как это священник, человек, столь убеждённый во всём, что касается церковных догм, становится таким неуверенным, рассуждая о жертвовании десятины.
– Ватикан ещё не определил свою позицию по отношению к расплетению, – указывал священник. – Ни признал его, ни осудил. Так что пока я имею полное право испытывать неуверенность.
Она всегда возмущалась, когда священник называл жертвование десятины расплетением – как будто это одно и то же. Совершенно разные вещи! С её точки зрения, расплетение существует для прóклятых и нежеланных, а для благословенных и любимых – десятина. Процесс, возможно, одинаков, но его сокровенный смысл иной, а в этом мире сокровенный смысл – это всё.
Её зовут Мираколина – от итальянского miracolo, что значит «чудо». Ей дали это имя, потому что она была зачата для того, чтобы спасти жизнь своему брату. Маттео поставили диагноз «лейкемия», когда ему исполнилось десять лет. Чтобы вылечить сына, вся семья переехала из Рима в Чикаго, но даже в Штатах с их огромным количеством банков донорских органов не нашлось подходящего костного мозга – у мальчика оказалась редкая группа крови. Чтобы спасти его, надо было создать точный аналог его ткани, и родители так и поступили. Через девять месяцев родилась Мираколина, врачи извлекли из её бедра костный мозг и пересадили Маттео. Жизнь брата была спасена. Вот так просто. Сейчас ему двадцать четыре, он учится в аспирантуре – и всё благодаря Мираколине.
Но о том, что она является десятой частью некоей значащей совокупности, девочка узнала ещё до того, как уразумела, что значит быть десятиной.
– Мы создали десять эмбрионов в пробирке, – как-то рассказала ей мать. – Из них только один подходил Маттео – ты. Так что, mi carina [7]7
Моя дорогая. Смесь итальянского и испанского.
[Закрыть], ты появилась на свет не в результате слепого случая. Мы тебя выбрали.
В отношении остальных эмбрионов закон содержал чёткие инструкции. Семья Мираколины должна была заплатить девяти женщинам за то, чтобы те выносили их. После этого суррогатные матери могли делать со своими младенцами, что им заблагорассудится – либо сами вырастить их, либо подкинуть в хорошие дома.
– Это стоило любых затрат, – говорили Мираколине родители. – Ты и Маттео – самое дорогое, что у нас есть.
И вот теперь, когда подходит время для её жертвы, Мираколине приносит умиротворение мысль о том, что где-то в большом мире у неё есть девять близнецов. И кто знает, может быть, какая-то часть её разобщённого тела попадёт и к её неизвестным братьям-сёстрам...
Но причины, по которым она стала десятиной, не имеют ничего общего с процентами и прочими скучными цифрами.
– Мы заключили с Господом договор, – так говорили ей родители, когда она была совсем крошкой, – что если ты родишься и Маттео будет спасён, мы выкажем Ему свою благодарность тем, что отдадим тебя обратно в виде десятины.
Даже в том нежном возрасте Мираколина понимала, что такой великий договор нарушить непросто.
Однако время шло, и её родители, по-видимому, раскаялись в принятом решении.
– Прости нас! – не раз и не два умоляли они дочку, часто со слезами на глазах. – Пожалуйста, прости нас за то, что мы сделали!
И она прощала их, хотя никак не могла взять в толк, почему они просят у неё прощения. Мираколина всегда была убеждена, что быть десятиной – это благословение; ведь ей известны её предназначение и судьба – без всяких сомнений и метаний. Почему родители сожалеют о том, что наделили её существование целью и смыслом?
Может быть, они чувствовали себя виноватыми, потому что не устроили ей подобающего праздника? Но ведь она сама так решила!
– Прежде всего, – заверила она родителей, – приношение десятины должно быть актом торжественным, а не шумным. А во-вторых, кто бы пришёл на этот праздник?
Им нечего было ей возразить. Большинство детей-десятин происходят из богатых семей, живущих в фешенебельных пригородах, и, как правило, принадлежит к различным конфессиям, у которых жертвование десятины в обычае. Но семья Мираколины живёт в рабочем районе, где подобные традиции не очень-то приветствуются. Когда ты входишь в круг богатеньких и друзья у тебя из той же прослойки общества, то к тебе на прощальную вечеринку придёт масса людей, для которых десятина – дело естественное, и те гости, кому она не по душе, будут на их фоне незаметны. Но если бы такую вечеринку устроили для Мираколины, то не в своей тарелке чувствовали бы себя всеприглашённые. Девочке хотелось, чтобы её последний вечер с родными прошёл по-другому.
Так что – никакого праздника. Вместо него Мираколина и её родители сидят перед камином и смотрят любимые сцены из любимых кинофильмов. Мама даже приготовила излюбленное блюдо дочери – ригатони Аматричиана. «Оригинальные и острые, – говорит мама, – как ты сама».
Мираколина спит в эту ночь спокойно и крепко, ей не снятся неприятные сны – во всяком случае, она их не помнит – а утром встаёт рано, надевает свои простые, будничные белые одежды и сообщает родителям, что отправляется в школу.
– За мной ведь приедут не раньше четырёх пополудни, так зачем же зря день терять?
И хотя родители предпочли бы, чтобы она осталась дома, с ними, сегодня желания их дочери – закон.
В школе она сидит на уроках, уже ощущая мечтательную отстранённость от всей этой суеты. В конце каждого урока девочка получает собрание её классных работ и табель с оценками, выставленными раньше обычного срока, и все учителя говорят одно и то же, хоть и разными словами:
– Ну что ж, я так понимаю, вот и всё...
Большинство учителей желает только, чтобы она поскорее покинула классную комнату. И лишь учитель физики выказывает бóльшую доброту и уделяет девочке толику внимания.
– Мой племянник-десятина был пожертвован несколько лет назад, – говорит он. – Чудесный мальчик. Мне его ужасно не хватает. – Он замолкает и задумывается. – Мне сказали, что его сердце досталось одному пожарному, который спас из огня десяток людей. Не знаю, правда ли это, но предпочитаю думать, что правда.
Мираколина тоже предпочла бы верить в это.
Её одноклассники ведут себя так же неуклюже, как и учителя. Некоторые из них официально прощаются, даже неловко обнимают её, но основная масса бормочет слова прощания издалёка, как будто она заразная, как будто и они могут из-за неё попасть под расплетение.
А есть и другие. Жестокие.
– Ещё свидимся... там или сям! – доносится до неё голос из-за спины во время ланча.
Ребята вокруг хихикают. Мираколина поворачивается, и мальчишка пытается спрятаться за спинами своих приятелей, надеясь, что здесь, в этом облаке зловонных потливых школяров он в безопасности, но она узнаёт его по голосу. Девочка проталкивается сквозь толпу и холодно смотрит в парню в глаза.
– Мы-то не свидимся, Зак Расмуссен. Но если с тобой свидится какая-то часть меня, я уж найду способ сообщить тебе об этом.
Лицо Зака слегка зеленеет.
– Проваливай на все четыре стороны, – говорит он. – Иди обдесятинься! – Однако под его глупой бравадой угадывается тайный страх.
«Вот и хорошо, – думает Мираколина. – Надеюсь, кошмары на несколько ночей ему обеспечены».
Её школа большая, так что хотя десятины – не очень частое явление в их районе, здесь есть ещё четверо других, тоже одетых во всё белое, как и она сама. Было шесть, но двое старших уже ушли. Эти оставшиеся десятины – её настоящие друзья. Вот им она обязательно скажет своё последнее прости. Странно – все они из разных социальных слоёв и у них разная вера, они принадлежат определённым сектам в рамках различных религий; и эти секты воспринимают их готовность к самопожертвованию очень серьёзно. Забавно, думает Мираколина, ведь эти религии тысячелетиями противостояли друг другу, и тем не менее в отношении десятины они выступают единым фронтом.
– Нас просят отдать себя на благо общества и забыть о собственных интересах, – говорит Нестор, мальчик-десятина, по возрасту наиболее близкий к Мираколине – ему до срока остаётся ещё месяц. Он тепло прощается с девочкой, пожимает ей руки. – Если технологии открывают нам новый путь к самоотречению – разве это плохо?
Вот только есть всё-таки люди, считающие расплетение злом. Причём таких людей становится в наши дни всё больше и больше. Взять хотя бы того бывшего десятину, который стал хлопателем. Его всем ставят в пример. Тоже ещё нашли образец для подражания! У него явно не все дома, как у всех хлопателей. На взгляд Мираколины, если кто-то предпочитает взлететь на воздух, лишь бы не приносить себя в жертву – то это то же самое, что украсть из церковной кружки. Скажете, не так? Вот что на самом деле никуда не годится!
После уроков девочка возвращается домой, как будто это самый обычный день. Поворачивая на свою улицу, она видит на подъездной аллее автомобиль своего брата. Поначалу Мираколина удивляется – ведь брат живёт в пяти часах езды отсюда! И всё же это так приятно: Маттео приехал проводить её.
Три часа пополудни, за ней явятся через час. Родители уже плачут. Как бы ей хотелось, чтобы они этого не делали, чтобы воспринимали происходящее с тем же стоицизмом, что она или Маттео – тот всё это время вспоминает только хорошее.
– Помнишь, когда мы поехали в Рим и ты захотела поиграть в прятки в Музее Ватикана?
Мираколина улыбается. Она тогда попыталась спрятаться в ванне Нерона – здоровенной чаше тёмно-красного камня, в которой легко и свободно поместился бы слон.
– Охранник так разорался! Я думала, они поволокут меня к его святейшеству и тот собственноручно высечет меня. Как я удирала!
Маттео смеётся.
– Да, тебя не было целый час, и мама с папой волосы на себе рвали – думали, что ты заблудилась.
Заблудилась – неправильное слово. В музее заблудиться нельзя; ты попросту словно растворяешься в его стенах. Мираколина помнит, как шла через толпы, наводняющие Ватикан, помнит, как стояла в самой середине Сикстинской капеллы и вбирала в себя шедевры Микеланджело. И там, в центре, она зрела божественную связь между небом и землёй. Так близка рука Адама к руке Божией, и оба напрягаются из последних сил, чтобы дотянуться друг до друга, но непомерный груз земного тяготения не позволяет Адаму коснуться небес...
Она стояла и смотрела вверх, забыв, что ей полагается прятаться – ибо кто может спрятаться в месте, где вот-вот готова раскрыться Тайна? Именно здесь родные и обнаружили её – среди сотен туристов, рассматривающих величайшее произведение искусства, когда-либо сотворённое человеком, его самую дерзкую попытку причаститься совершенству.
Ей было всего шесть, но уже тогда образы капеллы говорили с ней, хотя она и понятия не имела, о чём. Но малышка ощущала, что она сама – в точности как эта прекрасная капелла, и если бы кто-нибудь мог проникнуть в её внутренний мир, то увидел бы там великолепные фрески, украшающие стены её души.
Небольшой нарядный фургон приходит на десять минут раньше срока и ждёт на улице. На его боках красуется логотип: ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ЛЕСИСТАЯ ЛОЩИНА! ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЮНЫХ!
Мираколина уходит в свою комнату забрать чемоданчик с нехитрыми пожитками: несколькими сменами белых десятинных одеяний и предметами первой необходимости. Родители теперь плачут не переставая и опять просят прощения. На этот раз она сердится:
– Если жертвоприношение вызывает у вас чувство вины, то это не моя проблема, потому что в моей душе царит мир. Будьте добры, из уважения ко мне примиритесь и вы!
Ничего не помогает. Даже наоборот – слёзы льются ещё обильнее.
– Ты потому примирилась с этим, – говорит отец, – что мы тебя так настроили. Это наша вина. Мы так страшно виноваты перед тобой!
Мираколина взглядывает на них и пожимает плечами.
– Тогда измените своё решение. Разорвите договор с Господом и не приносите меня в жертву.
Они смотрят на неё так, будто она только что преподнесла им чудесный дар – отсрочку от преисподней. Даже Маттео загорается надеждой.
– Да, мы так и поступим! – восклицает мать. – Мы ведь ещё не подписали ордер окончательно. Мы всё ещё можем передумать!
– Отлично, – роняет Мираколина. – Вы уверены, что хотите именно этого?
– Да, – отвечает отец. На лице его написано несказанное облегчение. – Да, мы уверены!
– Точно?
– Да.
– Прекрасно. Вы избавились от чувства вины. – Мираколина подхватывает свой чемоданчик. – Но независимо от вашего выбора я всё равно ухожу. Теперь я делаю свой выбор.
Затем она обнимает мать, отца и брата и уходит, не оглядываясь и даже не сказав «прощайте». Потому что прощание подразумевает конец, тогда как Мираколина Розелли больше всего в своей жизни хотела бы сейчас верить в то, что её жертва – это начало.
• • •
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
«Когда поведение Билли стало совершенно невыносимым и мы начали опасаться за собственную безопасность, оставался только один выход. Мы отослали его в заготовительный лагерь, чтобы наш сын смог обрести смысл жизни в распределённом состоянии. Но сейчас, когда возрастной ценз запрещает расплетение семнадцатилетних, у нас не было бы такой возможности. Как раз на прошлой неделе одна семнадцатилетняя девушка в нашем жилом районе напилась, разбила свою машину и убила двоих ни в чём не повинных людей. Вопрос: а если бы её родители могли послать свою дочь в заготовительный лагерь – может быть, несчастья бы и не произошло? Вот то-то же».
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПОПРАВКУ №46! Отмените Параграф-17! Возрастной ценз на расплетение должен быть повышен!
Оплачено организацией Граждане за Здоровое Завтра
• • •
До лагеря «Лесистая Лощина» три часа езды. Фургончик просто роскошный – кожаные сиденья, из дорогих динамиков доносится поп-музыка. Водитель – мужчина с седой бородой и широкой улыбкой – старательно балагурит. Ни дать ни взять Санта-Клаус репетирует к Рождеству.
– Ну что, великий день настал? Волнуешься? – спрашивает Шофёр-Клаус, увозя Мираколину прочь от родного дома. – Вечеринка, небось, весёлая была?
– Да и нет, – отвечает она. – Волнуюсь, но вечеринки не было.
– О-о... Что ж так? Почему?
– Потому что десятине не пристало выставлять себя напоказ.
– О, – это всё что может сказать Шофёр-Клаус. Ответ Мираколины способен в корне задушить любое желание бездумно болтать. И очень хорошо. Она вовсе не собирается выкладывать этому человеку историю своей жизни, неважно, насколько он симпатичен и приятен.
– Там в баре – напитки, – сообщает водитель, – пей, сколько хочешь, – и оставляет её в покое.
Проходит двадцать минут, но вместо того, чтобы повернуть на интерстейт [8]8
На случай, если кто подзабыл: так называют большое автомобильное шоссе, проходящее по территории нескольких штатов.
[Закрыть], они въезжают в другой жилой посёлок – обнесённый забором с воротами.
– Надо подобрать ещё одного десятину, – поясняет Шофёр-Клаус. – По вторникам много народу не бывает, так что это единственная остановка. Надеюсь, ты не возражаешь.
– Нисколько.
Они подруливают к дому, который по меньшей мере раза в три больше, чем жилище родителей Мираколины. На пороге в сопровождении всей семьи стоит мальчик в белых одеждах. Мираколина не смотрит, как он прощается с близкими, она отворачивается к другому окну: прощание – дело интимное. Наконец Шофёр-Клаус открывает дверцу и мальчик влезает в фургон. У него идеально подстриженные прямые тёмные волосы, ярко-синие глаза, а кожа белая, словно фарфоровая, как будто мальчика никогда не выпускали на солнце – наверно, хотели, чтобы в его великий день кожа у него была, как попка младенца.
– Привет, – говорит он застенчиво. Его белое одеяние – из сияющего атласа и отделано тончайшей золотой тесьмой. Да, родители этого мальчика не постояли за расходами. У Мираколины одежда из неотбелённого шёлка-сырца – чтобы её белизна не ослепляла и не притягивала излишнее внимание именно к костюму самому по себе. По сравнению с ней этот мальчик – ходячая неоновая реклама.
Сиденья в фургоне расположены не рядами, а вдоль бортов – чтобы десятины могли познакомиться и подружиться. Мальчик садится напротив Мираколины, пару секунд раздумывает, а затем протягивает ей руку для пожатия.
– Тимоти, – представляется он.
Она пожимает его руку, липкую от холодного пота. Такими бывают ладони у участников школьной театральной постановки перед началом спектакля.
– Меня зовут Мираколина.
– Ух ты, какое длиннющее! – Тут Тимоти испускает смущённый смешок; по-видимому, сердится на себя за то, что ляпнул такую глупость. – А как тебя вообще называют – Мира, или Лина, или ещё как? Ну, чтоб покороче?
– Мираколина, – отрезает она. – И никаких «покороче».
– Ладно, ладно. Приятно познакомиться, Мираколина.
Машина трогается, и Тимоти машет своим многочисленным родственникам, всё ещё стоящим у дома, и они машут ему в ответ, хотя не могут видеть его сквозь затемнённые стёкла. Фургон разворачивается и катит обратно, к выезду из посёлка. Они даже ещё до конца улицы не доехали, а Тимоти, судя по его виду, уже не по себе, словно у него болит живот; но Мираколина знает: даже если у него и вправду неладно с животом, то это признак кое-чего другого. Этот мальчик пока не примирился с тем, что ему предстоит. А если и примирился, то потерял покой в тот самый момент, когда закрывшаяся дверца фургона перерезала пуповину, связывающую его с прежней жизнью. И хотя Мираколину коробит от его роскошного костюма и эксклюзивного жилого комплекса, в ней вдруг прорастает жалость к этому мальчику. Его страх висит в окутывающем их воздухе, словно паутина, полная чёрных вдов. Это нехорошо. Никто не должен идти навстречу своему жертвоприношению со страхом в душе.
– Значит, мы будем ехать часа три? – дрожащим голосом спрашивает Тимоти.
– Да! – бодро отзывается Шофёр-Клаус. – Там у вас есть развлекательная система, на ней запрограммированы сотни фильмов, чтобы не было скучно в пути. Вы сами разберитесь.
– Ага, хорошо, конечно... – говорит Тимоти. – Может, попозже...
На несколько минут он уходит в себя. Затем поворачивается к Мираколине.
– Говорят, с десятинами в лагерях обращаются очень хорошо. Как думаешь, это правда? Говорят, там весело, и много таких, как мы. – Он прочищает горло. – Говорят, мы даже можем выбрать день, когда нас... когда мы... ну, ты понимаешь...
Мираколина тепло улыбается ему. Обычно такие десятины, как Тимоти, прибывают в заготовительный лагерь в лимузинах, но она знает, почему почему мальчик предпочёл фургон – ей и спрашивать не нужно. Он не хочет проделать этот путь в одиночестве. Ну что ж, если судьба свела их вместе в этот замечательный день, она, Мираколина, станет тем другом, в котором Тимоти так нуждается.
– Уверена, заготовительный лагерь окажется именно таким, как ты ожидаешь, – говорит она. – И когда ты выберешь свой день, ты сделаешь это потому, что будешь готов. Вот почему нам разрешается выбрать самим. Чтобы это было нашимрешением, а не чьим-то чужим.
Тимоти пронзительно смотрит на неё своими прекрасными глазами.
– Ты, кажется, совсем не боишься?
На вопрос она отвечает вопросом:
– Ты когда-нибудь летал на самолёте?
– А? – Тимоти слегка сбит с толку резкой переменой темы. – Ну да, много раз.
– А когда летел в самый первый раз – боялся?
– Ну да, наверное... кажется, боялся.
– Но ты всё равно сел в самолёт. Почему?
Он пожимает плечами.
– Ну, я же должен был попасть куда надо, к тому же со мной были мама и папа. Они сказали, что всё будет хорошо.
– Вот видишь, – указывает Мираколина. – Здесь точно так же.
Тимоти по-детски наивно хлопает глазами. Ну и видок у него – пожалуй, у самой Мираколины никогда такого не было.
– Значит, ты действительно не боишься?
Она вздыхает и признаётся:
– Боюсь. Очень боюсь. Но когда ты знаешь, что в конце концов всё будет хорошо, то ты можешь не обращать внимания на страх, даже наслаждаться им. Его можно поставить себе на службу.
– А, кажется, я понял! – говорит Тимоти. – Это как со страшным кино, да? Тебе и страшно, и интересно, потому что ты же знаешь – это всё не взаправду, и неважно, что у тебя поджилки трясутся. Правильно? – Он на секунду призадумывается. – Но ведь расплетение – это взаправду! Это же не кино – выйти и отправиться домой нельзя! И не самолёт – с самолёта можно сойти, пока он ещё не взлетел...
– А знаешь что? – произносит Мираколина, прежде чем Тимоти успевает снова свалиться в кишащую пауками яму своего отчаяния. – Давай посмотрим сейчас какой-нибудь ужастик и избавимся от наших страхов ещё до того, как попадём в лагерь!
Тимоти покладисто кивает.
– Ага, давай...
Но пролистав список всех фильмов, девочка обнаруживает, что среди них нет ни одного ужастика. Только детские и комедии.
– Ничего, – говорит Тимоти. – Если честно, я всё равно не люблю ужастики.
Через несколько минут они выезжают на интерстейт и несутся на полной скорости. Тимоти занимает себя видеоиграми, лишь бы не давать своему разуму снова уйти во тьму, а Мираколина надевает наушники и слушает собственную музыкальную подборку – как бы ни была она эклектична, она всё же лучше, чем заурядные поп-хиты, заложенные в мультимедийную систему фургона. На её айчипе 2 129 песен, и девочка намерена прослушать их все до того дня, когда она войдёт в состояние распределённости.
Через два часа и тридцать песен фургон съезжает с интерстейта и поворачивает на живописную дорогу, петляющую по густому лесу.
– Осталось всего полчаса, – сообщает Шофёр-Клаус. – Мы прибываем даже раньше намеченного времени!
Но тут дорога делает поворот, и водитель бьёт по тормозам. Фургон с визгом останавливается.
Мираколина стаскивает наушники.
– Что происходит?
– Оставайтесь внутри! – приказывает Шофёр-Клаус, растерявший всю свою весёлость, и выпрыгивает из машины.
Тимоти тут же прижимает нос к стеклу.
– Ой, кажется, случилось что-то плохое.
– Да уж, – соглашается Мираколина, – ничего хорошего.
Прямо у дороги, в кювете, они видят другой фургон, принадлежащий заготовительному лагерю «Лесистая Лощина», но он валяется колёсами кверху. Невозможно понять, как долго он здесь так пролежал.
– Должно быть, у них шина разорвалась или ещё что – вот они и слетели с дороги, – предполагает Тимоти. Но что-то непохоже – все шины у фургона вроде бы целые.
– Надо позвонить в службу помощи, – говорит Мираколина. Но в заготовительном лагере телефоном пользоваться нельзя, так что ни у неё, ни у Тимоти нет с собой мобильника.
И в этот момент снаружи начинается суматоха. Полдюжины человек в чёрном с лицами, закрытыми лыжными масками, выскакивают из лесу со всех сторон. Водитель получает транк-пулю в шею и валится на землю, как набитое соломой чучело.
– Закрой двери! – вопит Мираколина и, не дожидаясь Тимоти, отталкивает его и кидается к незапертой дверце водителя. Но поздно. В тот момент, когда её ладонь дотягивается до замка, дверь распахивается и неизвестный в маске нажимает на кнопку, разблокирующую все замки. В то же мгновение налётчики одновременно открывают все двери. Сразу ясно: они проделывают это не впервые, приёмы отработаны. Руки чужаков вцепляются в верещащего Тимоти и вытаскивают его из машины. Он пытается вывернуться, но без толку. Если его страх – это паутина, то теперь он попал в лапы к паукам.
Двое других нападающих пытаются схватить Мираколину, она падает на пол и лягается изо всех сил.
– Не смейте трогать меня! Не смейте!
Страх, который она до этого держала под жёстким контролем, вырывается на волю, потому что неизвестность, которую влечёт за собой это нарушение установленного порядка вещей, куда страшнее неизвестности заготовительного лагеря. Она яростно лягается, кусается и царапается, но сопротивляться бесполезно: слышится выразительное «пффт» – это выстреливает транк-пистолет, и девочка ощущает острый укол в руку. Мир застилает темнота, и Мираколина проваливается в безвременье, куда отправляются все усыплённые души.
• • •
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
«Ты не знаешь меня, но среди твоих знакомых наверняка есть люди, история которых похожа на мою. Мне поставили диагноз рака печени на той же неделе, когда пришло письмо из Гарварда с уведомлением о поступлении. Мы с родителями и думать не думали, что это возникнут какие-то сложности, но в беседе с моим врачом выяснилось, что существует общий дефицит органов, в том числе печени. Мне сказали, что я должен стать на очередь. Но даже теперь, три месяца спустя, мне ещё далеко до верхней строчки списка. А что с тем письмом из университета? Да ничего. Полагаю, моё образование тоже должно стать в очередь.
И теперь те же самые люди, которые добились снижения возрастного ценза для расплетения, предлагают давать родителям шестимесячную отсрочку после подписания ордера – на случай, если они изменят своё решение. Шесть месяцев?! Через шесть месяцев меня не будет в живых».
НИКЧЕМНЫЕ ДЕБАТЫ – ЭТО УБИЙСТВО! ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПОПРАВКУ № 53!
Спонсор: Родители за Светлое Будущее
• • •
Просыпаться после транкирования – то ещё удовольствие. Вместе с возвращающимся сознанием приходят жуткая головная боль, ужасный привкус во рту и щемящее чувство, что у тебя что-то отняли.
Придя в себя, Мираколина слышит рядом чей-то плач и мольбы о пощаде. Голос принадлежит Тимоти. Он, без сомнения, не из тех парней, которые держат удар в подобных обстоятельствах. Однако девочка не может видеть его, потому что на её глазах плотная повязка.
– Всё в порядке, Тимоти, – обращается она к товарищу по несчастью. – Что бы ни происходило, я уверена – всё будет хорошо.
Звук её голоса действует на Тимоти успокаивающе: он перестаёт рыдать и жаловаться и лишь тихонько всхлипывает.
Мираколина слегка шевелится, чтобы почувствовать своё тело. Оказывается, она сидит на стуле; шея затекла – видно, девочка спала в неудобной позе. Руки стянуты за спиной, а ноги привязаны к ножкам стула. Не больно, но достаточно крепко – не вырваться.
– Хорошо, – произносит незнакомый мальчишеский голос. – Снимите с них повязки.
Повязку удаляют, и хотя комната вокруг тонет в полумраке, глазам становится больно. Мираколина прищуривается, и глаза медленно приспосабливаются и фокусируются.
Они в какой-то большой комнате с высоким потолком, скорее всего – в бальном зале. Хрустальные люстры, картины на стенах – всё это напоминает дворец, наподобие тех, в которых развлекалась французская аристократия перед тем как отправиться на плаху. Если не учитывать того, что дворец этот дышит на ладан. В потолке дыры, через которые в зал свободно проникает дневной свет и залетают голуби. Краски с картин осыпаются, в воздухе стоит затхлый запах плесени. Куда занесло Мираколину и Тимоти, как далеко они от места своего назначения – не понять.
– Приношу извинения, что пришлось с вами так поступить, – говорит мальчик, стоящий прямо перед ними. Нет, одет он совсем не как аристократ. На нём обычнейшие джинсы и голубая футболка. Волосы светло-каштановые, почти белокурые и слишком длинные, явно нестриженные уже очень, очень давно. На вид ему столько же лет, сколько Мираколине, но морщинки вокруг усталых глаз делают его старше, как будто он пережил гораздо больше того, что положено пережить мальчику его возраста. А ещё он выглядит каким-то... немного хрупким, что ли. Невозможно определить.
– Мы боялись, что вы нечаянно причините себе вред, да и нельзя было раскрывать, куда вас везут. Только так мы могли спасти вас, ничем не рискуя.
– Спасти? – вскидывается Мираколина. – Вот как вы это называете?!
– Ну, может, как раз сейчас у вас другое мнение на этот счёт, и тем не менее мы именно спасли вас.
И тут вдруг Мираколина узнаёт этого мальчика. Её накрывает волна возмущения и тошноты. Как будто всех тех неприятностей, что ей пришлось пережить, недостаточно, так теперь ещё и это?! Чем она заслужила, что её поймал именно этот... этот... Гнев и ярость, которые она сейчас чувствует, не пойдут впрок её душе, особенно на пороге жертвоприношения, но она ничего не может с собой поделать, и как бы ни пыталась, ей не удаётся справиться с горьким негодованием.
Тимоти ахает, его мокрые от слёз глаза широко раскрываются.
– Это ты! – восклицает он с тем энтузиазмом, который мальчики его возраста приберегают для встреч со звёздами спорта. – Ты тот парень-десятина, который стал хлопателем! Ты – Левий Калдер!
Их собеседник кивает и улыбается.
– Да, но друзья зовут меня просто Лев.








