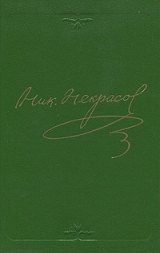
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
Поставили – всё как следует, только бы кончить да деньги получить; прихожу к полковнику – деньги прошу. «Нет, братец, денег; не вышли еще». Жду месяц, другой – и опять иду: тот же ответ – подожди. Я, знаете, и говорю: «У меня артель не ждет, ваше высокоблагородие; зима наступает; рабочие домой собираются, просят расчету, будьте отец родной, не задержите!» – «Пошел вон! – ~ закричал полковник. – Смеешь еще говорить! Коли стал умничать – нет тебе ни копейки; жди», – говорит. Я всё прошу, пристаю, ну, знаете, нужда приспичила. А он пуще сердится. «Бездельник, – говорит, – еще грубить стал; коли так – нет тебе ни копейки! Работа, – говорит, – твоя никуда не годится. Печи скверные… – и пошел, и пошел! – Завтра же, – говорит, – на твой счет всё велю переделывать. Да еще в тюрьму тебя засажу». Ну, думаю, пропала моя головушка – не видать мне моих денежек. Заплакал и пошел вон. А дома рабочие проходу не дают: напасть, да и только! Гляжу: работу мою ломают; другого подрядчика наняли; рабочие подали на меня жалобу; платиться нечем; посадили меня в тюрьму. Просидел Шесть месяцев, словно колодник какой, – выпустили: ни денег, ни одежонки; кто ни встретится на улице – стыдно в глаза взглянуть: не должен ли де ему, думаешь! Хотел идти домой – совесть не подняла; был подрядчик, а теперь приду гол-голехонек, хуже нищего. Стал работать поденщиной; что заработаю в день, то и пропью вечером, погляжу, а уж мне и работы не дают: ненадежен, говорят, шибко больно хмелем зашибается! Есть нечего; жить негде; стал на мосту, прошу милостыни, как нищий; ну, всякий стыд потерял, наберу гривны две – и в кабак; ну, разумеется, горе берет: с горя надобно выпить. Так, бишь, месяца два; мимо мосту, где я стоял, часто ходил господин, вот вы его, может быть, у меня видели – в белой шляпе; каждый раз подавал мне пятак либо грош и всё так жалостно на меня смотрел, расспрашивал. Раз идет мимо меня; я уж был впропьяни. «Батюшка, подайте гривенку, Христа ради!» – говорю ему. Он стая против меня, посмотрел в глаза и говорит: «Хочешь ли, Кирьяныч, целковый рубль получить?» – «Отчего не хотеть, как пе хотеть, – отвечаю ему, – я и гривне рад бы теперича, не токмо что целковому». – «Ну так ступай за мной», – сказал он. Я пошел. Пришли в Гороховую, к большому богатому дому. «Видишь этот дом?» – спросила белая шляпа. «Вижу». – «Тут, – говорит, – выбегает к воротам собачка небольшая, коричневая, с курносым носиком, – моська, что ли, – он назвал ее, – ты, – говорит, – подстереги собачонку, поймай, чтобы никто не видел, да ко мне и представь; право, целковый получишь, вот и задатку гривенник». – «А где вашу милость найти?» – говорю ему. «Стой, – говорит, – где всегда стоишь: я уж тебя найду сам». Украл я собачку, отдал барину, целковый получил. На другой день белая шляпа опять ко мне. Опять указал дом, поставил на месте: «Стереги, – говорит, – выбежит – поймай и тащи ко мне». Исполнил и опять целковичек получил. Белая шляпа мной не ухвалится. «Чем по миру-то тебе ходить, лучше, – говорит, – промыслом заниматься. Где ты, братец, живешь?.. Я к тебе стану сам заходить, только ты не зевай; как где у богатого дома заметишь – высунулась собачонка, – хватай и в кошель; или за господином каким идет да отстанет; я тебе по целковому за каждую буду давать». С тех пор я только тем и занимался; кучу собачонок перетаскал; белая шляпа иную возьмет, а иную и нет. Долго я думал, на что барину собачонки, да наконец один человек – тоже из наших, забулдыга такой, – надоумил меня. «Есть, – говорит, – господа, которые собак держат и очень любят. Ну, разумеется, пропадет собачонка, он рад и двадцать рублей, и больше дать, только бы нашлась… что богатому человеку двадцать рублей – плевое дело! Объявит тотчас через газеты – глядь к нему и несут». Так вот, барии, этот господин-то больно меня обижает – мало денег дает, да вот уж теперь и совсем не ходит, да и придет, так не пущу – лучше же это вам пойдет; что вам стоит газеты пробежать, приметы сличить, – а между тем на хлеб-то нам и будет. Ну что же, барин, идет, что ли?
Мне ничего более не оставалось, как умереть с голоду или согласиться на предложение. Я колебался недолго…
– Идет! – сказал я шутливо и громко, стараясь ободрить тем свою совесть…
– Идет! – повторил Кирьяныч и, встав с своего места, прибавил: – Надобно, как водится, начать дело с молитв. Вставай, барин, садись вот тут…
Мы сели против небольшого образка, бывшего над постелью Кирьяныча, и несколько минут пребывали в Молчанов. Кирьяныч встал и начал креститься; я последовал его примеру. Потом Кирьяныч подал мне руку, и мы обменялись уверениями в точном исполнении нашего договора…
Дела мои пошли очень удачно. На другой же день я побежал в кондитерскую, отыскал газету, в которой, между прочим, помещались объявления о разного рода пропажах, – от билета сохранной казны в 200 тысяч до черной собачонки, – и к величайшей радости очень скоро нашел точное и подробное описание того пуделя, который уже с неделю гостил у Кирьяныча; в заключение было сказано: «кто оную доставит (туда-то), дано будет пятьдесят рублей ассигнациями в награждение». Я чуть не запрыгал от радости; записал с точностию адрес владельца собаки и побежал домой. К вечеру мы уже разделили с Кирьянычем по тридцати рублей на брата, ибо владелец собаки в припадке восторга дал Кирьянычу десять рублей лишних, и праздновали наше торжество полуштофом французской водки. «Ну, барин, – говорил Кирьяныч, – пошло дело на лад. И вам-то приятно, да и хозяину весело! Посмотрели бы вы, как все в доме обрадовались. Барыня чуть не бросилась мне на шею; целовала пуделя, гладила, кормила сахаром; а люди-то, люди: поверите ли? точно воскресли все. Барин, он, слышь, их всех пересек, как пропала собака, и обещал внять пересечь, если на днях не найдется! Ну что? Правду я говорил: худа не будет. Да и греха, право, нет: ведь другой же украл бы всё равно и деньги бы получил, а мы бы хоть с голоду умирай. Какой тут грех! Не правда ли, барин; рассуди сам, ты грамотный, ты лучше моего понимаешь…» – «Конечно, – отвечал я, наливая себе четвертый стакан пуншу. – Какой тут грех!..»
Первый успех ободрил меня, и с большим жаром принялся я сличать приметы приводимых ежовою головою собак с приметами тех, о которых публиковалось в газетах. Редко проходил день, чтобы мы не сбыли с рук собаки; за иную получали мы десять, двадцать, тридцать рублей, была даже одна, за которую получили мы полтораста рублей. Только те объявления, в которых не обозначалось награды, а говорилось глухо: «дано будет приличное награждение», вводили нас в заблуждение, так что однажды вместо награды Кирьянычу надавали пинков. Вследствие того собак с «приличным награждением» мы перестали водить к их хозяевам, а выгоняли на улицу на волю божью.
Ученье мое пошло опять своим чередом. Отставной профессор снова возвратился к своей обязанности – ежедневно читать мне лекции латинского языка и выпивать в заключение по нескольку стаканов водки. Я значительно повеселел. Сшил себе новый сюртук, зимнюю шинель и начал даже дозволять себе некоторые прихоти. Я прежде обедал большею частью, как в просторечии говорится, «всухоежку», закупая припасы уже готовые в мелочной лавке. Теперь я стал ходить обедать к одной немке, которая содержала «кухмистерский стол», ценою от рубля до пятиалтынного с персоны. Я брал стол в пятиалтынный.
Марья Самойловна – содержательница кухмистерского стола – была женщина лет сорока, дородная и краснощекая. Она очень ласково со мной обходилась и однажды, когда я пришел обедать, подала мне рублевый обед и поставила на стол бутылку красного вина. Как все люди, которым мало встречалось случаев удовлетворять свои прихоти, я не очень долго церемонился и очень исправно опорожнивал стакан за стаканом. Марья Самойловна неотступно меня потчевала, по временам бросая на меня пронзительные взоры. Она расспрашивала меня о моем житье-бытье, о средствах, которые я имею к существованию, коснулась, наконец, квартиры, в которой я живу, и, узнав, что она весьма неудобна, сказала после некоторого размышления, кротко потупив очи:
– У меня вон там, подле спальни, есть небольшая комнатка; совсем с мебелью; для холостого человека ее очень довольно; если б я сама была мужчиной, то, право, лучше бы не желала. Переходите-ка ко мне; у меня будете иметь и стол, и чай, и всё нужное, право?
При последних словах кухмистерша взглянула на меня с такою нежностью, какую только можно сообщить лицу, заплывшему жиром и подернутому толстым слоем искусственного румянца. Я уже был столько догадлив, что тотчас понял значение ее страстного взгляда в связи с ее предложением… Посидев еще с полчаса у кухмистерши и отпустив ей, на всякий случай, несколько любезностей, я ушел домой, сказав, что подумаю об ее предложении.
В самом деле было об чем подумать. Житье в сером подвале начинало уже мне надоедать. Будучи от природы довольно слабого сложения, я чувствовал, что сырость, постоянно господствовавшая в подвале, очень вредно действует на мою грудь. Кроме того, как ни выгоден был промысел, которым мы занимались, призвания посвятить себя мошенничеству я не чувствовал. Следовательно, вырваться из такого положения для меня было чем скорее, тем лучше. Случай, хоть, правда, тоже не весьма благовидный, наконец представился. Оставалось только решить, что лучше – пользоваться ли любовью некоторых господ к собакам или благосклонностью кухмистерши. При мысли о собачьем промысле душа моя возмущалась и совесть вопияла громко и гневно; при полном и точном представлении мясистых прелестей жирной кухмистерши волосы становились дыбом на голове моей, холодный пот градом катился со лба и по телу пробегали мурашки. Дорого бы я дал тогда тому, кто разрешил бы мне трудный вопрос, – в котором из представлявшихся мне двух случаев менее страдало мое человеческое достоинство?
Наконец после долгих размышлений я решился пожертвовать, как тогда сам сказал себе, «выгодами тела выгодам духа», то есть, говоря проще, переехать к кухмистерше.
Я жил у нее около трех месяцев, продолжая заниматься приготовлением к экзамену. Не имея уже более руководителя в латинском языке, но узнав уже первые основания его довольно порядочно, я начал посещать университет в качестве вольного слушателя и с большим нетерпением ждал экзамена, время которого с быстротой приближалось. Поступить в студенты – сделалось единственною моею целью: с завистью смотрел я на каждого юношу, одетого в студентскую форму. Меня и одушевляли мечты, что наконец вырвусь же я когда-нибудь из бедственного моего положения, что дадут мне наконец теплый угол и кусок хлеба, который я буду есть не краснея, в твердой надежде заплатить со временем благодетельной руке, подающей мне этот кусок, трудами всей грядущей жизни моей, всем, на что подвигнет меня развитой наукой разум и благодарностью полное сердце…
И вот наконец наступил вожделенный день экзамена. Я оделся с большею чем когда-либо тщательностью и очень рано вышел из дому, чтобы не опоздать (я жил близ Малоохтинского перевоза).
Увы! Надежда моя не сбылась: я не был принят. Я очень плохо отвечал из физики и математики и получил из этих предметов по единице. В русских университетах существует постановление не принимать в студенты молодых людей, получивших на экзамене больше одной единицы.
О мудрые!
Если бы вы знали, сколько пожертвований, слез и тревог, скольких душевных борений и самопожертвований желудка стоил мне небольшой запас сведений, который со страхом и трепетом принес я на суд ваш в памятный для меня день моего испытания! Если б вы знали, что у меня не было другого наставника, кроме толкучего рынка, на котором я покупал старые учебные книги… Если б вы знали… Впрочем, всё это я некоторым из вас говорил…
Через неделю после несчастного оборота моих дел случилось происшествие, которое очень странно и неправдоподобно, но за действительность которого я ручаюсь.
Кроме меня у кухмистерши в двух отдельных комнатах жили еще два постояльца. Один – актер французской труппы, средней руки, который являлся домой только спать и обедать, и то не всегда; другой – картежный игрок, тоже средней руки, который большую часть дня проводил дома, посвистывая и с трубкой в зубах поглядывая на улицу из окошка, на котором лежала совершенно новая сафьянная красного цвета подушка, а ночью дома никогда, как выражалась хозяйка, «не держался». Кухмистерша была очень довольна своими нахлебниками-постояльцами, но с особенным чувством отзывалась о последнем и даже, когда он проигрывался, давала ему денег «на разживу», находя в том особенную выгоду. Однако ж, несмотря на ее похвальные отзывы, игрок попался наконец в плутовстве и был захвачен полицией). Это мы узнали от квартального надзирателя, который явился делать опись имению виновного и нашел, между прочим, в потайном ящике целую дюжину поддельных карт. Через неделю игрок как-то выпутался из беды, но был гол как сокол и удовлетворить хозяйку не имел никакой возможности; вследствие того у них произошла ссора, и, говоря слогом наших романистов, «двери дома г-жи Эльметри для него затворились». По просьбе кухмистерши я очень красиво и четко написал на лоскутке бумаги: «Здесь отдается комната со столом и прислугою», и этот ярлык был прилеплен к воротам нашего дома. На другой же день поутру пришел господин с черными усами и бакенбардами, осмотрел комнату игрока, сторговал ее и объявил, что тотчас отправляется за своими пожитками. Хозяйка была очень рада такому постояльцу, потому что он нисколько не торговался и дал ей 25 рублей задатку. Через час к воротам подъехали два ломовых извозчика и под непосредственным надзором господина с черными усами перенесли и расставили в комнате игрока несколько стульев, стол, диван и чрезвычайно огромный шкаф, какие обыкновенно делаются для платья. Господин с черными бакенбардами запер комнату, положил ключ в карман и ушел, сказав, что придет не ранее вечера.
Не прошло получаса, как в комнате, занятой пожитками черного господина, послышался болезненный стон. Не доверяя своим ушам, я подошел к самой двери: стон повторился гораздо явственнее. Кухмистерша с испуганным лицом подбежала ко мне и начала нашептывать слова какой-то немецкой молитвы, дико и робко посматривая на дверь таинственной комнаты. Но когда стон еще раз повторился, она вскрикнула и всею тяжестью тела рухнулась на меня. Я не знал, что делать. К счастью, обморок ее не был продолжителен: она вскочила, опрометью бросилась к дверям своей комнаты и через минуту воротилась с ключом, произнося скороговоркою: «Посмотрите, что там такое. Вот ключ – замки во всех дверях одинаковы – он подойдет!» Я отворил дверь, оглядел комнату и, к изумлению, не нашел ничего, что бы могло оправдать странные звуки, которые мы так явственно слышали. Я уже хотел идти вон из комнаты, думая, что принял за действительность мечту, как вдруг в углу, где стоял шкаф, снова послышался стон, но уже гораздо тише, чем прежде. Я опрометью бросился к шкафу и остановился в раздумье: он был заперт. Стон повторился. Дрожь пробежала но моему телу. Ключ, которым я отпер дверь комнаты, был у меня в руке. Я засунул бородку его в отверстие замка и всею силою дернул к себе: дверь с шумом отворилась…
Заглянувши во внутренность шкафа, я увидел картину, которая меня ужаснула и поразила: держась за одну из вешалок, которые были укреплены в верхней половине шкафа, передо мной стояла женщина, которую я тотчас узнал, хотя рассудок мой долго не хотел верить глазам моим. Лицо ее было бледно, губы сухи и сини, глаза закрыты, она более походила на труп, чем на живое существо, и только легкое колыхание груди да невнятные стоны, по временам вылетавшие из полузакрытых уст ее, доказывали в ней присутствие жизни. С сильно бьющимся сердцем прикоснулся я к ней и осторожно перенес ее на диван и начал расстегивать ее платье, призывая на помощь хозяйку.
– Ах, боже мой, – воскликнула хозяйка в ужасе. – Женщина… Мертвая женщина… Что мы наделали?.. Ну, теперь будет беда… Это всё вы виноваты… Нужно было лезть в комнату к жильцу без его позволения… да еще шкаф разломали… Вместо того чтобы объявить в полицию, вы сами… Как хотите, я тут не виновата. Я хотела, я говорила, что нужно дать знать полиции.
– Помилуйте! – отвечал я. – Когда тут дожидаться полиции, когда от одной минуты промедления зависит, может быть, жизнь человека…
– По крайней мере мы были бы в стороне: пусть бы квартальный как хотел ломал чужие замки, на то он квартальный.
Я успокаивал ее тем, что женщина эта жива и что, следовательно, дело может обойтись и без полиции; таким образом, и задаток, который она получила от господина, который нанял ее квартиру с таким недобрым умыслом, останется у нее. Это несколько утешило кухмистершу.
– Ну, хорошо, – сказала она, уходя в свою комнату, – делайте что хотите, только я ни во что не мешаюсь. Мое дело сторона. Сами затеяли – сами и отвечайте!..
Я был очень рад, что она оставила меня наедине с моей находкою. Во время нашей перебранки девушка открыла глаза, и сомнения мои исчезли: я уже не сомневался, что это была она.Я опрыскал лицо ее холодною водою и поднес стакан к ее губам: она с жадностью выпила целый стакан.
– Это ты, Тиша, – сказала она слабым голосом. – Как это случилось, что мы с тобой встретились… Ты меня спас… Я бы умерла в этом шкафе… и теперь я еще очень слаба…
– Не послать ли за доктором? – спросил я.
– Нет, – отвечала она, – я чувствую себя хорошо… Я теперь совсем здорова… только слаба… Лучше вели дать мне чего-нибудь поесть. Я ужасно проголодалась: целый день не ела… и стакан портеру… Я ужасно люблю портер!..
Через час Матильда была совершенно здорова. К концу, своего обеда она уже начала шутить. Я увидел, что теперь нечего уже опасаться, и разом предложил ей все вопросы, которые нетерпеливо волновали меня от самой встречи с нею…
– Ты спрашиваешь, куда я вдруг пропала? Удивляешься, как я очутилась в шкафе? Чтобы отвечать тебе, надо сказать всю правду, – сказала она, – ты уже теперь не такой мальчик, как был; тебя не обманешь, да я и обманывать не хочу: ты меня спас от неминучей смерти. Я это вечно буду помнить… и ни за что не соглашусь тебя обмануть. Я и тогда хотела признаться тебе во всем, да ты всегда так странно говорил о любви, видел в тогдашней нашей «дружбе» что-то священное, неземное, как пишешь в своих стихах; мне жаль было тебя образумить. Теперь ты стал такой умный; верно, не рассердишься, что я тебя тогда обманывала, и не будешь винить меня.
– Говори всё! – сказал я. – Что старое вспоминать!
И Матильда начала свой рассказ.
Глава
История Матильды
Отец мой – урожденец небольшого немецкого городка – в молодости был отдан в ученье к одному ювелиру. Когда ученье его кончилось, он в продолжение нескольких лет у того же ювелира служил подмастерьем и составил себе своею бережливостью и чрезвычайным прилежанием небольшой капиталец. На эти деньги он завелся разными инструментами, необходимыми в его мастерстве, Купил несколько товару и сделался сам хозяином. Но дела его пошли плохо: работы было мало, так что он один-одинехонек едва мог ею кормиться. На беду около того времени отец мой влюбился в такую же бедную девушку, как был сам. В один вечер, когда молодые люди нашего городка весело танцевали под открытым небом, а старики курили кнастер и пили пиво, отец мой откровенно объяснил отцу своей любезной, с которою только что перестал танцевать, свои чувства. Старик, бывший уже навеселе, тотчас перешептался с своею дочерью и, подняв над головою кружку пива, тут же поздравил отца моего женихом своей дочери. Вслед за тем поздравления посыпались со всех сторон; все радовались неожиданному событию и заранее предсказывали счастье будущим супругам. Будущий тесть моего отца на свой собственный счет угощал всех собравшихся В тот день на празднике, и веселье было такое, какого уже не было в нашем городке до самого дня моего рождения. Отец мой целый вечер танцевал с своею любезною, которая была украшена цветочным венком и провозглашена царицей праздника. Я очень помню всё это, потому что отец мой всегда с большим удовольствием припоминал этот вечер и очень часто о нем рассказывал. С женитьбой расходы значительно увеличились, а между тем доходы с каждым днем становились менее. Пробившись несколько лет с копейки на копейку, отец мой решился попробовать счастья в России, где, как слышал, очень хорошо жили многие его земляки; он продал небольшое свое имущество и на вырученные деньги переехал в Петербург. Мне было тогда около трех лет. Надежды на большие выгоды, которыми обольщал себя отец мой, сбылись только вполовину: работы прибыло, но зато и расходы увеличились. Только необыкновенная аккуратность моего отца и экономия матери делали нашу жизнь несколько сносною. Когда я стала подрастать, отец мой стал трудиться вдвое против прежнего; мать моя учила меня грамоте и рукоделию. Мне было четырнадцать лет, когда мать моя умерла. Это было самое ужасное время в моей жизни. Я плакала несколько дней, не отирая слез ни на минуту. Отец мой сделался болен и три месяца не мог ни за что приняться.
Наконец всё пришло в прежний порядок. Отец мой по-прежнему с утра до вечера начал работать, согнувшись над своим станком и по временам покрикивая на своего подмастерья, по будним дням и распивать по воскресеньям с своими друзьями, сапожником Хирс и медником Страут, по нескольку бутылок пива. Я по-прежнему начала заниматься рукоделием и записывать расход: «За кувшин молока, за три фунта хлеба, за десять огурцов», ну, как обыкновенно пишется расход. Я жила спокойно, но очень скучно. Мне завидно было видеть на других платья богаче и лучше моих, однако ж делать было нечего, я терпела. Единственное развлечение мое составляли прогулки в Летнем саду и по Невскому проспекту, куда ходила я с моим отцом.
Мне минуло шестнадцать лет, когда меня поразило новое несчастье, которое я едва перенесла. Отец мой умер. Я осталась круглою сиротою и решительно не знала, что делать. В первые дни я только плакала; наконец, когда горесть моя утихла, я задумалась о своем положении. Мне нельзя было жить одной, а между тем я не имела никого, кто бы меня любил и к кому бы лежало мое сердце. По необходимости я принуждена была переехать к одной старой немке, содержательнице женского магазина, которую знала потому, что иногда брала у нее работу. Мадам Шриттер была ужасно хитрая женщина и очень хорошо воспользовалась моею простотою (я была тогда очень проста!). Она украла половину моих денег, которые выручила от продажи вещей, оставшихся мне после отца; остальные взяла с меня за квартиру и вдобавок еще через три месяца насчитала на меня такую кучу долгу, что я просто испугалась. Кроме меня у нее в другой половине магазина жило еще несколько девушек, которые целый день сидели у окошек с работой в руках и ничего не делали. Я очень удивлялась, что мадам нисколько на них не сердилась за такую ужасную лень, и сама работала очень прилежно. Иногда, по вечерам, когда я сидела в своей комнате за работой, в других комнатах слышался большой смех, громкий говор, скрипенье сапогов и бряцанье шпор. Мадам Шриттер в таких случаях обыкновенно говорила мне, что к ней пришло несколько добрых знакомых, и звала меня в «залу», приводя в пример прочих девушек, которые без всякой застенчивости просиживали там целые вечера. Несмотря на смертельную скуку, которой я предавалась, сидя одна-одинехонька, какое-то странное чувство, которое я не умею назвать, долго удерживало меня в моей комнате; наконец в один вечер мне сделалось до того скучно, что я решилась во что бы то ни стало победить свою застенчивость и войти в «залу». Я была там только одну минуту и тотчас убежала с сильно бьющимся сердцем и раскрасневшимися щеками. Я вся дрожала и, кинувшись головой на подушку, горько заплакала: мне сделалось так страшно, что я убежала бы сейчас от Амалии Федоровны как можно дальше. Я была совершенный ребенок. Амалия Федоровна пришла вслед за мною и начала меня уговаривать воротиться в «залу», называя мой поступок ребяческим и обидным для ее гостей. «Полно, дурочка, – говорила она, – чего ты боишься; ты всем очень понравилась, а господин, который, когда ты вошла, закричал: „Ах, какая хорошенькая!“ – да еще что-то прибавил по-французски, просто в тебя влюбился. Ты бегаешь от своего счастия: у него три тысячи душ, он может тебя на всю жизнь обеспечить!» Много еще говорила Амалия Федоровна, но я ее не слушала и решительно отказалась идти в залу, после чего она ушла, называя Пеня капризною и советуя образумиться. Через час Амалия Федоровна опять пришла ко мне и опять начала меня упрашивать. «Если тебе стыдно туда прийти, так он, пожалуй, прядет сюда, – говорила она, – обойдись с ним поласковее; говорю тебе не шутя, он может тебя осчастливить! Теперь же – вот досмотри, дал сто рублей тебе на шляпку и обещает завтра принести материи на салоп». – «Не надо мне ничего, – отвечала я, – оставьте меня в покое!» Хозяйка ушла, хлопнув дверью. Я вскочила и бросилась к двери с намерением запереть ее; но – о ужас! – ключа не было в замке: видно, его вынула хозяйка! Дрожь пробежала по моему телу от этой догадки, которая тотчас подтвердилась. Я услышала шаги, которые показались мне незнакомыми: не было сомнения, мужчина шел к моей двери. В отчаянии я схватилась за ручку замка и держалась изо всей силы; но один порыв сильной руки – и предосторожность моя осталась бесполезною. Кто-то так сильно рванул дверь снаружи, что она тотчас отворилась; в то же время мужчина, о котором говорила хозяйка, схватил меня за руку, которою я всё еще держалась за ручку, и вошел в мою комнату. Это был человек высокого роста, лет сорока, с небольшой лысиной, которая тщательно была закрыта волосами с висков и затылка, щегольски завитыми; он был одет чрезвычайно пышно, не без вкуса; в лице его, смуглом и грубом, в приемах, в походке и даже в голосе было что-то неприятное, жеманное, чем он очень много походил на лакея. Особенно он был смешон, когда говорил: каждое слово он произносил нараспев и приправлял сладенькою улыбкою, которая казалась мне отвратительною.
– Честь имею рекомендоваться, – сказал он, коверкая последнее слово весьма неприличным образом и приторно улыбаясь, – отставной корнет Чумбуров, Василий Петрович Чумбуров… впрочем, вы можете называть меня просто Васильем или даже, пожалуй, Васькой: по мнению вашего покорнейшего слуги, из уст прекрасного пола всякое название прекрасно…
Он глупо засмеялся и потрепал меня по плечу. Я отскочила, и он чуть не рухнулся на пол со всех ног, на которых постоянно качался, потому что был сильно пьян. Потом он начал ловить меня, стараясь поцеловать; несколько времени я очень ловко увертывалась, наконец он схватил меня за руку и уже готов был исполнить свое намерение. Помню, голова моя горела огнем, и сердце шибко стучало, я вся дрожала при одной мысли, что пропахнувшие вином губы этого урода могут коснуться моих, на которых еще не было чужого поцелуя. Но когда это готово было исполниться, я вдруг почувствовала необыкновенную силу и как будто выросла, глаза мои загорелись гневом, рука сама собою размахнулась, и я дала громкую, полновесную пощечину моему обожателю… Потом я опять стала тою же робкою, слабою девочкою и с ужасом ждала последствий своего поступка.
Это, однако ж, его не остановило. Несколько минут он молчал, потом, смотря прямо мне в глаза и покачиваясь, сказал: «Вот что-с!», потом подошел к столу и задул свечу. Я вскрикнула от ужаса и бросилась к двери – дверь была заперта.
По счастию, у двери мне попалась под руку половая щетка. Я схватила ее, вскочила на стол и сказала твердым голосом: «Вот только подойдите, так вас, ей-богу, и тресну!» Он увидел, что дело плохо; стал на колени и начал плакать. «Я, – говорит, – застрелюсь, зарежусь, брошусь в Неву!» – «Сделайте милость, – отвечала я, хохоча во всё горло, – я не заплачу, хоть удавитесь!» Страх мой прошел, мне вдруг сделалось очень весело, я мучила его с полчаса на коленях и наконец, чтоб отвязаться от него, сказала: «Хорошо, я сжалюсь; не буду бить вас ни рукой, ни щеткой; только приходите послезавтра, а завтра целый день не показывайтесь мне на глаза… Слышите?.. Зато послезавтра я вас поцелую!» Он ужасно обрадовался, вскочил и ушел, повторив несколько раз: «Послезавтра!»
«Дожидайся», – подумала я и легла спать…
На другой день, проснувшись рано, я собрала все свои пожитки и объявила хозяйке, что решительно не хочу оставаться ни минуты в ее квартире. «С богом, моя милая, – сказала Амалия Федоровна, – только заплати прежде деньги, которые ты должна за квартиру». – «Какие деньги? – спросила я с испугом. – Деньги я вам заплатила вперед!..» Амалия Федоровна молча показала мне счет, по которому с меня следовало, по крайней мере, рублей полтораста. Я ужаснулась. «Слава богу, – сказала Амалия Федоровна, – ты здесь не одна живешь: все знают, что вот уже три месяца я с тебя не получаю ни копейки ни за комнату, ни за стол, ни за кофе. А работаешь ты еще не так много, чтобы могла заплатить одними трудами!»
Я увидела себя, подобно многим неопытным девушкам, обманутою и лишенною свободы самым бесчестным образом. К вечеру того же дня пришел господин черной и неприятной наружности, у которого были седые волосы и серая шляпа. Он принес несколько дорогих безделок и, пошептавшись несколько минут с хозяйкою, разложил их передо мною, сказав, что они присланы от Василия Петровича, который с нетерпением ожидает завтрашнего дня. «Скажите ему, что я шутила! – отвечала я. – Если он придет, я завтра приму его так же точно, как приняла вчера!» Седой плут в серой шляпе начал меня уговаривать и ужасно надоел мне своими рассказами о том, как я буду гулять под ручку с Василием Петровичем, одеваться по самой последней моде, жить в великолепных комнатах и кататься в чудесной карете. Я бросила ему в рожу подарки, которые он принес, и заперлась в своей комнате думать и плакать. Прошло две недели, в продолжение которых господин Чумбуров ежедневно бывал у Амалии Федоровны, но никогда не видал меня, потому что я всегда держала свою дверь на замке. Хозяйка неотступно меня уговаривала «не бегать от своего счастья», но, видя, что ни к чему не ведут ее увещания, наконец оставила меня в покое. Чумбуров также перестал ходить в наш магазин, и только седой господин в серой шляпе изредка заходил и шептался по нескольку часов с Амалией Федоровной. Так прошло еще две недели. Думая, что они наконец отступились от своих замыслов, я перестала употреблять предосторожности и сделалась спокойнее. Но это было только хитростию, которую подлая женщина придумала для моей погибели. Однажды за ужином Амалия Федоровна была особенно весела и по случаю какого-то праздника потчевала шампанским своих пансионерок. Я также выпила бокал и тотчас почувствовала влечение ко сну. Едва я успела дотащиться до своей комнаты и раздеться, как тотчас же заснула.







