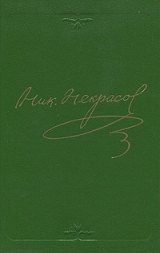
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
– А ты любишь картинки? – спросил я.
– Очень люблю. Я их каждый день продаю, и мне так жалко, так жалко с ними расставаться.
– Где же ты берешь их?
– Братец дает. Он сам рисует. Барии его отдал к мастеру, вот уж другой год он учится. По воскресеньям он ходит ко мне и приносит картинок на целую неделю; мы всё плачем с ним, долго плачем. Поутру встаем чуть свет, опять плачем, братец идет к мастеру, а я на проспект.
– Где же ты стоишь со своими картинками?
– Где? Разумеется, у подъездов, где побольше ходит господ, у магазинов, у кондитерских.
– Разве у вас нет другого средства к пропитанию?
– Как не быть. Батюшке месячина идет… и деньги выдают на одежу… жильцы на водку дают…
– Так что же? Не стает?
– Не стает! – сказала девушка с глубоким вздохом. – Не стает! Когда была жива матушка, ставало, да еще и оставалось! Мы жили как дай господи всякому: у меня было опрятное и всегда чистое… чистое платье. Поутру я умывалась и бежала в церковь – молиться за матушку и за тятеньку… и за нашу добрую госпожу… мне было так весело; потом я приходила домой, надевала передник и помогала матушке стирать белье; батюшка считал на счетах и писал расходную книгу. После обеда он отдыхал, а мы с матушкой ходили гулять или в гости. Вечером батюшка учил меня грамоте.
– Ты знаешь грамоте? – спросил я.
– Знала, – отвечала она, – немножко, да теперь, я думаю, уж забыла. Батюшка с тех пор перестал учить меня, как матушка умерла…
– Что ж сделалось, как матушка умерла?
– Батюшка стал ужасно скучать; ходил как больной, не ел; только плакал. Я купила ему вина; он выпил – и стал повеселее. Я так обрадовалась, что побежала молиться ко Владимирской. Службы тогда не было… Я стала на коленях у часовенки, что у церкви; народ ходил мимо меня, дрожки и кареты стучали, извозчики смеялись, но я ничего не замечала и не слыхала: так я молилась и всё плакала, плакала. Благодарила бога, что батюшка стал веселее. Прихожу домой, а он опять плачет, – еще скучнее, чем был. У меня так душа и обмерла: рвет на себе волосы, кричит и плачет. Я опять купила ему вина – он выпил н опять стал веселее. С тех пор я всякий раз покупала ему вино, как только он начинал плакать. Так всё и шло, покуда были у меня деньги; деньги все вышли, батюшка скучает и уж сам просит вина. Я продала платок и купила полштофа. Дошло до того, что я всё продала… нет вина и купить не на что, а батюшка просит. Я говорю: «Нет»; батюшка схватил нож и говорит: «Ой! тошно, зарежусь!» Я стала на колени и начала со слезами просить его усмириться. Но он час от часу становился неугомоннее. Ему не верилось, что у меня нет денег, и он то просил меня, то ругал; наконец он схватил ключи и начал меня бить по голове и лицу, крича во все горло: «Давай вина, проклятая девчонка, давай вина!» Я вырвалась и выбежала на улицу. Постояла, поплакала и задрожала всем телом, когда подумала, какой грех сделала. Надобно воротиться… да как? Батюшка опять примется колотить. Я побежала в кабак, купила «косушку» на последние тридцать копеек, которые берегла на завтра на хлеб, и принесла батюшке. С тех пор, как только не было вина и денег, батюшка тотчас начинал бить меня… Я побледнела, высохла и начала кашлять. Братец заметил, что я чахну, и я во всем ему призналась. Мы долго с ним плакали; у него также ничего не было, как и у меня, кроме картинок, которые он рисовал в праздники и очень любил показывать мне.
– И ты стала продавать картинки? – спросил я.
– Да. Я стала на Невском проспекте в дверях кондитерской, куда беспрестанно ходили господа, с картинкой, которую подарил мне братец в мои именины и которую я очень любила… – Девушка, такая хорошенькая, глядит на цветы и смеется! – Прошел какой-то молодой господин, пристально посмотрел на меня и дал мне двугривенный. Он не взял картинки, но я догнала его и отдала, хоть мне очень жаль было расстаться с ней… Я не нищая! С того дня я каждый день с утра до вечера проводила на Невском проспекте и всегда приходила с выручкой. Батюшка пил и обходился со мной очень ласково. Только раз, помню, один раз я пришла домой без копейки. В тот день я собрала больше рубля; иду домой и рассчитываю, сколько останется денег, если купить полштофа. Вдруг попадается мне Надежда…
– Кто эта Надежда? – спросил я.
– Девушка, такая же бедная, как и я… Она шьет мячики и продает их на Чернышевом мосту. Надежда плакала. В тот день ей не удалось продать ни мячика, а у нее дома больная мать без куска хлеба… хозяин гонит с квартиры… холодно! сыро!.. Я поплакала вместе с Надеждой и отдала ей мои деньги…
– Добрая девушка!
– Надежда принялась целовать мои руки… Я убежала от нее и бежала до самого дома. Вхожу домой, вижу: батюшка уж крепко пьян; только вошла, он тотчас спросил про вино.
– Вина нет, нет! – сказала я. – Сегодня у меня ничего не купили…
Батюшка прибил меня так, что я три дня хворала…
– И ты всё терпишь? Бедная девушка!
– Терплю и молюсь богу, – отвечала она. – Молюсь, чтобы образумил батюшку!..
– Он всегда пьян? – спросил я.
– Всегда. Раз только, недель пять назад, он пе был пьян целый день и потом другой день до самого вечера. Я была тогда очень больна. Целую ночь не спала; мне было очень холодно; я вся дрожала; братец ушел домой в одной курточке и оставил мне свою свитку: я едва могла под нею согреться. К утру я заснула. Просыпаюсь, гляжу – батюшка стоит на коленях у моей постели и целует мои руки.
Я соскочила, заплакала и начала его обнимать… Он зарыдал так громко, так громко, как в тот день, как умерла матушка.
– Не плачь, батюшка, – сказала я. – У меня есть еще немного денег; я побегу, принесу вина!
– Вина? – закричал батюшка со страхом, как будто чего испугался. – Не говори мне про вино… Вино погубило мою головушку! Не хочу вина! Полно! Довольно ты от меня потерпела…
Батюшка упал мне в ноги…
– Ты сердишься, Параша?
– Нет, батюшка, полно, за что сердиться! Я не сержусь. Встань, батюшка.
Я подняла его и посадила.
– Ты сама виновата, Параша, – говорил он, – зачем ты даешь мне драться? Зачем ты сама не бьешь меня?.. Ты бы побежала к приказчику, к барину, к жильцам… упросила бы, чтобы меня связали, заперли, привязали на цепь. Я шальной, ведь я шальной… Вот уж, чай, скоро три года, как я рехнулся ума… Где тебе с шальным жить, этакой голубке…
Батюшка опять зарыдал и начал пролить меня, чтоб я не сердилась. Целый день он ухаживал за мною: не брал вина в рот и говорил, что никогда не будет пить. На другой день тоже. Я встала через силу с постели и уговорила его пойти со мною за обедню: помолиться богу, чтоб он наставил его на разум.
– Молись за меня! – сказал батюшка в церкви. – А мне, видно, уж не молиться. Иконы как будто от меня отворачиваются!
Мы пришли домой. Я надела новое платье, которое прежде прятала от батюшки, башмаки, косынку. У меня был точно праздник: мне было так весело и все казалось таким радостным! Я поминутно целовала батюшку, он пристально глядел на меня и говорил:
– Ах, какая же ты красоточка!
Ударили к вечерне. Я пошла в церковь. Батюшка пошел показывать квартиру какому-то барину…
Прихожу домой. Батюшки нет. Мне было очень холодно. Я закуталась в братнину свитку и заснула. Слышу шум. Вскочила и вырубила огня. Вижу, батюшка идет и шатается из стороны в сторону… Опять пьян! Новый жилец дал ему на водку, и он напился! Батюшка просит вина. Я закуталась в свитку, легла и молчу…
Батюшка стал страшно ругаться, бить посуду, стучать кулаками по столу и ломать скамейки. Я всё молчу, дрожь так меня и берет. Авось, думаю, угомонится. Не тут-то было!
Батюшка стащил с меня братнину свитку и ушел в кабак.
С тех пор не проходило дня, чтоб он не был пьян. Я пробовала уговаривать его, молилась богу, давала ему в вине какие-то травы – ничто не помогло! Видно, так богу угодно!
Параша набожно перекрестилась. Принесли чай…
– Чай! – сказала она. – Как давно я не пила чая! С тех пор как умерла матушка, у нас ничего не бывает, кроме гадкого вина!
– А ты пила вино? – спросил я.
– Батюшка иногда насильно заставлял меня пить; если я не хотела, он бил меня и грозился зарезать.
– Какой страшный негодяй! – сказал я невольно.
– Не браните батюшку! – возразила Параша. – Не его вина; он был добрый, когда не пил вина. За него надобно молиться!
– Как же ты попала сюда с этим старым господином? – спросил я.
Параша задрожала и вся вспыхнула при мысли об ужасной сцене, которую я ей напомнил. Успокоившись, она отвечала:
– А вот как. Однажды, когда я стояла на проспекте и плакала, – наступал уж вечер, а у меня еще не было ни копейки, – ко мне подошел барин, – этот самый старик, – спросил, о чем я плачу, и дал мне целковый. Я было не брала, да он показался мне таким добрым… подумала и взяла. На другой день он опять прошел мимо меня, опять дал мне денег, потрепал по щеке и хотел поцеловать, я вся вспыхнула и убежала; почти каждый день он проходил мимо меня, разговаривал, расспрашивал; я так привыкла к нему, что рассказала ему всё; он притворился таким жалостливым и звал меня к себе; я не пошла; на другой день опять звал; я опять не пошла. Он спросил, где я живу. Я не сказала. Он рассердился и целых три дня не говорил со мною ни слова. Раз иду домой; оглядываюсь – он идет за мной. Мне стало так страшно! Я пустилась бежать. Слышу, дрожки едут за мной, оглядываюсь – он! Я в ворота – и он в ворота; вошел за мной следом в подвал и спрашивает тятеньку, какие отдаются квартиры. Тятенька показал ему все, какие были; старичок дал ему на водку полтинник и ушел. На другой день он опять пришел смотреть квартиры – и опять дал на водку тятеньке; до сегодняшнего дня он заходил, я думаю, раз пять – всё толковал про квартиры и давал каждый раз тятеньке на водку. Тятенька за то хвалил его на чем свет стоит и сердился на меня, зачем я неласкова к доброму старику. Сегодня я пришла домой, как всегда, купила батюшке вина и села шить; вдруг приходит старый барин; разговорился с тятенькой, который был уже очень пьян, послал еще за вином, напоил тятеньку так, что он едва на ногах стоял, и говорит: «Покажи-ка мне еще квартиру, которую я намедни смотрел!» Тятенька и рад бы, да ноги не служат. «Ну так пошли вот ее!» – говорит старый барин.
– Не пойду! Не пойду! – закричала я. – Тятенька, голубчик, сходи сам! Я боюсь. – Я и вправду очень боялась: сама не знаю, отчего мне стало так страшно; лучше, думаю, тятеньку прогневлю, а уж не пойду. Тятенька было и ничего, взял ключи, засветил фонарь и хотел сам идти, да старый господин стал смеяться: какой, говорит, ты отец – дети тебя не слушают; что тебе, старина, себя беспокоить, она помоложе! Тятенька и послушал; напал на меня, ну ругать: лентяйка, мерзавка, соня! Я молчу: думаю, авось сам пойдет; так нет; бросил в меня ключами – так вот и теперь шее больно – и кричит: «Пошла! Не то я тебя научу слушать отца!» И хотел меня бить. Нечего делать! Я взяла фонарь и ключи и пошла с старым господином, отперла квартиру – он вынул ключ и взял с собой; как только мы вошли, запер дверь и загасил фонарь… Не знаю, что бы со мной было, если б вы не пришли: я бы, кажется, умерла!..
– Бедная девушка! – повторил я. – Как ты много страдала. И ты никогда не роптала, не старалась улучшить своей участи?
Параша посмотрела на меня с изумлением. Она не поняла моего вопроса. Страдание обратилось для нее в привычку, в необходимое условие жизни.
– Я прошу у бога одного, – сказала она, – чтобы он образумил батюшку! Тогда я была бы счастлива. Да еще… еще мне хотелось бы увидеть того доброго барина, что помог мне, когда я разбила полуштоф…
– Ты его любишь? – спросил я.
– Как же мне его не любить? – отвечала она. – С тех пор как умерла матушка, я не видала человека, который бы пожалел меня. Только он… да вот теперь вы… Я помню, он даже заплакал, когда я рассказала ему мое житье… Каждый день я думаю об нем и молюсь; иногда я даже вижу его во сие. Раз, с год назад, мне показалось, что я его видела, только уж совсем в другом платье: на нем был вицмундир с светлыми пуговицами, с голубым воротником… Я побежала за ним, хотела остановить, сердце мое так билось… да вдруг подумала: «А если не он?» – и воротилась…
Я взял с Параши слово, что она зайдет ко мне завтра, перед тем как идти «торговать», и мы простились. Я проводил ее до самого входа в дверь подвала, ведшую в комнату дворника, и возвратился в свой кабинет обдумывать водевиль, задуманный поутру…
Но водевиль не шел мне на ум. Я всё думал о Параше и об удивительном терпении этой девушки, с которым она переносила свою участь. Я заснул, и мне приснилась Параша, дрожащая от страха, с заплаканными глазами и лицом, окрашенным кровью, которая текла из свежей, только что прошибленной раны. В двух шагах от Параши стоял пьяный старик с всклокоченными волосами, с сверкающим животного яростию безумным взглядом; он грозил своей жертве огромною связкой ключей…
Этот сон так испугал меня, что я уж не мог заснуть. С нетерпением ждал я утра и минуты, в которую придет Параша. Припоминая ее кроткое и доброе личико, покрытое страшною бледностию, но прекрасное, ее покорную и беспредельную веру в провидение, наконец, самоотвержение, с которым она служила безумному, мучившему ее отцу, – я с каждым часом более и более очаровывался ею.
Такие натуры, такие феномены редки в том классе, к которому принадлежала Параша, редки особенно в русском обществе, где низший класс груб и невежествен до дикости, часто лишен даже человеческого понятия о чести в ее высшем значении, но они есть, и почему же Параше не принадлежать к числу их? Ей, которая среди нищеты и разврата, среди невежества и обратившейся в привычку подлости умела сохранить чувство чести и чистоты, ей, которая с таким самоотвержением, с таким терпением переносит тяжкую свою участь, и не подозревая великости своего подвига?
Источник этой силы, этого чувства чести и чистоты – в душе молодой девушки.
Душа ее высока и прекрасна…
Но боже мой! Ей только шестнадцатый год, она еще только вступила в тот возраст, где люди так мало похожи на то, чем были некогда и чем будут впоследствии; возраст, где детство и юность, как два прекрасных ручейка, мешают свои воды один с другим; тот возраст, где всё заставляет нас мечтать, задумываться – и птица, и цветок, и книга, которую читали, и звезда, которая светит над нами. В эти годы жизнь кажется нам исполненною благодати и милосердия, а впереди столько светлых надежд в мир и бога! Сердце делается невольным источником добра…
Но что будет с ней через три, через пять лет, если она останется окруженная той же страшной и мрачной действительностию, в сферу которой бросил ее неумолимый жребий?
Она погибнет.
Эта мысль привела меня в ужас…
К утру я уже составил план для предупреждения ужасной участи, которую готовила судьба бедной девушке…
Чтобы вселить в ней более смелости, более доверия ко мне, я счел нужным открыть ей, что я именно тот, о ком она вспоминала с такою горячею благодарностию. Для этого я отыскал свой старый, давно заброшенный сюртук, жилет – словом, всё платье, в котором был тогда, – и оделся, как тогда, просто, бедно и опрятно. Я даже при входе Параши сообщил своей физиономии тот робкий, полубоязливый отпечаток, который кладут на человека бедность, неуверенность в себе и несчастия. Волосы мои были причесаны, как тогда.
Эта несколько романическая, но нисколько не противоречившая тогдашнему моему характеру выходка произвела действие, какое я ожидал.
Параша взглянула и вскрикнула от удивления и радости. Потом она вся покраснела и потупила глаза, вероятно вспомнив простодушную откровенность, с которой говорила со мной о таинственном своем благодетеле.
Глава V
Почтеннейший
Бенефис актера, отличавшегося необыкновенной любезностию, приближался: оставалось только две недели до того великого дня, в который должен был предстать на суд образованной публики первый опыт моего драматического гения. Актер каждый день навещал меня и, кроме того, присылал по нескольку записок: «Скоро ля, душенька? Ты меня срежешь, только на тебя и надеюсь!»; «Вот уж только десять дней до бенефиса, а пиеса еще не готова: этак, брат, артисты не делают! Вспомни, ты дал честное слово!»; «Ты говоришь, осталась одна только сцена; присядь, братец, – наваляй, долго ли тебе!»; «Душенька, ради бога! Завтра в цензуру!» – и тому подобное. Хотя я неоднократно хвастал, что «написать водевиль для меня ничего не значит», однако ж я еще вовсе не имел того навыка, при помощи которого опытные драматические писатели творят водевили, комедии и даже патриотические драмы с точно такою же быстротою, как искусные кухарки пекут блины. Потому дело подвигалось вперед очень медленно. Наконец актер вышел из терпения. «Ты дал мне честное слово, – говорил актер с настойчивостию, по обыкновению всех актеров, которые в таких случаях опираются очень твердо на честное слово, – а теперь на попятный двор. Ты поставишь меня в дураки перед публикой; лучше бы сказал прямо, что не хочешь. Я бы знал, что делать! Я объявил, что у меня будут в бенефис „Закулисные журнальные тайны“, и будут! Ты не напишешь – напишет другой. Я сейчас побегу к Межевичу, к Строеву, к Булгарину, расскажу им сюжет – тот сцену, другой сцену, третий – и пиеса в два дни будет готова. Они люди благородные; любят меня не на одних словах!.. Только уж, брат, не пеняй: что они напишут, то и будет; я ничего не вымараю!» Актер ушел, хлопнув дверью. Угроза его меня напугала: люди, к которым он хотел обратиться, действительно были способны исполнить его просьбу, и так как они были мои враги, то и не было никакого сомнения, что одна из жалких и смешных ролей, которые я назначал им, придется на мою долю. Попеняв на себя за то, что имел неосторожность выболтать преждевременно сюжет, придуманный для водевиля, я увидел, что мне более ничего не оставалось делать, как покориться обстоятельствам. Я послал к актеру первую картину, которая уже была готова давно, и уверял его честью, что вторая поспеет на другой день… Актер тотчас же прибежал ко мне и бросился меня целовать; любезность его, которою он вообще отличался, на сей раз не имела границ.
Наконец водевиль был готов, переписан и отдан в цензуру. Я сидел в своем кабинете, размышляя о неведомой еще участи моего первого драматического детища, как вдруг послышался в прихожей короткий разговор и затем тяжелые чьи-то шаги.
Обернувшись, я увидел перед собою одну из тех литературных особ, которые в печатных обращениях друг к другу давно уже усвоили за собою почетное звание любимцев публики и титул почтеннейших. Почтеннейший, который стоял передо мною, был среднего роста, имел красноватую физиономию, вечно гноящиеся серые глаза без ресниц, короткую, несколько согнутую шею и волосы, которые, по остроумному замечанию издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, составляли разительный контраст с его душою: они были белые.
Почтеннейший обругал мою книгу на чем свет стоит, и в водевиле, который я написал актеру, отличавшемуся необыкновенной любезностью, ему была дана самая гнусная роль, основанная на некоторых проделках его, известных всему городу.
Не успел я опомниться от изумления, возбужденного во мне в высшей степени его неожиданным появлением, как он бросился обнимать меня и, несмотря на мою уклончивость, успел напечатлеть на щеках моих несколько поцелуев своими отвислыми и мокрыми, как у легавой собаки, губами…
– Я не в вас, я не в вас, – бормотал он резким, несколько сипловатым баритоном. – Рассердились, вспылили… молодость! молодость!.. Разругали ваши стихотворения… прекрасные стихотворения… украшение литературы… поэзия, чистая поэзия!.. Разве я виноват, разве я?.. Вы знаете, мошенник Хапкевич пишет у меня критику… Хапкевич. пишет… у нас с ним условие: я не имею права вымарывать, что on напишет… Впрочем, беда не велика, не велика… можно поправить, сказать: по ошибке… написать другую статейку… Похвалить… публика дура… публика дура!..
Почтеннейший произнес последние слова с выразительным жестом, доказывавшим, что он твердо уверен в том, что говорит, и в то же время выражавшим немую, но красноречивую благодарность…
– Я по нуждаюсь в ваших похвалах! – отвечал я с достоинством.
– Гордость! Гордость! Прекрасное качество, прекрасное… И видно, что поэт… ха! ха! ха!.. Да я-то уж никак не могу вас не похвалить… Хоть сердитесь… талант хвалить должно… должно хвалить… Вы написали водевиль… чудеснейший водевиль… вот посмотрите, как я его похвалю… да чего… уж и похвалил… на днях… завтра же будет статейка… театральные новости и слухи…увидите, с Мольером нас сравнил, ей-богу, с Мольером!
– Да ведь вы не читали моего водевиля?
– Не читал?.. не читал?.. кто вам сказал!.. А хоть бы и не читал… Вы не можете написать ничего дурного, не можете…
– Если похвала, о которой вы говорите, действительно явится в печати, я на другой же день объявлю, что вы не читали водевиля, который хвалите…
– Явится, непременно явится… пишите что хотите… Только… знаете что… говорят, вы там вывели журналистов… хорошее дело, хорошее… злоупотребления обличать должно, первый долг… первый долг добросовестного писателя.
– Я не выводил никого, – отвечал я сухо, – а представил некоторые гнусные проделки людей, осмеливающихся называть себя литераторами…
– И меня тут вывели, и меня? ха! ха! ха!.. признайтесь… я не рассержусь… ей-богу, не рассержусь.
– Я не выводил никого, – повторил я.
– За что тут сердиться?.. Вы не знали меня… не знали моих правил… думали, что я вас разругал… Теперь видите сами… я не виноват… За что же клеветать на невинного… грех, грех и грех, почтеннейший. Можно переменить… сделать еще лучше… я сам помогу… посоветую…
– Я не переменю в моем водевиле ни одного слова, – отвечал я с твердостью, которая возрастала во мне по мере того, как почтеннейший становился смирнее…
– Не перемените? Не перемените? – возразил почтеннейший с негодованием, которое показалось мне не совсем искренним. – Ну так я вас зарежу!
Я захохотал…
– Смейтесь, смейтесь, почтеннейший, – отвечал почтеннейший с жаром. – Вы еще не знаете меня, не знаете хорошенько… я служил… провел пятнадцать лет на коне… теперь я старик… что мне жизнь?.. Будь что будет!.. Только одно – не один я погибну… не один… жена, дети…
Почтеннейший хотел казаться тронутым и за неявкою слез отирал гной, которым постоянно были наполнены окраины его глаз…
– С чего вы взяли, – спросил я, – что в моем водевиле выведены вы?
– Все говорят, все… Теперь же идут слухи по всему городу… Бенефициант трубит нарочно: ему выгодно – всякий захочет меня посмотреть… У меня много врагов, много… Добросовестные литераторы всегда имеют много врагов… Ему хорошо, билеты все разойдутся… а мне-то каково?.. мне-то…
– Если вы действительно добросовестный литератор, каким себя называете, то вам нечего бояться. В водевиле моем выведен страшный негодяй и бездельник, который торгует своими мнениями, обманывает публику, обирает портных и сапожников, пишет за деньги похвалы кондитерам и сигарочным фабрикантам, гонит талант, поощряет бездарность… Неужели это вы?..
– Не я! сохрани бог! сохрани бог!.. Я не злодей… Спросите… На свете нет людей ни оклеветанных, ни ограбленных мною, – жалобно простонал почтеннейший.
– Очень верю, – отвечал я. – Таких злодеев ссылают, секут плетьми… а с вами, как мне известно, не случалось еще подобных несчастий… Ну так теперь сами видите, что ваши опасения напрасны… Роль может остаться…
Почтеннейший содрогнулся.
– Конечно… – сказал он тоном ниже, – у меня так много врагов… всё в другом виде… самые лучшие намерения… самые лучшие… слухом земля полнится…
– Я не руководствовался никакими слухами… Ну так, кажется, дело кончено: это не вы, и говорить больше нечего.
Я обернулся к столу и взялся за перо. Почтеннейший молчал; серые глаза его странно светились; он придумывал развязку.
– А если я? – спросил он после долгого молчания. – Если я?
– Вы? Не может быть!
Я улыбнулся, как человек, заметивший, что его хотят обмануть, и опять обернулся к столу.
Почтеннейший молчал и дышал тяжело и неровно, как лошадь, одержимая сапом…
– Извините, – сказал я, вставая и смотря на часы, – теперь уж одиннадцать часов… Мне нужно еще одеться: опоздаю на репетицию.
– Сейчас, – отвечал почтеннейший. – Только одно слово, одно слово…
– Говорите…
– Если б это в самом деле был я – что бы вы стали делать тогда?
– Мне пришлось бы проститься с лучшею ролью моего водевиля, – отвечал я рассеянно. – Но, слава богу, этого не может быть… Это не вы!
– Я! – сказал почтеннейший тихо и нетвердо.
– Не может быть!
Я улыбнулся, как человек, заметивший, что его хотят обмануть, и продолжал чистить зубы.
– Я, право, я! – повторил почтеннейший.
– Не может быть!
Почтеннейший начал клясться женой, детьми и всем, что ему приходило в голову. Несмотря на то что я ожидал подобной развязки и сам ее приготовил, я не мог не расхохотаться.
– Грех, почтеннейший, грех смеяться над сединою! – произнес он жалобным тоном с ужимкою угнетенной невинности, которая невольно увеличивала мою веселость. Нахохотавшись досыта, я позвал человека и без церемонии начал одеваться; одевшись, я опять повторил извинения, что время не позволяет мне более пользоваться приятностию его беседы.
– Пойдемте, пойдемте по крайней мере вместе под руку. Чтоб все видели, что мы друзья! – сказал почтеннейший и так крепко ухватился за мою руку, что я уже долго не мог ее освободить. Когда мы проходили Невский проспект от Аничкина моста до того места, где следовало поворотить в театр, он несколько раз останавливался, обнимал меня и покрывал поцелуями.
– Я, право, не понимаю, к чему такая комедия? – заметил я.
– К чему, почтеннейший, к чему? Публика увидит, что мы друзья, и слухи, которые распространяет актер, уничтожатся сами собою. Завтра я тисну статейку об вашем водевиле, залихватскую статейку, – и дело поправлено! Так, что ли, почтеннейший, так? И за что нам ссориться? Вы человек молодой, вам нужно жить в ладу с литераторами, которые пользуются доверием публики… Нашу газету вся знать читает, вся знать… Не то что какого-нибудь Краевского… В каждом нумере я вас буду хвалить… на чем свет стоит хвалить… всех приятелей ваших, кого вы только скажете… всех буду хвалить… ей-богу, право! Публика дура! Публика дура! Ну так по рукам, что ли?..
Я уклонялся от решительного ответа, но мнение мое об моем драматическом детище возрастало по мере того, как почтеннейший выражал более боязни увидеть его на сцене. Я возмечтал, что водевиль мой положит блистательный конец усилиям, которые употребляли многие порядочные люди к низложению почтеннейшего. К счастию, недалеко у театра мне попалось несколько знакомых, и почтеннейший должен был ретироваться…
Но, уходя, он отвел меня в сторону и шепнул:
– Смотрите же… а если не так… берегитесь… почтеннейший… я приму другие меры… сильные меры приму… вот увидите… со мною бороться тяжело… тяжело…
– Он пойдет жаловаться в полицию! – сказал мне высокий, тощий актер, подслушавший последние слова почтеннейшего.
– А я думал, вызовет меня на дуэль!
Актер захохотал.
Глава VI
Невыразимое наслаждение доставляют начинающим сочинителям явления, предшествующие вожделенному дню, в который новая пиеса наконец представляется на суд публики. Оно так заманчиво, так много доставляет своего рода мелких выгод и преимуществ, что я знал людей, которые, – не будучи одарены от природы даже тою степенью дарования, которая нужна, чтобы попасть в сочинители Александрийского театра, – заказывали на свое имя пиесы другим, более расчетливым и опытным сочинителям. Представьте себе, что вы пишете пиесу: за вами ухаживает актер; вы каждый день у него обедаете, и, кроме того, он делает вам тысячу других мелких угождений; хвалит вас и вашу пиесу везде, где только явится случай (с этим сопряжена собственная его выгода); пишет к вам чрезвычайно лестные записочки: «приезжай, душенька, обедать», «будь часов в 6 у Леграна, притреснем на бильярде». Наконец пиеса готова или еще не готова, но время в цензуру – вы посылаете по листам вашу пиесу к переписчику, к вам бегают по десяти раз на день с записками; наконец дописан последний лист; через час к вам приносят красиво переписанную тетрадь в четвертку и просят, чтоб вы пересмотрели, не наврал ли переписчик; какое наслаждение исправлять ошибки переписчика в собственном своем безошибочном произведении: это стоит корректуры! Потом вы советуетесь с актером и друзьями, какую роль кому должно назначить; далее присутствуете на артистическом сборище, которое называется «считовкой»: опять советуетесь, делаете исправления, исключения, дополнения. Затем начинаются репетиции: целый ряд наслаждений, иногда, правда, возмущаемых своеволием артистов, двусмысленными взглядами и даже нередко явными насмешками, – но все-таки какое наслаждение! Актеры поочередно берут вас под руку, прохаживаются с вами но сцене и с глубокомысленным видом рассуждают с вами о погоде, примешивая, кстати и некстати, остроты из вашей пиесы; актрисы улыбаются вам так нежно, нередко подбегают к вам с вопросами, относящимися, разумеется, к вашей пиесе; режиссер подал знак: репетиция начинается; на лицах являются улыбки, ваши слова, ваши мысли говорят перед вами; вы не можете скрыть улыбки, которая то и дело выскакивает на ваши губы… Вдруг в оркестре хохот. «Верный признак успеха! – замечает один актер, думающий о себе, что он один из умнейших людей в нашем отечестве. – Уж посмотрите, когда музыкантов разобрало, разберет и почтеннейшую!» Поют ваш куплет – актер фальшивит; режиссер приказывает повторить; вы мысленно воздаете ему благодарность и думаете о впечатлении, которое произведет куплет на публику. Всё это не мешает вам, однако ж, выразительно взглядывать в ту сторону, где помещается дама вашего сердца. Наконец репетиция кончилась; бегут в буфет; завтрак и опять толки о вашей пиесе. На другой день то же, на третий то же; наконец на четвертый и последний – то же с маленьким прибавлением: после репетиции актер приглашает всех присутствующих в уборную, где приготовлен завтрак. В день бенефиса каждый актер делает завтрак! Какое наслаждение присутствовать на подобном завтраке! Никакой церемонности! Мужчины и женщины, – женщины в салопах, с головами, повязанными платочком, – едят и пьют вместе где попало, на столе, на стойке, на картонке! Какое наслаждение!..
Словом, если исчислить все выгоды и преимущества, доставляемые драматической деятельностью, то удивительно, как еще у нас так мало драматических сочинителей, особенно при легкости, с которою можно попасть псочинители этого рода.
Впрочем, бывают случаи, в которых картина поворачивается наизнанку. В числе драматических сочинителей есть такие, к которым актеры прибегают только тогда, когда им придет, что называется, до зарезу. Таковы в эпоху, которую я описываю, были водевилист-драматург и псевдоним Х.Х.Х. Пиесы их нередко таскались по театральным закоулкам по году и более, и появлению их на сцене всегда предшествовало какое-нибудь горестное событие: болезнь или смерть автора, на которого надеялся бенефициант, нарушение обещания, запрещение. Но и тогда, когда необходимость заставляла прибегать актеров к подобным сочинителям, их не убегало общее презрение, которым покрыты были их имена. Им на каждом шагу показывали, что творения их ставятся на сцену из милости, на репетициях их вовсе не слушали, смеялись им прямо в глаза, беспощадно урезывали их творения и даже не приглашали на завтрак, который обыкновенно дается артистами в день бенефиса.







