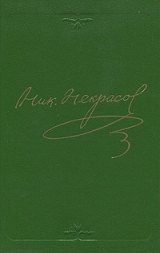
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
Последней датой творческой работы над «Сургучовым» можно считать 1847 г. и на основании еще одного наблюдения. В одном из набросков повести неожиданно появляется фигура мечтателя и авторское рассуждение о петербургских мечтателях («Читатели назовут его смешным и отчасти смешным, но пусть они заглянут в себя. Я знаю, что не один он. В нем только резко отразилась болезнь, общая всем петербуржцам» – с. 290), аналогичное размышлениям Достоевского на эту же тему в «Петербургской летописи» от 15 июня 1847 г. (СПбВ, 1847, 15 июня, № 133). Здесь Достоевский пишет о мечтателе как о «кошмаре петербургском» (Достоевский, т. XVIII, с. 32–34).
Анализ черновых рукописей «Сургучова» позволяет высказать предположение о том, что Некрасов работал над этим произведением недолго и особенно интенсивно в 1844–1845 гг., в период подготовки «Физиологии Петербурга», программного сборника «натуральной школы». Возможно, замысел «Сургучова» соотносился с фельетоном «Черты из характеристики петербургского народонаселения» (ЛГ, 1844, 10 авг., № 31), в котором речь шла о «типе чиновника», со стихотворением «Чиновник» (1844), написанным специально для второй части «Физиологии Петербурга», и был связан со статьей Белинского «Петербург и Москва», опубликованной в первой части.«…Слово „чиновник“ в Петербурге такое же типическое, как в Москве „барин“, „барыня“ и т. д.,– писал критик. – Чиновник – это туземец, истый гражданин Петербурга» (Белинский, т. VIII, с. 408).
Характеристики героев в «Сургучове» и в «Чиновнике» отличаются некоторыми текстуальными совпадениями. Так, в начале повествования в «Сургучове» перечисляются черты, присущие собирательному образу «мелкого» петербургского чиновника: «робость вечно боролась <…> с подозрительностию», «подозрительная боязливость» (с. 282), ср. в «Чиновнике»: «…держал себя сутуло ~ И в робость безотчетную впадал…» (см.: наст. изд., т. I, с. 413).
Соотнесенность «Сургучова» с литературной традицией отмечалась самим Некрасовым в начале главы I (см.: Другие редакции и варианты, с. 569, вариант к с. 282, строке 34). «Чиновничья» тема была одной из распространенных в литературе 1830-1840-х гг. Кроме стихотворений Некрасова «Чиновник», «Говорун» и водевиля «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» ей посвящены многие произведения Ф. В. Булгарина (повести «Три листка из дома сумасшедших» (1834), «Посмертные записки титулярного советника Чухина» (1835), «Победа от обеда» (1840), где обрисовывается быт «человечества 14-го класса», и очерк «Чиновник» (1842)), повести Е. П. Гребенки («Лука Прохорович», 1838), И. И. Панаева («Дочь чиновного человека», 1839), Н. Ф. Павлова («Демон», 1840), водевили Ф. А. Кони «Титулярные советники в домашнем быту» (шел на сцене Александрийского театра в сезон 1839/40 г.) и В. А. Соллогуба «Букеты, или Петербургское цветобесие» (1845) (см. также: Цейтлин А.Повести о бедном чиновнике Достоевского. (К истории одного сюжета). М., 1923). По словам Гоголя, над титулярным советником «натрунились и наостились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться» (Гоголь, т. III, с. 141–142).
Некрасов обратился к «Сургучову» после выхода в свет «Шинели» (1842) Гоголя и в период публикации «Бедных людей» (1846), «Двойника» (1846), «Господина Прохарчина» (1846) Достоевского, – произведений, в которых «чиновничья» тема приобрела качественно новое гуманистическое звучание, что не могло не отразиться на творческой истории комментируемой повести. По-видимому, писатель предполагал создать повесть в стиле русских физиологии, населенную множеством «мелкотравчатых господ» (чиновник, петербургский мечтатель, приятель Побегушкина, «происходивший от тех родителей, которые с званием однодворцев соединяли древнее княжеское звание, мешавшее им посвятить себя какому-нибудь ремеслу» и др.), ориентируясь при этом на гоголевскую традицию. Генетическая связь с поэтикой гоголевских петербургских повестей прослеживается, в частности, в стиле повествования, в детализированных описаниях героев, в характере авторских отступлений. Внешность Сургучова («рябого господина», «мелкого чиновника»): «Голову держал он вниз, не стараясь нисколько преодолеть свойственной чиновникам сутулости, шагая нерешительно, встречному тотчас давал дорогу, не выдерживая ничьего взгляда…» (с. 282); «Не было в нем и следа той немножко педантической <…> торжественности, которая постоянно присутствует на лицах крупных чиновников…» (с. 281) – ассоциируется в обликом Акакия Акакиевича в «Шинели»: «…нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват…» (ср. также контрастное описание чиновничества в «Невском проспекте»: «Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтись по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову…» – Гоголь, т. III, с. 141, 14). Эпизодическая фигура молодого коллежского регистратора, составившего себе славу либерала «ловким передразниванием походки некоторых значительных лиц» (с. 281), напоминает поведение молодых чиновников в «Шинели», с «канцелярским остроумием» потешавшихся над Акакием Акакиевичем, и «вольнодумство» судьи в «Ревизоре». Само упоминание Некрасовым «некоторых значительных лиц» восходит к повести Гоголя «Шинель».
Воздействие Гоголя ощутимо не только в стиле, незавершенной повести, но прежде всего в сознательной ориентации Некрасова на изображение мира социально униженных («…я поведу вас в мир людей, которых страдания мелки и темны, радости грубы, песня простонародны…» – с. 294), художественно реализованной в его поэтическом творчестве.
…выписывавший стихи из «Репертуара русского театра»– «Репертуар русского театра» – журнал, издававшийся И. П. Песоцким в 1839–1841 гг. В 1842 г. объединился с «Пантеоном русского и всех европейских театров» и стал выходить под названием «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров»; редактором его с 1842 г. был Ф. В. Булгарин, а с 1843 г. по 1846 г. – В. С. Межевич. Этот журнал Некрасов ставит в один ряд с «Северной пчелой» и «Библиотекой для чтения», входившими в круг чтения мелкого чиновничества.
…огромный лист, прозванный русским «Journal de Debats» ~ не знает русской газеты. – Речь идет о «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» (1839–1917), называемой в быту «Полицейской газетой» и помещавшей объявления а известия о различных происшествиях в Петербурге. С 1839 г. редактором газеты был В. С. Межевич. О популярности среди мелкого чиновничества «Северной пчелы», «Библиотеки для чтения», «Полицейской газеты» писал в «Записках сумасшедшего» Гоголь, о чтении «Северной пчелы» – в «Бедных людях» Достоевский. Ср. также в рассказе Я. П. Буткова «Горюн» (1847): «„Пчелку“ бы мне или „Полицейскую“». «Journal de Debats» – ежедневная парижская политическая газета, основанная в 1789 г.; в 1840-е гг. – орган, близкий к правительству.
Продается пара отличных шведок… – Шведка – небольшая лошадь крепкой породы. В первоначальном варианте это объявление имело двусмысленный оттенок, вызвавший улыбку чиновника: «…продается за сходную цену пара молодых шведок,годных и под верховую езду» (см.: Другие редакции и варианты, с. 572, вариант к с. 284–285, строкам 32-9).
…транспоран… – Транспорант – натянутая на раму просвечивающая ткань с какими-нибудь изображениями, освещаемая сзади.
…иные пятнышки ~ Закрашены чернилами. – Ср. похожий эпизод в «Без вести пропавшем пиите» (1840) (наст. изд.: т. VII, с. 45–46) и в романе о Тростникове (см. с. 90).
А! а! и шампанское!..~ Это кислые щи… – Кислыми щами назывался шипучий напиток, особого рода квас, приготовлявшийся обычно из пшеничной муки и закупоривавшийся так же, как шампанское.
…бежал безумно навстречу карете. – Ср. традиционный для «натуральной школы» мотив кареты, используемый Некрасовым в одноименной повести (1841).
В нем почему-то жило убеждение~ закладывать последние вещи на скудный обед.– Ср. тему мечтателя, раскрытую Достоевским в «Хозяйке» (1847), «Петербургской летописи» (1847), «Слабом сердце» (1848), «Белых ночах» (1848). См. также роман о Тростникове, с. 97.
…высокой гайдук… – Гайдук – выездной лакей.
…ел у Излера… – ресторан И. И. Излера в Петербурге. См. также стихотворение «Прихожу на праздник к чародею» и комментарий к нему (наст. изд., т. I, с. 70, 598).
…знал наизусть несколько стихотворений гр. Ростопчиной, читал Одоев<ского> и Солл<огуба>…– Е. П. Ростопчина (1811–1858), известная в 1840-1850-е гг. писательница, автор сборника «Стихотворений» (1841). Признание современников получила ее любовная лирика. В. Ф. Одоевский (1803 или 1804–1869), автор фантастических и светских повестей. В 1840-е гг. были известны его «Русские ночи» (1844), «Княжна Мими» (1834), «Княжна Зизи» (1839), «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою» (1833), «Сказки и повести для детей дедушки Иринея» (1838) и др. В 1844 г. вышло собрание сочинений Одоевского в трех томах. В. А. Соллогуб (1813–1882) в 1840-е гг. выступал как автор светских повестей («Лев», «Медведь», «Большой свет» и др.), водевилей («Букеты, или Петербургское цветобесие») и повестей («Собачка», 1845) из чиповпичьей жизни, повести «Тарантас» (1845).
Иной глядит, как будто только что проглотил тухлую устрицу.– Это сравнение встречается в романе о Тростникове (см. с. 244).
…гуляя на Крестовском… – Крестовский остров в 1840-е гг. был в основном весь занят парком, переходившим в лес; принадлежал к неаристократическим районам Петербурга (см.: Курбатов В. Я.Петербург. СПб., 1913, с. 585–588).
Уже одно слово «князь» пугает читателя ~ у которых им не удавалось быть и в прихожей. – Говоря О сочинителях «повестей с князьями и графами», Некрасов, возможно, имел в виду Л. В. Бранта (автора романа «Жизнь как она есть. Записки неизвестного», 1843). По поводу последнего Белинский писал в статье «Петербургская литература» (ФП, ч. 2) в аналогичных выражениях: «Петербургский писака, никогда не видавший даже прихожей порядочного дома, изображает в своих романах и повестях высший свет и хороший тон, аристократов и жизнь как она есть» (Белинский, т. VIII, с. 562). Ср. с выпадами Некрасова против «аристократических повествований» в рецензиях «„Аристократка, быль недавних времен, рассказанная Л. Брантом“. СПб., 1843» и «„Наполеон, сам себя изображающий“, с франц. СПб., 1843».
…с званием однодворцев соединяли древнее княжеское звание… – Однодворцы – представители особой группы государственных крестьян, свободных от крепостной зависимости, владевшие небольшим наделом земли (в один двор). Однодворцы занимали промежуточное положение между дворянами и крестьянами, имели право владеть крепостными и земельными участками, но облагались подушной податью. Фигура деклассированного князя из однодворцев, принадлежащего к породе «мелкотравчатых господ», контрастна по социальной характеристике герою рассказа Тургенева «Однодворец Овсяников» (1847).
…я должен предупредить читателя, что я поведу его по грязной лестницесо Я ставлю здесь слово «грязный» в том смысле, в каком понимают его многие читатели. – Намек на отклики Ф. В. Булгарина и Л. В. Бранта по поводу «Физиологии Петербурга», в которых «Петербургские углы» обвинялись в «грязности»: «Писатель с дарованием, с умом и сердцем, сойдя воображением в это убогое жилище, в этот мрачный нищенский угол, мог бы нарисовать картину грустную, возбуждающую участив, сострадание, – писал Л. В. Брант, – г. Некрасов, питомец новейшей школы, образованной г. Гоголем, школы, которая стыдится чувствительного, патетического, предпочитая сцены грязные, черные <…> Не спорим, что они существуют как неизбежные исключения в низшем слое человеческого общества; но должно ли рисовать их жалкую жизнь, и особенно рисовать так, как рисует г. Некрасов, поставляющий, по-видимому, торжество искусства в картинах грязных и отвратительных…» (СП, 1845, 19 окт., № 236; см. также: 7 апр., № 79).
Тонкий человек, его приключения и наблюдения *
Печатается по тексту первой публикации (главы I–IV) и по черновому автографу ГБЛ (главы V–VII части первой, глава II части второй).
Впервые опубликовано: главы I–IV – С, 1855, № 1, с. 171–204, с подписью: «Н. Некрасов»; отрывки из глав V–VII части первой и главы II части второй, под названиями, принадлежащими публикатору К. И. Чуковскому, – Охотничье сердце. Лит. – худ. альманах. М., 1927, с. 43–69 («Разлив»), Красная нива, 1928, 1 янв., № 1, с. 3–5 («Ямщик»), Правда, 1928, 8 янв., № 7 («В шалашах», «На воде»), Огонек, 1928, № 2 («Ой, жажда!», «Старик», «Ямщик и барыня»), Красная панорама, 1928, № 2, С. 4(«Потонувшая баржа»), НМ, 1928, № 2, с. 205–219 («Потанин»); почти полностью – Некрасов. Тонкий человек, с. 23–186; найденный в Карабихском архиве единственный остававшийся неопубликованным отрывок: «небом, среди незнакомой местности со Мало того» (с. 404–405, строки 13–16) – Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6. М., 1940, с. 21–22.
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VI.
Рукописный фонд романа довольно обширен.
Черновой набросок – ГБЛ, ф. 195, к. 1, ед. хр. 5, л. 1–2. Этот набросок (с пометой Чуковского: «Отрывок из первой части») представляет собой жанровую сценку отхода ко сну помещика Ивана Андреича, у ног которого приютился пес Раппо, а затем утреннего пробуждения и препирательств его со слугою Матвеем, не разбудившим его, как он просил, с восходом солнца на охоту, и был сделан еще до публикации начала романа в «Современнике». Но характерно, что образ барина здесь уже трактовался иронически и что был намечен эпизод бессмысленного убийства им спешащей с кормом к своим птенцам галки, позднее (в главе VI части первой) преображенный в эпизод столь же нелепого выстрела Грачова во время разлива в птицу-рыболова, которую он был вынужден выбросить за борт из-за преследования лодки собратьями жертвы. Опубликован К. И. Чуковским: Огонек, 1928, № 1 (под заглавием: «День Ивана Андреича»).
Черновой автограф (ГБЛ Л) отрывка («Всего лучше выписать отметку самого Грачова со двинулись в Москву») главы III и начала главы IV, с заглавием: «Тонкий человек. Его путевые, охотничьи и сердечные приключения [в 1853 году]. Часть 1-ая» – ГБЛ, ф. 195, к. 1, ед. хр. 3, л. 2–3 и обложка. На внутренней стороне обложки помещены несколько отрывочных фраз диалоги которые ведут к окончательной редакции главы IV, сцене «За стеной».
Черновые автографы (ГБЛ Б, ГБЛ В, ГБЛ Г) глав, являющихся продолжением печатного текста (отсутствуют глава I и окончание главы II части второй), – ГБЛ, ф. 195, к. 1, ед. хр. 4л. 1-43 об., ед. хр. 6, л. 1–7 об., ед. хр. 7, л. 1–6 об., причем от автографа ГБЛ Г Некрасов перешел снова к ГБЛ Б, набрасывая на свободных листах продолжение романа.
Один лист, относящийся к автографу ГБЛ Г и имеющий знак вставки, был обнаружен в Карабихском архиве в 1940 г. уже после первой публикации романа К. И. Чуковским, который, почувствовав пробел в данном месте текста, пошел на контаминацию зачеркнутых и незачеркнутых строк. При включении романа в ПСС в 1950 г. (т. VI) эта же компромиссная редакция соответствующих строк была повторена. В настоящем издании по смыслу и на основании знака вставки, которому соответствует такой же знак в автографе ГБЛ Г, этот лист (ГБЛ, ф. 195, М 5757.3) положен Iоснову окончательного текста, а зачеркнутые строки перенесены в раздел «Другие редакции и варианты» (с. 661–662).
Глава, непосредственно следующая за печатным текстом, ошибочно мыслилась поэтом как глава IV; соответственно ей были пронумерованы и остальные главы. Отдельные места повествования, представленные сначала в черновом виде, иногда переписаны повторно (так, например, существует незачеркнутый вариант отрывка главы VII, имеющий самостоятельное значение). Незавершенность романа, особенно неопубликованных глав, сказалась х в том, что из текста не устранены следы первоначального замысла, по которому Грачов путешествует с двумя приятелями – Тростниковым и Кротовым. Упоминания о Кротове встречаются, в частности, в главе V. Поскольку функции Кротова затем целиком переданы Тростникову и уже в середине этой главы автор сам начал исправлять фамилию Кротов на Тростников, редколлегия издания сочла возможным унифицировать текст, оставив лишь одного антипода Грачева – Тростникова.
Как свидетельствуют варианты к роману, работа над ним была подчинена основной творческой задаче – показать соприкосновение путешественников, «тонкого человека Грачова» и его «приятеля»-оппонента Тростннкова, с народной жизнью. Поэтому столь большое внимание уделял Некрасов отделке описаний поры весеннего разлива, населения «облитых» и «необлитых» деревень и их быта, воспроизведению облика и поведения ямщиков и гребцов. Так, например, при обрисовке молодого возчика, поведавшего седокам об Адовщине и ее управляющем, особо детализировался эпизод ухода парня по воде в разведку, когда он чуть не утонул и потерял шляпу, юмористически оттенялась ссора его из-за этой шляпы со своими спасителями, рассказавшими об его прошлогодних любовных вояжах по воде, что оживляло образ «русского Леандра» (см.: Другие редакции и варианты, с. 600–604, варианты к с. 349–353, и реальный комментарий, с. 764). Стремясь ярче я убедительнее проиллюстрировать свой обобщающий вывод о надежности «слова» мужика, взявшего на себя обязанность доставить чью-либо «особу» (см. там же, с. 621–622, варианты к с. 366, строкам 7-12), Некрасов подчеркивал как мужество гребцов, борющихся с водной стихией, так и выносливость, спокойствие и скромность ямщика Никиты, который, подрядившись доставить через разлив барыню с семейством, многократно переносил на руках карету и пассажиров и потом совсем не кичился, даже не желал рассказывать о своем подвиге (см. там же, с. 616–619, 622–825, варианты к с. 363–364 и к с. 366–369). Следует отметить также представляющий интерес для объяснения подобных поступков, зачастую совершаемых без особых раздумий, зачеркнутый фрагмент рукописи, который повествовал о вере крестьян в коллективный опыт и был заменен в окончательном тексте одной фразой. Главная мысль этого отрывка: «„Люди ездят, людаделают, людибают“ – великое слово в деревне» (там же, с. 620–621, вариант к с. 365, строкам 37–38). Раскрывая причины успеха «мирского» деятеля из крестьян Алексея Дементьевича Потанина, о котором ямщик говорит: «Правдой страшен, правдой и силен», Некрасов отмечал его нетерпимость к «фальши» (там 587, вариант к с. 329, строкам 13–14); описывая его жилище, образ жизни, обращение с подчиненными, старался показать, насколько просто и мудро его правление (см. там же, с. 589–593, варианты к е. 334–339). Изображение деревенской толпы, отношения крестьян к барину сопровождалось тщательной разработкой таких, например, сцен, как неожиданное появление в этих краях ботника в «господами» (см. там же, с. 606–609, варианты к с. 355–357). Одновременно, рисуя другие картины – освещенную заходящим солнцем полузатопленную избушку с работающим на крыше старшом и плавающей рядом в ботнике девочкой или «лагерь» переселенцев на бугре, каждый из которых занят каким-либо делом, Некрасов подчеркивал, что в этих необычных условиях сохраняются трудовой ритм жизни крестьян, ее значительность (см. там же, е. 625–626, 631–633, варианты к с. 370–371 икс. 380–381). С этой же целью велась работа над монологом Тростникова (в насмешливой интерпретации Грачова) о поэтическом чувстве крестьян, верных своим заливаемым полям, на которых пахали еще их предки (см. там же, с. 635–636, вариант к с. 383–384, строкам 30–21); уточнялись рассуждения о мудрости и тонкости народных определений сущности человека, выразительности народного языка, в частности наименования «рохля», отнесенного к типу последнего неудачливого ямщика (см. там же, с. 656–658, вариант к 6 399–400, строкам 35–33 – черновая и беловая редакции).
Иные штрихи вносил Некрасов в характеристику Грачова, всё более заостряя ее иронический подтекст. Так, например, после описания происшествия с едва не погибшим молодым ямщиком на полях было вписано замечание о том, что Грачов почувствовал себя совершенно расквитавшимся, дав тому три целковых, и рассуждение о спокойствии его совести в случае денежного обеспечения жертвы, а также подчеркнуто убеждение Грачова в «железном здоровье» русского мужика (см. там же, с. 604, вариант к с. 353, строкам 16–20, и с. 599–600, варианты к с. 347–348, строкам 42-2). Был также отшлифован диалог его с другим промокшим ямщиком, потчуя которого портвейном, Грачов не преминул упомянуть, что его следовало бы угостить «зуботычинами» (см. там же, с. 661, вариант к с. 404, строке 8). Дважды обращаясь в рукописи к итоговому анализу личности «тонкого человека», Некрасов особо остановился на его так называемом «гуманизме» и боязни упасть в глазах своих авторитетов – членов петербургского кружка (см. там же, с. 637, варианты к с. 385, строкам 23–26, и с. 661, варианты к с. 404, строкам 11–20).
Неиспользованными остались два любопытных фрагмента. Об одном, черновом наброске ранней редакции, уже говорилось выше (см. с. 757). Второй – вставной незачеркнутый отрывок из главы VII – был заменен при переписывании более лаконичным текстом. В отрывке рассказывалось о поездках гурмана Грачова с поваром для закупки различных хозяйственных принадлежностей, снеди и вина в Муром, Гороховец и Вязники. Этот отрывок контрастно оттенял в предшествующей главе VI эпизод со стосорокалетним стариком, который по неделям лежал на печи и грыз хлебную корочку, пока не приходила присматривавшая за ним шестидесятилетняя «молодица» Матренушка.
Роман датируется приблизительно 1853–1855 гг. Он не мог быть начат ранее 1853 г., так как только в апреле-августе этого года Некрасов совершил поездку в сельцо Алешунино Владимирской губернии, впечатления от которой отразились в романе: Грачов и Тростников выезжают весной из Петербурга и путешествуют по тем же местам, что и Некрасов; без изменения оставлены названия окрестных деревень, рек, озер; описание имения Грачова совпадает с описанием дома Некрасова в Алешунине (см. письмо к Тургеневу от 9 июля 1853 г.); собаки Раппо и Дианка, а также ружье системы Пордэ принадлежали Некрасову. С этой точки зрения следует отвергнуть мнение С. Г. Лазутина в статье «К истории создания романа „Тонкий человек“ и поэмы „Саша“ Н. А. Некрасова» о том, что «начать работу над романом „Тонкий человек“ Некрасов мог не в 1853 году <…> а значительно раньше» (Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972, с. 30).
Прекращение работы над романом относится к 1855 г. Основной причиной этого К. И. Чуковский считал события 1854–1855 гг. (см.: Некрасов. Тонкий человек, с. 11). После поражения России в Крымской войне и смерти Николая I русская печать заговорила о крестьянском вопросе свободнее. Изображение процветающей, умиротворенной крестьянской общины во главе с Потаниным могло в новых условиях показаться нетипичным (см. также: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 173–174; Соколов В. В.От крестьянской утопии к образу пореформенной России. (Алексей Потанин и Ермил Гирин). – Учен. зап. Калинингр. гос. ун-та, кафедра русской и зарубежной лит., 1970, вып. 5, с. 97–98).
Изменившаяся социально-политическая обстановка, когда крестьянский вопрос требовал своего революционного разрешения, а либералы из союзников превратились в противников демократического («снизу») освобождения крестьян, исключала идеализацию крестьянской общины и делала ироническое отношение к либерализму явно недостаточным. В условиях складывающейся революционной ситуации это означало бы защиту эволюционного пути развития, что не соответствовало ни позиции «Современника», ни взглядам Некрасова. Причиной отказа от публикации последующих глав и от продолжения работы над романом была отчасти и болезнь Некрасова, потребовавшая длительного лечения.
Роман Некрасова во многом автобиографичен. В нем отразились личные впечатления Некрасова, в образах героев – черты его характера и черты реальных лиц, его близких знакомых. Так, Стычипский, в доме которого остановились Грачов и Тростников, – муромский помещик С. С. Рачинский. В деревне Софоново у него был дом. Алексей Дементьевич Потанин – крепостной крестьянин, управляющий вотчиной А. Ф. Орлова. Правда, у него не было детей, в семье, кроме него и жены, Ирины Марковны, жил двоюродный брат Потанина Андрей Иванович (см.: Васильев С.Н. А. Некрасов во Владимирском крае. – В кн.: Владимир. Альманах, кн. 2. Владимир, 1952, с. 188–200). К. И. Чуковский высказал предположение, что петербургские литературные знакомые Грачева и Тростникова также имеют свои прототипы: Ильменев – Тургенев, Горновский – Грановский, Лодкин – В. П. Боткин (см.: Некрасов. Тонкий человек, с. 13).
Однако автобиографизм повести при всей его несомненности не мешал Некрасову создавать собирательные характеры. Как указал К. И. Чуковский, в Тростникове можно найти черты самого Некрасова: «щедрость», «наклонность к унынию», «трезвый и насмешливый ум». Необходимо отметить, что Тростников вообще является проходящим через ряд произведений автобиографическим образом, в котором воплощен взгляд на жизнь поэта-разночинца (кроме «Жизни и похождений Тихона Тростникова», «Тонкого человека…» он фигурирует и в незавершенной повести «В тот же день часов в одиннадцать утра…», в которой изображены литературные деятели и события середины 1840-х и, возможно, 1850-х гг., непосредственным участником которых был Некрасов). Но было бы ошибкой, по словам В. Е. Евгеньева-Максимова (т. II, с. 177), отождествить Некрасова и Тростникова. То же касается и Грачева, в котором в несколько гротескном виде обобщены отличительные особенности либеральной дворянской интеллигенции. С. Г. Лазутин (указ. соч., с. 19–31) полагает, что образ Грачова полемичен по отношению к Константину Сергеевичу Левину – герою повести А. В. Станкевича «Идеалист», прообразом которого послужил брат писателя – Н. В. Станкевич. Но это доказывает только, что образ либерала занимал Некрасова. Грачов – типический портрет либерала, поскольку в нем собраны индивидуальные черты разных характеров – П. В. Анненкова, Н. В. Станкевича, А. В. Дружинина, В. П. Боткина, хотя он не сводим ни к одному из них в отдельности. Объединяя в Грачеве психологические свойства либерала как социального типа, Некрасов одновременно упрощает их, ибо Грачов – натура заурядная, мелкая, бездарная. А под такую характеристику не подпадают ни Анненков, ни Боткин, ни Станкевич, ни Дружинин.
Уезжая в Алешунино, Некрасов отправил 10 апреля 1853 г. письмо Д. В. Григоровичу, в котором, выразив самое положительное отношение к роману последнего «Рыбаки» («Ваш роман без преувеличения удивительно хорош»), писал: «Я еду на самое место действия Вашего романа – в деревню, лежащую при Оке, и мне любопытно будет посмотреть, насколько верны Ваши описания». В романе Григоровича «Рыбаки», печатавшемся в «Современнике» J1853, № 3, 5–6, 9), действие происходит в период столь же буйного весеннего половодья, развивается тема крушения патриархальных нравов и проникновения в деревню новых буржуазных отношений, изображаются различные типы крестьян. Таким образом, замысел «Тонкого человека…» созревал на фоне этого «романа народной жизни» Григоровича. В то же время роман Некрасова «Тонкий человек…» включается в традицию записок путешественника – Свифта, Рабле, Радищева, Пушкина, Гоголя и в основном Тургенева (см. об этом: Карамыслвва О. В.О жанре романа Н. А. Некрасова «Тонкий человек, его приключения и наблюдения». – Некр. и его вр., вып. 5, с. 45–52). Некрасов продолжает традицию «Записок охотника» Тургенева, создавая свою галерею крестьянских образов, повстречавшихся «приятелям-охотникам». Он прямо упоминает о рассказе «Свидание», воспроизведя в ироническом плане вместо лирической ситуации Тургенева рыдания молодого купчика, оплакивающего потонувшую расшиву с крупой и мукой и свои надежды на выгодную женитьбу.
Отмечено также (Н. С. Ашукин, К. И. Чуковский), что в романе отразилось увлечение Некрасова Теккереем, сказавшееся в названиях опубликованных глав (см.: Ашукин Н.Некрасов и охота. – В кн.: Охотничье сердце, с. 44–45; Некрасов. Тонкий человек, с. 14–15).
Комментируемый незавершенный роман обнаруживает связи и с рядом предшествующих и последующих произведений самого Некрасова. Так, драматическая сцена «За стеной» выросла из «Письма от купца к купцу», которое появилось в «Литературной газете» в 1845 г. (см.: ПСС, т. V, с. 543–546). Отрывок из «Повести о Суркове», в котором рассказывается о продаже купцом затонувшего товара, имеет некоторое сходство с тем местом из романа «Три страны света», где повествуется о крушении барок на Боровицких порогах. А. Н. Зимина в статье «Проблема лишнего человека в творчестве Некрасова 50-х годов…» (см.: Учен. зап. Удмуртск. гос. пед. ин-та, 1956, вып. 10, с. 99–118) и С. Г. Лазутин (указ. соч., с. 19–31) обратили внимание на внутреннее соответствие образов дворян-либералов Грачова и Агарина в поэме «Саша» (известно, что Некрасов предполагал описать и «сердечные приключения тонкого человека»). В какой-то мере образ Грачова стоит в одном ряду и с героем некрасовского стихотворения «Филантроп» (1853). Характеристика петербургских литераторов дана в том же ключе, что и в повести «В тот же день часов в одиннадцать утра…». Некоторые образы и мотивы романа получили развитие в последующих произведениях поэта. Спор-диспут о современной жизни между сторонниками разных убеждений станет формообразующим центром в «Сценах из лирической комедии „Медвежья охота“» (1866–1867). Картины весеннего разлива в романе напоминают описания половодья в стихотворениях «Дедушка Мазай и зайцы» (1870), «Пчелы» (1867); сцены с детьми, дивящимися фигурам охотников и их огромной охотничьей собаке, варьируются в стихотворении «Крестьянские дети» (1861). Раскрытие Некрасовым народной поговорки «молодо-зелено» (см. с. 391–392) как бы предварило шедевр его лирики «Зеленый шум» (1862–1863) (см. об этом: Жданов В.Заметки о Некрасове. – НМ, 1971, № 9, с. 241). А в жанре «путешествия», странствования по Руси, включающего в некоторых случаях эпизод посещения родового имения, кроме ранних стихотворений «Родина» (1846) и «Псовая охота» (1846) будут написаны потом такие крупные эпические произведения, как «Коробейники» (1861) и «Кому на Руси жить хорошо» (1865–1877). Преемником справедливого крестьянина Потанина станет Ермил Гирин из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», образ которого освобожден от мотивов покорности и религиозности (отмечено В. Б. Соколовым (указ. соч., с. 92–107) и М. М. Гином в статье «Социалистические мотивы в наследии Н. А. Некрасова» (см.: О Некр., вып. III, с. 7–32)). Но если Ермил Гирин, ставший участникомнародного бунта, превосходил Потанина с точки зрения социальной активности, то Потанин был выше своего последователя в нравственном отношения (Ермил Гирин оступился и выгородил своего младшего брата от рекрутчины, Потанин же сам сдает своего сына в рекруты, осуждая сговор крестьян, пытавшихся заменить его другим юношей). Рассказ о Потанине выдержан «в духе бытовавших в крестьянской среде социально-утопических легенд о „далеких землях“»; выбор тона повествования, как и выбор средств внешней и внутренней характеристики персонажа, с его благообразием, религиозностью, любовью к общению с детьми, определяется тем, что сведения о Потанине и его мудром правлении повествователь получает в основном от крестьян (см.: Мельгунов Б. В.Некрасов и крестьянская утопия. – РЛ, 1980, № 1, с. 77).







