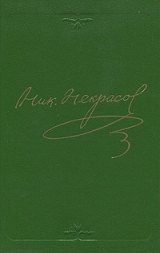
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
В романе «Жизнь как она есть» в карикатурном, пасквильном виде были изображены многие писатели, критики и прежде всего сотрудники «Отечественных записок»: Краевский, Белинский, Панаев, Некрасов и др. Современники, принадлежавшие к самым различным идеологическим лагерям, угадывали их поименно. В частности, П. А. Плетнев, отнюдь не сочувствовавший направлению «Отечественных записок», писал Я. К. Гроту 2 февраля и 18 октября 1844 г.: «Этот романист в лице парижских журналистов отхлестал Сенковского, Краевского, Белинского и Панаева <…> тот Брант, над романами и критическими статьями которого глумятся все журналисты» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. II. СПб., 1896, с. 177, 333–334). Белинский откликнулся на пасквиль Бранта рецензией, в которой в образе писаки-шута вывел самого автора «Жизни как она есть», а о его романе отозвался так: «Мертво, вяло, скучно, пошло» (Белинский, т. VIII, с. 138). В объяснительном письме к А. В. Никитенко по поводу рецензии Белинского, вызвавшей недовольство цензора, А. А. Краевский писал с возмущением: «Кто же может пожаловаться на статью? Уж верно не Брант же, который сам гораздо резче и ближе дает чувствовать, что под портретами мошенников-литераторов он выставил меня, Сенковского, Кони, Белинского и Некрасова». [23]23
См. письмо А. А. Краевского к А. В. Никитенко от 31 января 1844 г. (ИРЛИ, 18.566. CXXIII б. 1; отрывки опубликованы в кн.: Белинский, т. VIII, с. 663).
[Закрыть]Позднее, в 1849 г., Некрасов откровенно говорил о бездарности произведений Бранта иих печальной славе: «Эти романы подали при своем выходе повод к нескольким забавным журнальным рецензиям, но с тем и кончилась их известность» (С, 1849, № 9; ПСС, т. XII, с. 255).
Однако, критикуя Бранта, Некрасов вместе с тем воспользовался несколькими эпизодами из «Жизни как она есть» в части второй своего романа.
О Сенковском в главе II части второй читаем: «Один, высуня язык и надев шутовской колпак, кривлялся пред публикою скоморохом…»(с. 156; курсив наш, – Ред.).В романе Бранта содержится выпад против Сенковского почти в тех же выражениях: «…она <публика> <…> заклеймила его прозвищем уличного шута,каким прозвищем он, впрочем, гордится, по-видимому <…> он лезет из кожи <…> ломается, кривляется, высовывает язык,пляшет и скачет, марает лицо свое, и без того некрасивое, сажею, углем <…> рядится в самые уродливые маскерадные костюмы, надевает колпак с бубенчикамии всякими погремушками, строит гримасы, кувыркается, ходит на голове – всё это, разумеется, шутовским пером своим» (Брант Л.Жизнь как она есть. СПб., 1843, с. 115–116). [24]24
Здесь и далее все курсивы в цитатах из произведения Л. В. Бранта принадлежат нам (Ред.).
[Закрыть]
Угроза «почтеннейшего» – «…сильные меры приму…» (с. 179), упомянута в романе Бранта как предлагаемая полицейская форма борьбы против передовой журналистики, главным образом против «Отечественных записок», «проповедующих нелепые теории и вредные воззрения». «Ограничить злоупотребления периодических изданий и повести их по пути истинному, – пишет Брант, – дело очень возможное: следует только <…> взяться за него твердою рукою <…> принять сильные меры,привесив некоторого рода нравственные гири к головам людей неблагонамеренных» (Брант Л.Жизнь как она есть, с. 127–129).
Возможно, название водевиля «Закулисные журнальные тайны», обещанного Тростниковым для «бенефиса актера, отличавшеюся необыкновенной любезностью» (с. 174), также навеяно пасквилем Бранта. В романе Бранта находим близкую по смыслу и стилю фразу, относящуюся к герцогине, на вечере у которой собираются журналисты: «…она знала все закулисные литературные сплетни, все тайные пружины печатных действий журналистов» (Брант Л.Жизнь как она есть, с. 114).
Не случайно Тростников опасается, что, если он откажется написать такого рода водевиль, «одна из жалких и смешных ролей», которые он «назначал своим врагам», придется на его долю. Здесь содержится намек на известный современникам факт: в романе Бранта Некрасов был выведен в образе сотрудника «энциклопедического журнала» («Отечественных записок») с «умишком полуобразованным, вертящимся около того,чего сам порядочно не понимает» (Брант Л.Жизнь как она есть, с. 117). Выражение «около того» обыгрывалось в водевиле Некрасова «Шила в мешке не утаишь – девушки под замком не удержишь» (1841) (см.: наст. изд., т. VI, с. 217–250), по поводу которого рецензент «Отечественных записок» заметил, что автор «часто прибегает к пустым эффектам, основанным на беспрестанно, кстати и некстати, повторяемой бриллинантщиком поговорке „около того“» (ОЗ, 1841, № 6, «Театральная летопись», с. 120).
Однако свободное владение злободневным литературным материалом отнюдь не исключало самостоятельных жизненных наблюдений писателя, глубоко понимавшего суть общественно-литературной полемики 1840-х гг. Меткие художественные обобщения в раскрытии темы петербургской литературной жизни несомненно связаны с личными впечатлениями Некрасова от знакомства как с крупными литературными деятелями (Белинский, Герцен), так и с петербургскими журналистами второго и третьего ряда, именуемыми И. И. Панаевым «литературной тлей». И. В. Павлов, студент Московского университета, в 1840-е гг. близкий с Т. Н. Грановским, Герценом, писал о Некрасове в период его приезда в Москву и в Соколово к Герцену летом 1845 г.: «… переселился к нам на квартиру Некрасов. Он чудный малый! <…> Я с ним очень сошелся. Он каждый вечер является навеселе и рассказывает Тьму забавнейших анекдотов о петербургской литературе» (см. недатированное письмо И. В. Павлова к А. И. Малышеву – ГБЛ, ф. 135, карт. 60, ед. хр. 66, л. 3).
Не меньшее место в романе уделено теме народа, характерной для литературы «натуральной школы» и ставшей вскоре центральной для всего поэтического творчества Некрасова. Судя по многим сюжетно законченным главам («О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются», «История Параши» и др.) и в особенности по последней, незавершенной части, Некрасов предполагал развить ее основательно. Как подступы к ее решению можно рассматривать отдельные зарисовки характерных типов (обитатели «петербургских углов», посетители трактира, рыжий печник и др.). Часть третья содержит ряд эпизодов посвященных изображению крестьян, которые приехали на заработки в Петербург. В одном из них рассказывается о знакомстве Тростникова с крестьянской девушкой Агашей (по существу этот сюжет представляет собой «историю Агаши»). Особое внимание Некрасов придавал рассказу о встрече Агаши с ее братом извозчиком Ванюхой. Именно этот отрывок готовился для публикации под названием «Похождения Тростникова». Последняя часть, несмотря на ее фрагментарность и незавершенность, представляется в известной мере итоговой: в ней отчетливо прослеживаются демократические симпатии Некрасова, устойчивый интерес к теме городской бедноты, с которой ассоциировалась в сознании молодого писателя проблема судеб народа. Не случайно одновременно с работой над романом в 1845–1847 гг. Некрасов создает ряд выдающихся произведений: «В дороге», «Родина», «Огородник» и др., высоко оцененных Белинским не только за их художественную зрелость, но и за антикрепостническую направленность. Именно в последней части намечаются эстетические принципы осмысления проблемы народа, основанные на социальном противопоставлении «несчастливцев, которым нет места даже на чердаках и подвалах», «счастливцам, которым тесны целые домы» (с. 250). Эти принципы изображения народной жизни легли в основу издания «Стихотворений» (1856) Некрасова и всего его поэтического творчества.
Отдельные эпизоды части третьей (знакомство Тростникова с историей Агаши, перекликающейся с аналогичным сюжетом («История Параши») в «Похождениях русского Жилблаза») позволяют сделать вывод о том, что в процессе работы над романом Некрасова занимал вопрос взаимоотношений народа и сочувствующего ему литератора-разночинца.
Идейной и тематической насыщенностью «Жизни и похождений Тихона Тростникова» объясняется место романа в творчестве Некрасова. Произведение это вобрало в себя множество мотивов, проблем и образов, полно раскрывшихся затем в поэзии зрелого художника. Так, тема социальных контрастов Петербурга, впервые поставленная в романе, пройдет через всю поэзию Некрасова, найдя отражение в стихотворном фельетоне «Говорун» (1843–1845), в поэме «Несчастные» (1856), в циклах стихотворений «На улице» (1850) и «О погоде» (1858–1865). Может быть отмечено сходство сюжета стихотворения «Вино» (1848) с историей Кирьяныча в части первой романа. «Петербургские танцклассы» будут упомянуты в стихотворениях «Новости» (1845) и «Прекрасная партия» (1852), в романе «Три страны света» (1848–1849). В том же духе, что и в романе, дается характеристика литературной и театральной жизни в «Трех странах света» и «Мертвом озере» (1851).
Многие строки романа, в том числе сохранившиеся в вариантах и набросках, почти дословно повторяются в поэтическом наследии писателя. Например, строка «Отцветешь, не успевши расцвесть» из стихотворения «Тройка» (1846) полностью соотносится с одним из черновых вариантов романа (см.: Другие редакции и варианты, с. 527). Диалог на Невском проспекте в главе VIII «Похождений русского Жилблаза» («Куда вы идете? ~ Ну так, может быть, вы лучше любите ездить?» – с. 219–220) совпадает со следующими строками из стихотворения «Говорун»: «Куда идти изволите, Куда вы, ангел мой? Что пальцы вы мозолите, Поедемте со мной!» (наст. изд., т. I, с. 471). Строки из части третьей «Жизни и похождений Тихона Тростникова»: «…хозяин дома с проклятиями заказывает три небольшие гробика…» (с. 251) – повторяются в стихотворении «Еду ли ночью по улице темной…» (1847).
Судя по длительной работе, обилию вариантов и поправок в рукописи, писатель дорожил своим замыслом. О том, почему роман о Тихоне Тростникове не был в свое время завершен и не появился в печати, можно судить предположительно.
По мнению В. Е. Евгеньева-Максимова и других исследователей, это объясняется прежде всего цензурными причинами (см.: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 410; Некр. сб., вып. III, с. 37). Однако текст романа не дает оснований считать такое объяснение единственным, тем более что отрывок из романа, вызвавший серьезные цензурные затруднения («Петербургские углы»), был все-таки опубликован. Возможно, Некрасов отказался от завершения романа потому, что избранная им форма авантюрно-приключенческого романа жильблазовского типа к концу 1840-х гг., когда уже вышли в свет «Обыкновенная история» Гончарова, «Кто виноват?» Герцена, «Бедные люди» Достоевского, «Запутанное дело» Щедрина, явно устаревала (см.: Вердеревская Н. А.Становление типа разночинца в русской литературе 40-60-х годов XIX века, с. 39), хотя в процессе работы над «Жизнью и похождениями Тихона Тростникова» авторские усилия были направлены на пересоздание традиционного жанра (см. об этом; Карамыслова О. В.Художественное своеобразие романов Н. А. Некрасова. Автореф. канд. дис. Киев, 1982, с. 5–10).
Роман о Тростникове не был закончен, по-видимому, еще и потому, что он не состоялся как роман. В нем преобладают слабо связанные между собой физиологический очерк («О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются», «История ежовой головы» и др.), с одной стороны, авантюрные и пародийно-авантюрные эпизоды («История Матильды») – с другой. Содержание «Жизни и похождений Тихона Тростникова» (проблема становления разночинца, его взаимоотношений с народом) явно опережало избранную форму. Писателю не удавалась целостная композиция; роман распадался на несколько сюжетных линий, хотя по замыслу их должен был объединять образ центрального героя.
На судьбе романа сказалась, очевидно, и занятость Некрасова – его напряженная организаторская работа по созданию программных сборников («Физиология Петербурга», «Петербургский сборник»), а также деятельность в качестве соредактора «Современника» с 1847 г.
Не исключено, что писатель не довел роман до конца, не публиковал даже отрывков из него после 1845 г. и по тактическим соображениям. Многие наиболее интересные и злободневные по содержанию главы (в особенности глава «Почтеннейший») отличались полемичностью и были насыщены острыми выпадами по адресу живых современников.
Однако незавершенный роман о Тростникове знаменовал собой определенный этап в творческом развитии Некрасова. Работа над рукописью первого большого самостоятельного произведения явилась для молодого художника своеобразной литературной школой; этот опыт плодотворно сказался в его поэтическом творчестве.
…я не сделался ни безотчетным мечтателем~ фантазировать натощак мне казалось делом до крайности неблагоразумным.– Ср. с рассуждением о петербургских мечтателях в «Сургучове» (с. 289–290).
На что я ни жаловался не напечатано! – Автобиографический эпизод. Некрасов иронизирует по поводу содержания сборника «Мечты и звуки» (СПб., 1840). Ср. с оценкой Белинского подобной поэзии в статье «Русская литература в 1843 году» (ОЗ, 1844, № 1): «О грусти, разочаровании, идеалах, неземных девах, луне, сладостной лени, разгульных пирах, шипучем вине, отчаянии, ненависти к людям, погибшей юности, измене, кинжалах, ядах – обо всем этом уже было сказано и пересказано тысячу раз…» (Белинский, т. VIII, с. 61).
Прийти под сень развесистых дубов– перефразированная строка из стихотворения «Красавице» (МиЗ): «Слетя ко мне под сень развесистого древа» (см.: наст. изд., т. I, с. 255).
Где, заковав в горячие объятья, Тебя, о дева неги, буду лобызатья… – Ср. со строками «Песни» (МяЗ):
Девы! ведь чувства во мне не затворены,
Я не бездушный гранит.
Дайте любви мне – радость безумная
Вспыхнет, как пламя, в крови;
Прочь, неотвязная грусть многодумная,
Всё утоплю я в любви!
(см.: наст. изд., т. I, е. 226),
О юноши! О вы, недавние гости мира, принимающие необузданное кипение крови в молодых жилах ваших за вдохновение~ из вечно живого источника утешений, которые почерпают в искусстве люди, подходящие к нему с трепетом и благоговением! – Лирическое отступление, ассоциативно связанное с лирическими отступлениями в «Мертвых душах» (в частности, обращением к юношеству в главе VI – Гоголь, т. VI, с. 127), с рассуждением Гоголя о высоком назначении поэта-художника, о его подвижническом служении искусству в повести «Портрет» (см. там же, т. III, с. 126–137). … необузданное кипение крови~ за вдохновение… – реминисценция из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839). Ср. также заключительную строфу стихотворения Некрасова «Тот не поэт» (МиЗ) (см.: наст. изд., т. I, с. 256).
Тут было всё, что воспевали наши поэты. И «Тройка»,к «Колокольчик», и «Она», и «Водопад», и «Пляска», и «Луна», и «Мечты», и «Горе».– Некоторые из перечисленных тем и образов, ставших общими местами в псевдоромантической поэзии 1830– 1840-х гг., нашли отражение в стихотворениях Некрасова «Изгнанник», «Встреча душ», «Незабвенная», «Сомнение» (МиЗ) (см.: наст. изд., т. I, с. 196, 207, 219, 224). Ср. также рецензию Некрасова «„Были и небылицы“ Ивана Балакирева» (1843): «…были бы слова да рифмы,а предметакак не найти, начиная с луныи девыдо могилы и завядшего цветка» (ПСС, т. IX, с. 75). Аналогичный перечень тем содержится в анонимной рецензии «„Цветы и музы“. Стихотворения А. Градцева. СПб., 1842»: «И какое было тогда блаженное житье поэтам! Поэт мог воспевать „мечту“, „деву“, „луну“, „нездешнего гостя“, „родину“, „музу“, „очи“, не опасаясь имени подражателя, компилятора подержанных мыслей и выражений» (ЛГ, 1842, 18 янв., № 3, с. 52–54). Об атрибуции рецензии Некрасову см.: Егоров В. А.Неизвестные рецензии Н. А. Некрасова в «Литературной газете». – Некр. и его вр., вып. 3, с. 142–150.
…приобрел в нем, подобно Горацию со своего мецената… – Квинт Гораций Флакк (65 до н. э. – 8 до н. э.), римский поет. В 33 г. до н. э. был представлен римскому государственному и литературному деятелю Гаю Цильнию Меценату и пользовался его покровительством; имя последнего как покровителя искусств стало нарицательным.
Он сказал моему отцу, что даст мне такое рекомендательное письмоcno его превосходительству Игнатию Степановичу Закобякину.– В 1872 г. Некрасов писал в автобиографии: «Прокурор Полозов дал рекомендательное письмо жандармскому генералу Полозову об определении в Дворянский полк» (см.: ПСС, т. XII, с. 11). Ср. также записи А. С. Суворина о встрече с Некрасовым 16 января 1875 г.: «Некрасов приехал в Петербург, когда ему не было еще 16 лет, с письмом отца к жандармскому генералу Полозову, соседу по имению. В письме была просьба определить Н<екрасова> в Дворянский полк. Полозов отправил его к Ростовцеву, который сказал, что это можно. Но Н<екрасову> не хотелось этого, и он пришел к Полозову просить его, чтобы он не беспокоился насчет определения его: „Я хочу поступить в университет“» (см.: Краснов Г. В.Из записок А. С. Суворина о Некрасове. – Прометей, т. 7. М., 1969, с. 287; см. также: Скабичевский А. М.А. Н. Некрасов. Ст 1879, т. I, с. XXIII–XXIV).
…на совести моей нет ни одной патриотической драмыее очень хорошо известными господам, упражняющимся в изделиях такого рода.– Намек на патриотические драмы Н. А. Полевого, П. Г. Ободовского и др. Ироническое отношение Некрасова к патриотическим драмам 1840-х гг. выражено в его пародии «Федотыч, трагедия в 5 действиях, в 16 картинах…» (рассказ «Без вести пропавший пиита», 1840).
…обмокнутую в лагунку… – Лагунка – дегтярная бочка.
…темно-серой шинелью на гроденапле… – Гроденапль – плотная шелковая подкладочная ткань.
…«обратный» ямщик… – ямщик, возвращающийся домой порожняком.
Другой генерал принял меня очень ласково ~ то какой же пример подадим подчиненным? – Эпизод сюжетно восходит к описанию хождений героя по департаментам в поисках «ваканции» («Повесть о бедном Климе»).
…я пошел к графине, у которой сын командовал уланским полком… – Этот эпизод основан на автобиографическом факте. По воспоминаниям В. А. Панаева, Некрасов, приехав в Петербург, обратился с рекомендательным письмом к дальней родственнице Марковой. Ее сып был в то время командиром лейб-гвардии уланского полка, который стоял в Новгородских поселениях. О визите Некрасова к Марковой В. А. Панаев вспоминал со слов Некрасова: «Прихожу, вижу древнюю старуху, сидящую у окна и вяжущую чулок; подал я ей письмо от отца, она позвала приживалку прочесть. – А, так ты из Ярославля? – спросила она. – Из Ярославля, бабушка. – Сюда в Петербург приехал? – Сюда, бабушка. – Учиться? – Учиться, бабушка. – Хорошо, учись, учись! – Сижу и жду, что будет дальше. – Так отец твой жив? – спросила она опять. – Жив, бабушка. – Ведь ты из Ярославля? – Из Ярославля, бабушка. И затем пошли одни и те же вопросы несколько раз. Вижу, что толку нет никакого, и ушел» (Панаев В. А.Воспоминания. – PC, 1901, № 9, с. 493).
…за полуштофом простого вина… – Полуштоф – четырехгранный стеклянный сосуд с коротким горлышком, вмещающий полштофа. Штоф – старая русская мера жидкости (обычно вина, водки), равная 1/8 или 1/10 ведра.
…стакан ерофеичу… – Ерофеич – водка, настоянная на разных пахучих травах.
Спензер– корсаж со шнуровкой или короткая облегающая куртка.
Всё тот же прах, суета; из одной земли сделаны и в землю все возвратимся.– Перефразированная библейская цитата: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Книга бытия, гл. 3, ст. 19).
Иное дело засечкасо сап… – Засечка – от слова «засечься», т. е. зашибиться, задев на ходу одной ногой за другую (о лошади); сап – неизлечимая заразная болезнь у лошадей и других животных.
…антимонии, да сера горючей, да девясильного корня… – Антимоний – сурьма, употребляется в медицине как рвотное; сера – легковоспламеняющееся вещество, применяемое в медицине и технике; девясил – многолетнее травянистое растение, но своим лечебным свойствам являющееся отхаркивающим и дезинфицирующим средством.
В бедной низкой комнате ~ да испещренную мухами рюмку с выбитым краем… – Описание убогой обстановки комнаты выдержано в стиле физиологического очерка; ср. также предметное изображение комнаты на картине П. А. Федотова «Свежий кавалер» (1846). Некрасов привлекал П. А. Федотова для участия в «Иллюстрированном альманахе» (см.: ПСС, т. X, с 110; т. XII, с. 119, а также: Загянская Г. А.Федотов. М., 1977, с. 7, 23).
Около ковра – единственный предмет роскоши – стоял деревянный трехногий стул, обтянутый кожею… – Ср. автобиографический рассказ «Без вести пропавший пиита»: «Плотно завернувшись в шинель, дрожащий от холода, я лежал на ковре <…> мебель моя состояла из одного трехногого стула…» (наст. изд., т. VII, с. 42).
Целый день лежал я среди полу на ковре~ лежалчеловек. – Автобиографический эпизод, о котором вспоминали многие мемуаристы. Н. В. Успенский передавал рассказ Некрасова об этом периоде его жизни так: «Жил я тогда на Васильевском острову, в самом нижнем этаже, так что окна моей комнаты приходились как раз в уровень с панелью, по которой бродил народ, постоянно заглядывая в мою конуру, лишенную всякой мебели. По целым дням я лежал в старой своей шинели на полу. Толпы любопытных не отходили от моих окон. Выведенный из терпения непрошеными зрителями, я наконец вышел на улицу и затворил ставни» (Иллюстрированная газета, 1878, 5 февр., № 6). Ср. рассказ Некрасова В. А. Панаеву: «Некоторое время я кое-как перебивался, по наконец пришлось продать все скудное мое имущество, даже кровать, тюфяк и шинель, и остались у меня только две вещи: коврик и кожаная подушка. Жил я тогда на Васильевском острову, в полуподвальной комнате, с окном на улицу. Писал я, лежа на полу; проходящие по тротуару часто останавливались перед окном и глядели на меня. Это меня сердило, и я стал притворять внутренние ставни, так, однако, чтобы оставался свет для писания» (PC, 1893, № 9, с. 500–501).
…я вспомнил все прежние мечты мои~ и снова предался им безотчетно. – Некрасов перефразирует строки тургеневского стихотворения «Человек, каких много»: «И по часам стал предаваться безотчетным „Мечтам и снам“» (Тургенев, Соч., т. I, с. 45), использованные им в качестве эпиграфа к главе II части третьей «Жизни и похождений Тихона Тростникова». См. также ниже, комментарий к с. 243.
…потом я закрасил белые нитки шва чернилами ~ ваксы у меня не было… – Ср. аналогичный эпизод в рассказе «Без вести пропавший пиита»: герой добывает чернила из ваксы, поливая водой свои худые сапоги (см.: наст. изд., т. VII, с. 45–46).
Я переходил из одной книжной лавки в другую, предлагая свои стихотворения… – Косвенно воспроизводится история издания сборника «Мечты и звуки. Стихотворения Н. Н.», напечатанного в 1840 г. в Петербурге в типографии Е. Алипанова. В автобиографических заметках 1872 г. Некрасов писал по этому поводу: «Со мной была тетрадка стихотворений, на нее возлагал я большие надежды. <…> В начале 1840 года я приступил к изданию привезенных стишков отдельной книжечкой» (ПСС, т. XII, с. 11). В начале 1840-х гг. на Невском проспекте, в доме, где помещалась Публичная библиотека, и близ нее, в Гостином дворе, на Садовой улице, было сосредоточено большинство книготорговых лавок. Среди них наиболее известными являлись книжные лавки Ильи Ив. Глазунова и его братьев, И. И. Заикина и его сыновей, Я. А. Исакова, М. Д. Ольхина, Ф. В. Базунова, А. Ф. Смирдина, В. П. Полякова, И. Т. Лисепкова и др. (см.: Материалы для истории русской книжной торговли. СПб., 1879, с. 1–60; Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782–1882. СПб., 1883, с. 5, 50, 54–55, 62–69).
Наконец я пришел в один великолепный магазинсо на лучшем месте Невского проспекта.– Имеется в виду магазин книгоиздателя А. Ф. Смирдина (1795–1857), с 19 февраля 1832 г помещавшийся на Невском проспекте в доме Петропавловской церкви (в настоящее время д. 22). Книжная лавка Смирдина s находившаяся при ней «библиотека для чтения» являлись в 1830-е гг. своеобразным литературным салоном. «Северная пчела» писала о книгоиздателе: «Смирдин ведет самую обширную книжную торговлю в России, и магазин его, обширнейший из всех европейских книжных магазинов, есть только малая частица того, что хранится в его кладовых. <…> Мелкие книгопродавцы только я живут тем, что покупают у него на сроки. Словом, А. Ф. Смирдин есть настоящий двигатель нашей литературы» (СП, 1840, 4 ноября. № 250, с. 999). См. также: Смирнов-Сокольский Н.Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957.
Только один книгопродавец, торговавший в Гостином дворе ее Рубликов-с пятнадцать можно бы дать-с… – Возможно, в описываемом Некрасовым книгопродавце есть черты В. П. Полякова, владельца книжных лавок «на Невском пр., на углу Михайловской ул., в доме гр. Строгановой, и в Гостином дворе, по Суконной линии, в доме № 17» (СП, 1840, 14 мая, № 105, с. 420), В. П. Поляков также издавал журналы «Пантеон русского и всех европейских театров» (под редакцией Ф. А. Кони), «Магазин детского чтения» (под редакцией А. П. Башуцкого), «Маяк» (под редакцией С. А. Бурачка). Некрасов познакомился с В. П. Поляковым через Ф. А. Копи в 1840 г. В октябре 1840 г. он продал В. П. Полякову две сказки («Баба-яга» и «Сказка о царевне Ясносвете»), два детских водевиля и драматическую фантазию «Юность Ломоносова». В книжных магазинах В. П. Полякова продавался сборная «Мечты и звуки». Современники неоднократно отмечали «предприимчивость» В. П. Полякова, готового ради успеха своей торговля и на мошенничество (см.: Панаев, с. 236–237; Воспоминания Ю. Арнольда, вып. II. М., 1892, с. 175). Еще один возможный прототип «книготорговца» – И. Т. Лисенков, книжный магазин которого, широко посещавшийся литераторами, находился в Гостином дворе (см.: Ивана Тимофеевича Лисенкова воспоминания в прошедшем времени о книгопродавцах и авторах. – В кн.: Материалы для истории русской книжной торговли, с. 65–70).
Это был человек~ не слишком тонкий и не слишком толстый.– Эти строки могли быть навеяны описанием внешности Чичикова в главе I поэмы Гоголя «Мертвые души»: «В бричке сидел господин ~ ни слишком толст, ни слишком тонок» (Гоголь, т. VI, с. 7).
Стихов нынче никто-с не читает… – Анонимная рецензия на сборник стихотворений Владимира Бенедиктова (СПб., 1842) начиналась словами: «Стихи! Стихи! Кто их нынче читает?» (ЛГ, 1842, 22 ноября, № 46, с. 940).
Возьмите-с – Ежов… Вот недавно вышла маленькая книжоночка «Стихотворения Ершова». – В эпизоде с псевдонимов «Ежов», напоминающим фамилию известного в 1840-е гг. поэта П. П. Ершова, автора сказки в стихах «Конек-горбунок» (1-е изд. – СПб., 1834, 2-е – М., 1840, 3-е – М., 1843), Некрасов мог использовать нашумевшее в 1840-х гг. литературное мошенничество с псевдонимами «барон Брамеус» и «барон Брамбеус». В 1840 г. в Петербурге вышли три книжки «Фантастических повестей и рассказов барона Брамеуса». Автор рассчитывал на то, что читатели раскупят эти книжки, приняв их за сочинение О. И. Сенковского. Журнал Сенковского «Библиотека для чтения» в специальной статье разоблачил подделку, указав на то, что «Фантастические повести в рассказы» выходили в 1839 г. под названием «Вечерние рассказы» и за подписью В. Невского (БдЧ, 1840, т. 39, «Литературная летопись», с. 2–5). См. об этом: Гаркави А. М.Из разысканий о Некрасове. – О Некр., вып. II, с. 301–302.
Я решился последовать совету невысокого книгопродавца и отправился к журналисту, ~ Я непременно напечатаю одно из ваших стихотворений. – Автобиографический эпизод. По приезде в Петербург Некрасов познакомился в октябре 1838 г. с Н. А. Полевым (прототип журналиста) и часто посещал его (см.: ИВ, 1883, № 3, с. 669–670, 672). По договору с А. Ф. Смирдиным Н. А. Полевой с 1838 г. негласно редактировал «Сын отечества», издававшийся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем, принимал участие в «Северной пчеле», с 1841 по 1842 г. редактировал «Русский вестник». В «Сыне отечества» по рекомендации Н. А. Полевого было опубликовано стихотворение Некрасова «Мысль» с примечанием от редакции: «Первый опыт юного, 16-тилетнего поэта» (СО, 1838, № 10, с. 100). В автобиографических заметках 1872 г. Некрасов писал по этому поводу: «Н. Полевой издавал „Сын отечества“. Он поместил одно стихотворение» (ПСС, т. XII, с. 12). Описание журналиста в романе Некрасова полностью совпадает с рассказом И. И. Панаева о том, какое впечатление производил Н. А. Полевой вскоре после его приезда в Петербург: «Я воображал Полевого человеком смелым и гордым, горячо и открыто высказывающим свои убеждения – и увидел в нем какого-то робкого, вялого, забитого господина, с уклончивыми ужимками, всем низко кланявшегося, со всеми соглашавшегося, как будто не имевшего ни малейшего чувства достоинства, даже как-то оскорбительно, для почитавших его, унижавшегося передо всем. <…> Он жил тогда на Песках, в доме, принадлежавшем некогда Д. М. Княжевичу» (Панаев, с. 77). См. также: Некрасов. Тростников, с. 33.
…обтянутый зеленым талоном… – т. е. скроенным куском ткани.
Разговор, сколько я мог понять, касался какого-то журналиста~ померанцы на кухне, квартира в шесть тысяч, лошади, люди, балы беспрестанно – а всё из чего?.. Обманом, проискам, надувательством… – Под журналистом подразумевался О. И. Сенковский, редактор «Библиотеки для чтения», издаваемая А. Ф. Смирдиным. И. И. Панаев писал о нем: «О роскоши, с которою жил редактор „Библиотеки“, носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи… Литераторы с завистливым удивлением рассказывали о великолепном кабинете Сенковского, о его лестнице, установленной цветами и тропическими растениями… н всем этим остроумный профессор восточных языков, пожаловавший сам себя в бароны, был обязан журналу. <…> Многие приписывали успех „Библиотеки“ талантливому балагурству, остроумию и беззастенчивости ее редактора, являвшегося под различными псевдонимами» (Панаев, с. 124–125).
Вот погодите, и Стуколкин скоро будет банкротом!~ Лупит с него по 15 тысяч за редакцию. – А. В. Никитенко, исполнивший обязанности цензора «Библиотеки для чтения», писал 8 января 1834 г.: «С этим журналом мне много забот <…> наши почтенные литераторы взбеленились, что Смирдин платит Сенковскому 15 тысяч рублей в год. Каждому из них хочется свернуть шею Сенковскому» (Никитенко, т. I, с. 133).
…выправит чужую статью, подпишет свое имя и сдерет вдесятеро! – Оредакторском самоуправстве О. И. Сенковского Гоголь с возмущением писал М. П. Погодину И января 1834 г.: «Сенковский уполномочил сам себя властью решать и вязать: марает, переделывает, отрезает концы и пришивает другие к поступающим пьесам <…> Мы все в дураках» (Гоголь, т. X, с. 293). Этот факт отмечался и в «Дневнике» А. В. Никитенко (запись 10 января 1834 г.): «На Сенковского поднялся страшный шум. Все участники в „Библиотеке“ пришли в ужасное волнение. Разнесся слух, будто он позволяет себе статьи, поступающие к нему в редакцию, переделывать по-своему. Судя по его опрометчивости и характеру, довольно дерзкому, это весьма вероятно. У меня сегодня был Гоголь-Яновский в великом против него негодовании» (Никитенко, т. I, с. 133). Негодовал на О. И. Сенковского и Н. А. Полевой: «Редактор наложил право нестерпимого цензорства на все мои статьи, переделывая в них язык по своей методе, переправляя их, прибавляя к ним, убавляя из них, и многое явилось в таком извращенном виде, что, читая „Библиотеку для чтения“, иногда вовсе я не мог отличить, что такое хотел я сказать в той или иной статье <…> До какой степени мысли мои были изменены – поверить трудно!» (Полевой Н.Очерки русской литературы. СПб., 1839, с. XVI–XIX). В. Г. Белинский писал в 1839 г., что «Библиотека для чтения» «никогда не стесняла себя законами собственности, когда дело шло о чужих статьях» (Белинский, т. IV, с. 123). О Сенковском как о журналисте, который не считался с волей авторов, печатавшихся в его журнале, говорил, ссылаясь на общее мнение современников, и И. И. Панаев: «Большая часть известных русских литераторов начинала отзываться с неудовольствием о деспотическом обращении редактора „Библиотеки“ с их произведениями, которые появлялись в совершенно изуродованном виде, с сокращениями, переделками или прибавлениями самого редактора, навязывавшего авторам такие воззрения и мысли, которые они не могли разделять» (Панаев, с. 129). См. также: Каверин В. А.Барон Брамбеус. М., 1966, с. 66–69.







