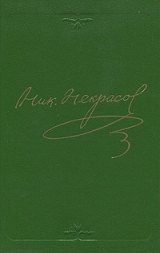
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
Дворовый человек встретил его обычным своим приветствием:
– Здравствуй, нос красный!
Казалось, зеленый господин хотел рассердиться, но гневное слово оборвалось на первом звуке; сделав быстрое движение к штофу, он сказал очень ласково:
– Здравствуй, Егорушка. Налей-ка мне рюмочку!
Дворовый человек украдкой налил стакан водою из стоявшей на столе глиняной кружки и подал зеленому господину. Зеленый господин выпил залпом. Дворовый человек и Кирьяныч страшно захохотали. Зеленый господин с минуту стоял неподвижно, разинув рот, со стаканом в руке, и наконец начал сильно ругаться.
– Ты, брат, со мной не шути! Кто тебе позволил со мною шутить? Меня и не такие люди знают, да со мной не шутят. Вот и сегодня у одного был… Действительный, брат, и кавалер… слышишь ты, кавалер… тебя к нему и в прихожую-то не пустят. А меня в кабинет привели. «Жаль мне тебя, – говорит, – Григорий Андреич (слышишь, по отчеству называл!), совсем ты пьянчугой стал; смотри, сгоришь ты когда-нибудь от вина, – говорит. – Не того, – говорит, – я от тебя ожидал… Садись, – говорит, – потолкуем о старине»… и графинчик велел принести… Вот я и заговорил… Знаю, о чем говорить: с Измайловым был знаком… к Гавриилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал… Не знаешь ты, великий был человек!.. вместе и чай, и обедали, и, водку-то пили… Да и сам я: ты, брат, со мной не шути… у меня, брат, знаешь, какие ученики есть… вот один… у, какой туз!.. А мальчишкой был… кликну, бывало, сторожа, да и ну… никаких оправданий не принимал… Вот мы всё с ним вспоминаем, смеемся… «И хорошо, – говорит, – вот оттого– я теперь и в люди пошел, – говорит, – что вы меня за всякую малость пороли… я вас, – говорит, – никогда не забуду», да и сует в руку мне четвертак… «Смолоду, – говорит, – человека надобно драть, под старость сам благодарить будет»… Знаешь, как мне, братец, платили… А ты… ты… вот поди ты служить: по пяти рублей на год да по пяти пощечин на день…Таланты разные имел: нюхал, брат, не из такой (он щелкнул но берестяной табакерке). -. Золотая была… да было и тут… один палец, брат, восемьсот рублей стоил. А всё ни за что; так – за стихи!.. Я, брат, какие стихи сочинял!
Зеленый господин так заинтересовал меня своим рассказом… что я впоследствии навел о нем справки. Сгоряча он много прилгнул, но в словах его была частица и правды. Давно, лет сорок назад, окончив курс в семинарии, он вступил учителем в какое-то незначительное училище и деле свое вел хорошо. Правда, любил подчас выпить лишнюю чарку, во от него менее пахло вином, чем гвоздикой, и нравственность учеников не подвергалась опасности. Снисходительное начальство училища, ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, старалось кроткими мерами обуздать возникавшую страсть. Но страсти могущественнее даже начальства, как бы оно ни было благородно и снисходительно. Заметили, что с некоторого времени при появлении зеленого господина в классе распространялся запах, который мог подать вредные примеры ученикам. Наконец, к довершению бед, зеленый господин пришел однажды в класс не только без задних ног, но и без галстука и, вместо того чтоб поклониться главному лицу училища, которое вошло в класс и село на краю одной из скамеек, занимаемых учениками, обратился к нему с вопросом: «А какие глаголы принимают родительный падеж?.. А, не знаешь? А вот я тебя на колени!»
Его отставили, и место его отдали молодому человеку, который в полной мере оправдал честь, ему оказанную: не пропускал классов, был почтителен к старшим и, женившись вскоре на сестре главного лица, совершенно отказался от треволнений, неразлучных с холостою жизнию. Зеленого господина отставили, но по ходатайству одного доброго человека и в уважение прежних заслуг дали ему небольшой пенсион. Остальное понятно: бездействие скоро усилило в нем страсть к вину, и нечувствительно дошел он до того положения, в котором мы с ним познакомились. Интересна жизнь, которую вел он в подвале. Еще за несколько дней до первого числа каждого месяца хозяйка неотступно следовала за ним и так приноравливала, что накануне первого числа он всегда напивался дома. Поутру она отправлялась с ним за «получкой», вычитала следующие ей деньги, а с остальными зеленый господин уходил бог знает куда и пропадал на несколько дней. Возвращался пьяный, нередко избитый, в грязи и без гроша. В остальные дни месяца он почти ежедневно обходил прежних своих товарищей но службе, учеников, которые теперь уже были взрослые люди, наконец, всех, кого знал в лучшую пору жизни, – везде давали ему по рюмке вина, инде и по две; где же не давали, оттуда уходил он с проклятиями и долго потом, лежа на своих нарах, сердито толковал сам с собою о неблагодарности. Что ж касается до стихов, то очень немудрено, что зеленый господин и действительно писал стихи: в русском государстве все пишут или писали стихи и писать их никому нет запрета. Впрочем, последний пункт своего рассказа зеленый господин не замедлил подтвердить доказательствами. Он вытащил из-за сапога две тощенькие лоснящиеся брошюры в 12-ю долю листа, уставил их перед глазами дворового человека и, поводя указательным пальцем со строки на строку заглавной страницы, говорил торжественно:
– Видишь, видишь, видишь… а?.. видишь ли?
Но дворовый человек с негодованием оттолкнул брошюры и возразил с жаром, доказывавшим, что в нем говорит убеждение:
– Ты мне этим не тычь! Что ты мне этим тычешь! Я, брат, не дворянин: грамоте не умею. Какая грамота нашему брату? Грамоту будешь знать – дело свое позабудешь… А вот ты мне награждение-то покажи! Что, небось потерял али подарил кому?.. Ты ведь добрейший… Сам не съешь, да другому отдашь. Знаю я… кто намедни у меня ситник-от съел?
– Продал, так и нет, – отвечал зеленый господин с меланхолической грустью. – Где нюхать нашему брату из золотой табакерки, на пальцах самоцветные камни иметь!
Он махнул рукою и отравил последнюю струю чистого воздуха продолжительным вздохом.
Между тем я взглянул на брошюры. Одна из них была на всерадостный день тезоименитства какого-то важного лица тех времен, другая на бракосочетание того же лица. Обе были написаны высокопарными стихами и заключали в себе похвалы важному лицу, которое поэт называл меценатом. Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время, потому что русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи, и пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение; за то его и хлебом кормили, а за неустойку больно били палкою. Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал тростью за то, что Тредьяковский не изготовил одына какой-то придворный праздник. Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того, во время его походов, всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина, награды и в подобных тому торжественных случаях их жизни; за то они позволяли пиите садиться на нижний конец стола обедать уже с собою, а не с слугами, как в обыкновенные дни, подпускали его к целованию своей руки, дарили его перстнем, табакеркою, деньгами, поили его допьяна и потом тешились над ним, заставляя его плясать. А пиита величал их своими благодетелями, меценатами, покровителями, отцами-командирами и «милостивцами». В начале XIX столетия этот род литературы начал заметно упадать; 1812-й год нанес ему сильный удар, а романтизм, появившийся с двадцатых годов, решительно доконал его. И теперь эта «торжественная» поэзия считается уже синонимом «подлому стихотворству». Так изменяются нравы! Теперь уже за листок дурных виршей, наполненных высокопарною, бессмысленною и низкою лестью, нельзя от какого-нибудь барина получить на водку, перстенек, табакерку, 50 или 100 рублей денег – и еще менее можно приобрести звание поэта! Вероятно, это одна из причин, почему старички, запоздалые остатки доброго старого времени, так сердиты на наше время, с таким восторгом и с такою грустью вспоминают о своем времени, когда, по их словам, всё было лучше, чем теперь.
– Ерунда [2]2
Лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь.
[Закрыть], – сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался. – Охота вам руки марать!
– Ерунда! – повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей взглянуть ему в лицо. – Глуп ты, так и ерунда! Когда я подносил их его превосходительству, его превосходительство поцеловал меня в губы, посадил рядом с собой на диван и велел прочесть… Я читал, а он нюхал табак и говорит: «Понюхай». – «Не нюхаю, – говорю, – да уж из табакерки вашего превосходительства…» – «Нюхай, – говорит, – ученому нельзя не нюхать», и отдал мне табакерку… С тех пор и начал я нюхать. Велел приходить к обеду… посмотрел бы ты, как меня принимали… всякий гость обнимал… а какие всё гости… даже начальник его превосходительства поцеловал… я после и ему написал… Напился я пьян… говорю как с равными, а они ничего, только хохочут. Всяк к себе приглашение делает… Ерунда!
И что-то похожее на чувство мелькнуло в глазах зеленого господина, и долго с поднятою рукою стоял он посреди комнаты и вдруг качнул головой и сказал голосом, который очень бы шел Манфреду, просившему у неба забвения: «Налей, брат, мне, Егорушка, пожалуйста, рюмочку!»
Дворовый человек налил стакан вина, подозвал зеленого господина и выкинул новый жестокий фарс: поднес стакан к губам зеленого господина и вдруг, когда уже тот вытянул губы и совсем приготовился пить, отдернул стакан и выпил сам. Но зеленый господин уже не рассердился: чувство собственного достоинства, окончательно побежденное запахом сивухи, коснувшимся обоняния, замолчало. Он стал униженно просить дворового человека «не шутить»…
– Попляши, поднесу…
И зеленый господин без отговорок начал плясать. А дворовый человек, приговаривая: «Еще! еще! лихо! лучше вчерашнего! ну, немножко еще!», – накапал в стакан сала из ночника, всыпал щепоть табаку и целую горсть соли, долил вином и пальцем всё размешал. Мне стало страшно.
Я просил не давать холеному господину этого страшного эликсира, говоря, что он уже и так сильно пьян.
– Пьян! вот те раз – пьян! Слыхал я от умных людей и от девок, – отвечал дворовый человек, продолжая размешивать, – падает человек – не пьян, языком шевелит – не пьян; двое ведут, да третий ноги переставляет, вот пьян!
– И лежит да не дышит – тоже пьян, – отозвался Кирьяныч, разбуженный пляскою зеленого господина. – А-а-а… Го-спо-ди, по-ми-луй!
Зеленый господин выпил и похвалил. Вслед за ним выпили дворовый человек и Кирьяныч. Сделалось шумно. Зеленый господин добровольно вызвался еще поплясать, но только под музыку. Дворовый человек заиграл на балалайке и запел, пристукивая ногами и даже по временам откалывая небольшие плясовые коленцы. Кирьяныч, которому удалось раздавить еще паука, необыкновенно развеселился и каждый прыжок зеленого господина сопровождал трагическим хрюканьем, вроде хохота, а зеленый господин прыжки свои сопровождал икотой и бранью, непосредственно следующей у русского человека за каждым разом, когда икнется, да еще дикими вскрикиваньями… Но всего интереснее была тут песня дворового человека:
Лет пятнадцати не боле
Лиза в рощицу пошла
И, гулявши в чистом поле,
Жука черного нашла, —
Жука черного с усами
И с курчавой головой,
С черно-бурыми бровями —
Настоящий милый мой!
Завяжу жука платочек,
Понесу его домой,
Дам я сахару кусочек —
Кушай, кушай, милый мой!
Злая тетка увидала —
Разворчалась на него,
Лизе строго приказала:
«Выбрось жука за окно!»
Я не слушалась приказу —
Брошу жука под кровать,
А на будущее лето
Разведу жуков опять.
.
.
Вот вам, девушки, наука!
Не ходите в лес гулять,
А найдете того жука —
Не кладите под кровать.
Как ни шумно пировали мы, однако ж пронзительный, нечеловечески дикий крик, раздавшийся вне комнаты, был тотчас нами услышан и в минуту сковал наши языки и движения. Это был крик, какого я уже не слыхал во всю остальную жизнь, – крик, в котором отзывалось всё: и противное карканье почуявшей непогоду вороны, и токующий глухарь-тетерев, и молодой, бодрый конь, спущенный с аркана и весело заржавший, почуяв свободу и поле, и поросенок, которого палят живьем, и человек, которого вешают. Не успели мы переглянуться, к нам вбежала старая баба, с лицом до того испуганным, что я едва узнал в ней хозяйку. Она ломала руки и кричала: «Ах батюшки!»
– Что такое? – спросил я в недоумении.
– Ничего, – отвечал дворовый человек хладнокровно. – Видно, опять напилась?
– Напилась… ей-богу, напилась, пена у рту… схватила нож: зарежусь, говорит, и всех перережу. Батюшка Егор Харитоныч!
– А пускай бы ее резалась.
– Оно так. Туда ей и дорога, коли лучшего конца себе не надеется, да ведь никогда не случалось… и для жильцов нехорошо… Надзиратель приедет. Деньги все, поди, пропила, и за шубу полсотни давали… а уж где шуба? Сама своей души не жалеет, на саван не оставляет. Батюшка Егор Харитоныч, ведь похоронить не на что будет!
Дворовый человек и Кирьяныч отправились за хозяйкою. Любопытство заставило меня последовать за ними. Через дверь, с которою уже, если помнят читатели, я был хорошо знаком, мы вошли на половину хозяйки. То была точно такая же комната, как и наша, но убранная несколько иначе и лучше. В двух углах стояли кровати, а два остальные были загорожены ширмами, с которыми соединено было то удобство, что можно было заниматься чтением «Северной пчелы», которою ширмы были оклеены. На пол-аршина от потолка во всю длину стен были прибиты, как в крестьянских избах, узенькие полочки, на которых стояла деревянная и черепяная посуда. Посреди комнаты происходила сцена, достойная точного и возможно искусного описания. По полу каталась женщина в полном цвете бальзаковской молодости, с красными, как бурак, одутловатыми щеками, и задыхающимся, визгливо-пронзительным голосом кричала: «А… а… а… а… ой… батюшки!.. а… ой… умру!.. умру!.. умру!.. а… а… а… а!» Как у разгоряченной лошади, изо рта била клубами пена, которая клочьями падала на пол и размазывалась по лицу; руки беснующейся были в крови: в беспамятстве она их кусала. Ее окружали три женщины – две старые и одна пожилая, все беременные, которые при каждом повороте кликуши боязливо отскакивали и при каждом новом порыве ее бешенства вскрикивали в один голос: «Ай!» Нужно еще упомянуть об одном обстоятельстве: из-за ширм (влево от двери) раздавался тоненький голосок, напевавший с совершенной беспечностию немецкую песенку, которую очень любят все петербургские немки:
Вдруг кликуша оглушительно визгнула, простонала: «Ой тошно! Ой батюшки, тошно! Отпустите душу на покаяние! Нож!.. нож!.. нож!..» – и вскочила на ноги.
Нож лежал на полу, и кликуша несколько раз через него перекатывалась, но ни у которой из женщин недоставало смелости поднять его. Дворовый человек выступил вперед, заступил нож, насупил брови и закричал грозно:
– А на что тебе нож, проклятая ведьма? На что тебе нож? Вот я дам тебе нож… Кирьяныч! а Кирьяныч… тьфу! ты какой! да поди же сюда… Надо бешеную бабу…
Но Кирьяныч в ту минуту страшно стучал сапогами, подпрыгивая, чтоб настичь рукою паука, уходившего к потолку, и ничего не слыхал.
Дворовый человек плюнул, не торопясь развязал ремень, которым был подпоясан, и, устремив на кликушу невыносимо свирепый взгляд, произнес со всею силою и энергиею голоса: «Вязать!»
И вдруг кликуша задрожала всем телом, и бешеное выражение в лице ее в минуту уступило место кроткому и молящему; как сноп повалилась она к ногам дворового человека и жалобно напросила пощады…
– На место! – закричал торжествующий укротитель, делая трагический жест рукою. – Цыц! пряничная форма!(Кликуша была рябая, – метко выражается русский человек.) За работу! – прибавил он, топнув ногою. – Только пикни, свяжу, да так в помойную яму и брошу!
Хозяйка усадила кликушу, дала ей работу, и укрощенная беспрекословно принялась шить, страшась поднять глаза на дворового человека, который с минуту еще смотрел на нее, как говорится, сычом и на разные тоны повторял: «Цыц! цыц! цыц!»
Чтоб объяснить сколько-нибудь эту сцену, я должен рассказать здесь то, что узнал уже впоследствии. Терентьевна не была в самом деле кликушей, как зовут у нас на Руси всех одержимых какою-нибудь дурью баб, но была весьма склонна к белой горячке, которая периодически возвращалась к пей после каждых десяти суток беспробудного пьянства. Дворовый человек уже неоднократно, по вызову хозяйки, являлся на выручку из беды и каждый раз при помощи того же простого и крайне дешевого средства, какое употребил за минуту, возвращал бешеную бабу к покорности и даже вышибал из нее хмель. Происходило ли то в самом деле от необычайной дикости его голоса и свирепости взгляда, как думали старухи, или была на то особенная воля судеб, или просто так хотел случай, – как бы то ни было, но дворовый человек пользовался за магнетическую способность свою большим уважением хозяйки и ее постоялок. Впоследствии ои придумал даже способ извлекать из влияния, которое имел на кликушу, пользу существенную: усмирив кликушу, он отдавал ей в починку худое белье свое, оставаясь в таких случаях в том, в чем оставалась левая нога его, когда он чинил сапог, – и кликуша не смела тронуться с места, покуда работа не была кончена…
На возвратном пути я мимоходом заглянул за ширмы, откуда раздавался тоненький голосок, и увидел молодую миловидную женщину, которая также, подобно прочим жилицам подвала, отличалась полнотой неестественной.
– Отчего они все беременны? – спросил я, когда мы пришли в комнату.
– Известно отчего, – отвечал дворовый человек. – Ну вот хоть бы у вас жила кухарка… горничная… мамзель какая-нибудь, замужняя или так. Вдруг господь прибыль дает… сами знаете – держать не станут… Куда?.. Не пойдешь среди улицы: не такое дело. Федотовна баба добрая… сальных свеч не ест… «Поживи, мать моя! Поживи, голубушка! Я тебя не обижу!» Вот на время и к ней. А там – дело уладилось – и опять место найдет… Всякий видит – талия с перехватцем. А умрет, не вынесет – Федотовна и того вдвое рада… Вор-баба! Без мыла в душу влезет… изойди весь свет, другой не найдешь! В Москве есть, говорят, две, да те похуже… хоть кого окальячит… У отца родного крест с шеи снимет… Намедни умерла роженица… Она инда в слезы; охает, ахает… до ниточки всё прибрала… дряни набила в сундук… «Куды! – говорит, – у покойницы ни роду ни племени! Нищим надо отдать!.. Пусть, – говорит, – за покойницу молятся… ничего себе не возьму, ничего, не пойдет впрок чужое добро!» Позвала нищих; всё мальчишки, девчонки… мал мала меньше; ну уж какое вино?.. только два старика. Пообедали… напоила, да у них же и украла платок… вот сейчас не сойти с места… Вчерась в ном в церковь ходила, рублев десятка стоит. Известно, тоже у господ украден: нищему где платок покупать! А что, Кирьяныч, дерябнем-ка еще по стакану!
Он подошел к столу и ахнул от ужаса: штоф был пустехонек. Выругавшись, дворовый человек принялся пинками будить зеленого господина, заснувшего сном невинности среди полу, но зеленый господин не шелохнулся и только отвечал на пинки и проклятия стихами из брошюры на тезотменитство, полными благословений и радостных пожеланий. Впрочем, я думаю, что он бредил: к подобному великодушию – человек в здравом рассудке едва ли способен.
– Нечего собаке делать, так хвост лижет! – сказал дворовый человек с трогательным состраданием; взял в одну руку шайку, в другую штоф. – Вот одолжил, как уж кабаки заперлись!
– Что ты, голова? Лучше же завтра будет у нас на что пообедать.
– Была не была! Уж неужто так и не выпить?.. Авось.
– И то сказать, – заметил Кирьяныч, внутренно обрадованный, – голенький ох, а за голеньким бог.
За первым стаканом взаимно признались в расположении, которое почувствовали друг к другу при первой встрече; за вторым – заплакали, обнялись и неоднократно поцеловались; за третьим – побранились; за четвертым – последовала естественная и неизбежная развязка незатейливой драмы, которую я здесь безыскусственно рассказал: герои ее подрались…
Поутру, впросонках, я слышал какой-то отрывистый разговор, который меня очень заинтересовал.
– Собаки есть?
– Есть, пара. Кирпичная, белая с крапинами…
– Крапины серые?.. левое ухо прорезано? на хвосте черное пятнышко?
– На хвосте черные крапинки, ушки выстрижены…
– Она-то и есть! – воскликнул господин в белой шляпе с явною радостию. – Давай ее сюда.
Кирьяныч нагнулся и начал кликать из-под своих «нар» собачонку, принесенную два дни тому назад, приманивая ее куском хлеба и разными ласковыми именами. Но собачка забилась в самый угол и, казалось, совсем не думала исполнять желание своего хозяина. Кирьяныч разгневался, выругался и хотел уж было разрушить место своего успокоения, чтобы поскорей достать гадкую собачонку, но господин в белой шляпе удержал его.
– Постой, – сказал он и, заглянув в бывший у него в руке листок, закричал: – Розка, Розка, Розка!
Собака тотчас выскочила и, весело махая хвостом, бросилась к господину в белой шляпе, но, увидав его, снова жалобно застонала и воротилась к «нарам». Кирьяныч поймал ее и подал господину в белой шляпе.
Господин в белой шляпе несколько минут пребывал в молчании, то взглядывая на собаку, то погружаясь в чтение листа, – и наконец сказал:
– Точно, она; я возьму ее с собою. На тебе за труды, – прибавил он, вынув из кошелька какую-то монету, – дам больше, если точно она.
Кирьяныч принял монету, поморщился и сказал:
– Только-то! Прибавьте, ваше благородие. Не поверите: сколько я муки с ней брал. Целую неделю своим хлебом кормил: вот ей-богу! дай, господи, в светло Христово воскресение первым куском подавиться! Да еще хлеба-то и не ест окаянная; молока покупал.
Господин в белой шляпе вынул еще монету из кошелька и вручил ежовой голове.
– Мочи нет, как бьюсь, – продолжал ежовая голова, – просто есть нечего, хоть с голоду умирай… Хотел уж сам нести к вашей милости…
– Избави бог! – возразил господин в белой шляпе с каким-то страхом. – Когда мне нужно, я сам, братец, приду к тебе; ты ко мне не ходи. Слышишь, не ходи; прогоню, и уж тогда не пеняй: хоть с голоду околей, не дам ни копейки.
Господин в белой шляпе ушел.
– Уж будь бы я грамотный, – проворчал вслед ему ежовая голова, – не стал бы тебе кланяться, сума переметная, душа беспардонная! Полтора целковых, только полтора целковых, и то чрез великую силу выпросил, а сам, поди, чай, и двадцать рублей сдерет!
Глава
Потеряв, как уже сказано выше, всякую надежду поступить на казенный счет в какое-нибудь учебное заведение через покровительство людей, к которым у меня были рекомендательные письма, я, однако ж, чувствовал необходимость учиться, и только недостаток средств удерживал меня. Я решился во что бы ни стало поступить на следующий год в университет и стал всеми силами заботиться о средствах приготовиться к экзамену. С утра до вечера в продолжение пяти дней шатался я по рынку, скупая у букинистов и разного рода бродяг книги, нужные для моей цели; мне удалось купить их за весьма дешевую цену, и я с жаром принялся читать историю, географию, грамматику. Тут только увидел я, что учиться не так трудно, как мне казалось, когда я был в губернском учебном заведении. Я очень скоро почувствовал, что довольно уже силен во всех предметах, доступных человеку без постороннего указания. Оставалось узнать латинский язык, без которого нельзя было обойтись, и французский, который, впрочем, я несколько знал. Случай помог мне как нельзя более.
Господин в темно-зеленом фраке с белыми пуговицами, в шляпе без донышка и в грязных манжетах, Григорий Андреевич Огулов не всегда был таков, каким читатели видели его в предыдущей главе. История его, которую он рассказал мне в одно утро, когда болезнь не позволила ему уйти, очень трогательна и поучительна. Двадцать пять лет он занимал место учителя в одном из петербургских духовных училищ и наконец был отставлен за неумеренное пристрастие к вину с небольшим пенсионом. Одиночество и бездействие скоро усилили в нем страсть к вину, и наконец эта страсть дошла до крайнего своего развития: старик не мог пробыть часа без рюмки вина и готов был на всё, только бы удовлетворить своей страсти. Получив первого числа месяца свое небольшое жалованье и отдав часть его хозяйке, которая в этот день неотступно следовала за ним, он тотчас отправлялся в харчевню и пропивал остальное, не являясь домой по нескольку суток. Когда жалованье истощалось, он бродил к своим прежним товарищам по службе, к ученикам, которые уже были взрослые люди, наконец, ко всем знакомым, которые вели с ним дружбу в цветущую пору его жизни, – везде выпивал он но рюмке и более, смотря по радушию хозяина, и к вечеру возвращался домой совершенно пьяным. Такова была жизнь этого человека, который был совсем не глуп, и по утрам, когда хмель выходил у него из головы, показывал признаки некоторого образования. Это заставило меня несколько сблизиться с ним, и мало-помалу он стал обходиться со мною без церемонии. За полуштофом вина о раскрыл мне всю свою душу. Это был один из тех оригиналов доброго старого времени, которых в Петербурге уж совсем нет, но которые встречаются еще иногда в Москве, Он был без ума от всего старого, ругал на чем свет стой всё новое; Сумарокова называл первым драматургом и читал с большим одушевлением плохонькие вирши из «Хорева», называя их превосходными; в Ломоносове видел Шиллера и, как будто какое-нибудь необыкновенное обытие, со слезами на глазах рассказывал, что имел счастие присутствовать у Измайлова в ту самую минуту, когда «великий баснописец» написал первые строки своей басни, начинающейся словами:
Павлушка, медный лоб,
и пр.
В похвалах его старой литературе встречалось много диких и странных суждений, однако ж беседы наши не были для меня совсем бесполезны. Он знал наизусть большую часть не только Державина и Кантемира, но даже Сумарокова, Петрова и других темных стихоплетов старого времени и беспрестанно говорил тирадами из их высокоторжественных сочинений: слушая его, я несколько ознакомился с духом старой нашей литературы, с которою ознакомиться другого средства не имел, ибо их творений покупать мне было не на что.
Странностям его не было границ. Вольтера и Руссо называл он чертями, из которых один заставлял хохотать, другой плакать; оба были непримиримые враги общественного порядка и враждовали между собою во всё течение жизни и соединились но смерти в системе разрушения. С ужасом видел я, что он уже состарился навсегда в отношении к науке, мысли его остановились, для него был свет тот же, что двадцать лет назад; что не было уже живой души в этом гнилом трупе, пропахнувшем водкой, и пр.
Я старался вставать как можно ранее, чтобы захватить отставного учителя дома; садился с книгою у его кровати и неотступно просил объяснения непонятных для меня латинских оборотов, обещая ему тотчас после урока порцию водки. Память еще не совсем изменила старику: он знал довольно хорошо латинский язык и заменял мне лексикон, ибо помнил значение всех слов, встречающихся в Корнелии Непоте и Саллюстии, которых переводом я занимался. Я спешил записывать переводимые им слова и заучивал.
Около месяца продолжались мои занятия почти каждый день беспрерывно. Я был спокоен и внутренно радовался своим успехам. Но, увы! небольшая сумма, которую я имел, начала истощаться; мне уже не на что было покупать вина, и неумолимый профессор мой, несмотря на все мои просьбы, начал обращаться в бегство. Скоро дело дошло до того, что мне самому нечем было жить, и я принужден был бросить все свои занятия, чтобы приняться за какой-нибудь способ к существованию. Я делал корзинки, для. хлеба, детские игрушки, подносы и передавал их Кирьянычу для продажи. Кирьяныч, сам крепко бившийся деньгами, великодушно делился со мною последними крохами, пока было возможно. Наконец и его карман истощился. Отставной учитель уже третий день не являлся домой. Дворовый человек был уже давно при месте. В квартире оставались только мы с Кирьянычем да собака, которую Кирьяныч привел уже около недели, но за которой, против обыкновения, не явился господин в белой шляпе, навещавший прежде Кирьяныча довольно часто. Мы были в положении людей, ожидающих голодной смерти…
– Я завтра пойду по миру или залезу в карман кому-нибудь, – сказал Кирьяныч, – и как-нибудь буду сыт… а вы-то что, барин, будете делать?
– Не знаю, – отвечал я.
– Хотите ли, у нас будут деньги завтра? – спросил он.
– Каким образом?
– Попытка не мушка, а спрос не беда: только, мне кажется, тут нечего и раздумывать, – произнес с расстановкою Кирьяныч. – Вы, может быть, и рассердитесь, что я вам скажу, только уж всё скажу – мне вас жаль, да и самому с голоду умереть неохота… У меня тоже есть жена, дети… дочь… Ах, что-то они теперь делают?.. Далеко они, давно я их не видал, да вряд ли увижу. (В голосе Кирьяныча слышались слезы, которым я немало удивился.)
– Ну, что же ты хочешь сказать?
– Знаете ли, барин, чем я кормлюсь? – спросил он.
– Не знаю, – отвечал я, хотя и догадывался.
– А хотите узнать? – спросил он после некоторого молчания.
– Пожалуй, скажи.
Несколько минут продолжалось молчание, в продолжение которого ежовая голова вздохнул несколько раз.
– Уж коли говорить, так уж всё говорить! – сказал наконец Кирьяныч. – Послушайте, барин, что я вам расскажу.
– Говори, брат. Да ты что-то очень печален. Полно крушиться. Бог милостив!
– Не для нас! – сказал Кирьяныч. – Ну, слушайте.
И затем Кирьяныч рассказал мне историю, которую я передаю читателям без всяких изменений…
История ежовой головы
– Вы не подумайте, – начал Кирьяныч, – я не всегда был таким замарашкой, серокафтанником, как теперь. У меня дом первый во всем селе: ставни крашеные, ворота резные; сам барин езжал ко мне в гости по праздникам, и уж всякого вина заморского и яства вкусного было вдоволь. У нас уж такой обычай: крестьяне летом в деревне не живут, а ходят на чужую сторону оброк добывать. Я ходил в Питер лет пятнадцать, по каменному мастерству. Деньжонок у меня скопилось немало: сотни три, четыре каждый год оставалось; набрал я артель и сделался подрядчиком; синий кафтан стал носить; сам уж и не работал: только подряды снимал да похаживал с палочкой около рабочих; там присмотришь, тому покажешь, на того покричишь; известное дело. Господь благословил меня в первый год: я получил после дувану (дуван – дележка общей заработки) тысяч пятнадцать барыша чистоганом. Пришел домой крепостной, а на другой год в Питер воротился – человек вольный: шесть тысяч барину внес за себя; откупился со всем семейством. Набрал артель человек в шестьдесят; каждому задатку дал по сту и больше рублев; снял работу – казармы поставить.







