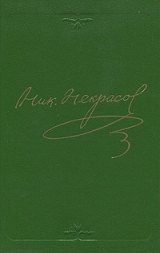
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
Я вспомнила деревню, матушку. Где ты теперь, моя матушка? Видишь ли ты меня, матушка? Видишь ли, что они со мной делают? А бывало, ты, глядя на меня, говаривала: «Ты у меня растешь красавица, вырастешь – барин наш влюбится, будешь счастливая…» А вот я счастливая!
Обогнали меня два господина, один оглянулся и что-то сказал другому. Оба остановили<сь>.
– За что она попалась? – спросил один.
– За воровство, – отвечал солдат, приложив руку к шапке.
Сердце у меня разрывалось. Каждое слово, которое я тут слышала, врезалось в мою память.
– Воровство, – сказал один, – порок вообще отвратительный, но в женщине еще отвратительней!
– А недурна собой, – отвечал ему другой.
И они пошли прямо, а мы поворотили в другую улицу и скоро вошли в ворота одного каменного дома с каланчою; солдат привел меня в комнату, поставил у решетки, сказал: «Стой смирно!»
Комната была с решеткой, за решеткой стояли столы, и около них сидели господа во фраках и в мундирах, а перед решеткой стояли разные люди; передняя темная тоже была полна народом. Я сначала было сильно струхнула. Два пьяные – один в полосатом халате, другой в шинели – перессорились между собою <…>
Тут стоял лакей, такой задумчивый, с запечатанным письмом в руках; два каких-то пьяных перекорялись между собою; старушка вздыхала; мальчик какой-то в пестрядинном халатишке. Тут поставили и меня. Я прижалась в угол и стояла как неживая. Один пьяный плакал и жаловался, а другой смеялся над ним, утешал его, говорил, что. ведь они не стеклянные, что до свадьбы всё заживет, что, не они только, а ведь вот и другие… Тут он увидел меня: «Вот видишь, какая кралечка!» – и схватил меня за плечо. Я толкнула его, он пошатнулся, наткнулся, и оба они долго пресмешно переминались, пока справились и удержались на ногах. Я рассмеялась. Тут пьяный начал приставать ко мне, я не знала, как от него отделаться; он запел что<-то> про Итальянскую улицу. Вдруг вошел чиновник с бумагами в руке.
Он стал их бранить, что шатаются, пьянствуют, стекла бьют; они стали просить, божились, что в последний раз; чиновник приказал им молчать и спросил у лакея, зачем бон. Лакей подал ему письмо. Чиновник прочел письмо и спросил у него, знает ли он, что написано в письме. Лакей отвечал, что знает. Чиновник усмехнулся и стал говорить о старушкой. Потом он обратился к мальчику, который, уж видно, попадался не в первый раз, потому что чиновник тотчас его узнал, не хотел с ним и говорить, велел молчать и спросил меня. Я рассказала ему всё, как было, не скрывши ничего, и стала его просить… Тут вошел какой-то важный господин с крестом. Чиновник подал ему руку.
Чиновник сказал солдату, который пришел за ним, указавши на пьяных: «Сперва вот их!..» – и стал говорить с важным господином. Солдат взял пьяного в халате и сказал: «Пойдем». Тот опять кинулся было к чиновнику, заплакал, начал просить и кинулся было в ноги, но солдат оттащил его и увел. Другой крикнул ему: «Не робей, Андрюха!» – и, побледневши, прислонился к стене. У меня по телу пробежал мороз. Скоро пришли и за ним. Он только махнул рукой, сказал: «Пропадай!» – и пошел. У меня сердце ёкнуло и в глазах начинало темнеть. Я сама прислонилась к стене. Чиновник, поговоривши с толстым господином, ушел, сказавши, что нужно навесть справку. Господин сел и стал смотреть в нашу сторону. Потом пришли и за мальчишкой, который ревел на всю комн<ату>. Я не опускала глаз, прижалась к стене и крепко стиснула зубы, потому что мне не хотелось заплакать, как этот мальчишка, да вдруг, сама не знаю как, ресницы заморгали и слезы прорвались. Лакею, который теперь один со мною остался, видно, стало жаль меня, он стал меня утешать, говорил, что вот ведь и ему то же сейчас будет, да ведь он не плачет, что еще не отчего плакать, успею еще наплакаться, что, уж видно, чему быть, так тому и быть, что от спины до ног семьдесят пять дорог и что до свадьбы всё заживет. Пока он говорил, пришли за ним и увели его. Я осталась последняя, я слышала, что ноги у меня как лед; взяла себя за голову – голова у меня была мокрая от холодного поту. Я ухватилась обеими руками за решетку. Ко мне подошел солдат. Я несмело что-то вскрикнула: еще сильней стиснула в руке <…> Голова у меня начинала кружиться, и уж только чуть-чуть, чуть-чуть понимала я, что вокруг меня происходит.
Я не знала, что делать, только изо всех сил держалась за решетку.
– Погоди, – сказал чиновник солдату, когда тот подошел ко мне. И он опять начал говорить. Минут десять они говорили, взглядывая на меня, и подошли оба ко мне.
– Послушай, милая! Повтори нам еще, как это вей было.
Я опять рассказала всё, как было.
– И ты тут ничего не скрываешь? – спросил он.
– Клянусь богом, – сказала я, – что хотела только достать и отдать господину Тр<остникову> письма, которые тетушка не хотела дать по упрямству…
– Хорошо, я верю тебе, – сказал он. – У тебя лицо доброе, и вот господин (тут он назвал фамилию) за тебя просит. Ступай к своей тетушке!
Тут он прибавил, что тетушка и ее муж заменили мне мать, а что родителей надобно почитать и уважать и что сам бог наказывает детей, которые не слушаются своих родителей.
Я насилу поняла, так обрадовалась, наконец поняла и чуть было не бросилась на шею толстому господину. Слезы выступили у меня на глаза.
– Отри свои хорошенькие глазеночки, – сказал он, взявши меня за подбородок, и так посмотрел на меня, что мне вдруг не захотелось ни броситься ему на шею, ни плакать. Я поскорей поблагодарила и ушла. Как вдруг мне стало хорошо, как весело!
– Тетушка, тетушка! Проклятая тетушка! – говорила я сама с собой. – Как же, пойду я к тетушке, дожидайтесь, нашли дуру, пойду я к тетушке!..
– А куда ж ты пойдешь? – услышала я голос за собой. Я оглянулась и увидела того самого господина, что отпросил меня. Он был весь красный, пыхтел как самовар. Я сначала испугалась и побежала. Он побежал за мной. Я остановилась. Только он подбежал, я опять от него. Наконец мне стало жаль его. Я остановилась.
– Куда ты так бежишь, плутовка?<…>
Агаша шла домой, повеся голову и думая о своем беспомощном положении. Был час четвертый в начале, ни темно, ни светло, как обыкновенно осенью в четвертом часу с вечера выпавший первый снег давно стаял, и теперь валил новый, чтобы в свою очередь поволновать сердца бедных ванек, которые никак не могут отстать от привычки радоваться петербургскому осеннему снегу столько же, сколько огорчаются они всякий раз, как снег пропадает. Агаша ловила ртом снежинки. Снежинки таяли у ней на языке, и это, конечно, в другое время доставило бы ей развлечение. Но теперь она делала это машинально, по привычке проказничать, которая сжилась с ее живым нравом. В самом-то деле было ей не до того. Она чувствовала, что возвратиться к Богумиле Ивановне ей необходимо: еще С нуждой она как-нибудь справилась бы; можно бы наняться где-нибудь хоть в поломойки или другую какую-нибудь черную работу исполнять; труд был ей не новость, и она его не боялась; но она знала, что нужно иметь какой-нибудь вид, а бродяжничая так, недолго опять попасть к надзирателю, при одной мысли о котором мороз пробегал у нее по коже. Но, не любя долго останавливаться на одной мысли, как бы она близко к сердцу ни была, она качнула головой и скоро рассеялась сценами, попадавшимися ей на пути. Прошед Кукушкин мост, она засмотрелась на извозчика, который стоял у своих дрожек, ел калач с зеленоватым изжелта отливом, приданным ему постным маслом, которым он был помазан. Извозчик был молодой видный малый лет девятнадцати, с добродушным румяным лицом, оттененным чуть пробивавшимися русыми волосами, у него были большие голубые глаза, и, усердно уписывая калач, он показывал необыкновенно ровные, белые, как слоновая кость, зубы, которыми можно было залюбоваться. Одет он был очень бедно в черноватый сильно изношенный армяк, весь осыпанный снегом, подпоясанный ремнем; дрожки, лошадь и вся запряжка также показывали, что он не принадлежал к аристократам извозчичьего мира, называемым лихачами. Приглянулся ли ей извозчик или по другой причине – Агаша долго не могла свести с него глаз и наконец спросила его:
– Ты не из Богородского ли, парень?
– А тебе на что? – спросил извозчик. – Аль ты тоже аттоль?
Но голос извозчика, казалось, разрешил недоумение Агаши, и она поспешно с уверенностию прервала его:
– Тебя зовут Иваном…
– Иваном, – отвечал извозчик.
– А отца звали Ипатьем?
– Ипатьем, – отвечал извозчик, вкладывая в рот кусок калача,
– Ты не узнаешь меня, Ваня, – сказала Агаша. – Помнишь Агашку?
– Никак и есть ты! – сказал извозчик, остановив на ней на минуту большие голубые глаза свои маловыразительные, и потом снова стал жевать калач свой. – Ты где здесь, на месте, что ль? – спросил он, проглотив.
– Как ты переменился, как вырос! – сказала Агаша, осматривая с любовью своего брата. – Ты давно здесь?
– Да вот уж четвертый год.
– А я и не знала! Ты ко мне не зашел…
– А где тебя найти-то? Как приехал, так андрес привез да всё собирался зайти, да где зайдешь – вишь, у нас хозяин такой: ни будни, ни праздники, а утром до свету: подымает.
– Ты бы заехал, – сказала Агаша. – Поди, приходится по всем улицам ездить.
– Да хотел, – отвечал извозчик, – да как заедешь-то? – от лошади не уйдешь: вишь, она у меня, жид проклятый (тут он дернул вожжу так, что пегая кляча, задрав: голову, попятилась назад), на месте не постоит; да и то; уйди – чехол стащат, а хозяин у нас такой: намедни гайка свалилась – целковый ставит на счет, а она и новая-то двугривенный… Хошь? – прибавил он, отламывая и подавая ей кусок калача.
Агаша взяла.
– А платит-то, как жид, прости господи, – продолжал извозчик. – Маишься, маишься, оброку не из чего отдать! А дома неурожай… Нынешним годом на тридцать рублей хлеба прикупили… Да вон жена пишет, высылай еще: есть нечего…
– А ты уж женат? – сказала Агаша…
– Третий год, – отвечал извозчик. – Признаться, и небольно хотелось, да староста настоял: вишь, осьмнадцать лет, тягло бери, ну а с тяглом, вестимо дело, одному не способно…
– Хорошая у тебя жена, Ваня?
– Нешто! – отвечал извозчик. – Живет!
– Как зовут ее?
– Матреной… Матреной Онисимовной, – прибавил он поправившись. – У Онисима Васильева дочку взял.
– Знаю, – сказала Агаша, – Матрену знаю… Да ведав как же, Ваня? Ведь когда я еще была девчонкой и жила в Богородском, ведь она уж тогда большая была. Ведь она стара для тебя, Ваня?
– Да я и сам думал, стара… Да староста говорит – не стара, нет другой девки… Женись, говорит, Ванюха, честью говорю тебе, женись… девка, говорит, разумная, а что в летах, тебе лучше: дома заправлять мастерица будет… Вот я и женился. А что стара, точно стара…
– Да ты бы не женился. Сказал бы, я, мол, не хочу.
– Да я было сначала и того, да он-то тоб, так я уж и ну!
– Ну как же ты живешь? – спросила Агаша.
– Нешто, – отвечал он, – известна наша жисть… Спереди запахнись, сзади проруха… Оброк-то хоть не весь, да дослал… малую толику не хватило, да и то староста пишет приказ: Ваньку Торопова, коли недоимки не дошлет к Покрову, – приставить в вотчину, а нынче, слышь ты, набор… Вот тут ты и поди!.. А хозяин такой, просил жалованья вперед, Христом богом умолял, в ногах валялся… оказался пес!.. то и говорит: у меня вон, говорит, Степан Шуба Жил, парнище поздоровенней тебя, а поехал, говорит, ночью через Неву в пурганцу… морозом, что ли, прихватило, так ли час пришел – наутро мертвого нашла полица; спасибо, говорит, лошадь умница: сама домой дорогу нашла… да и то с саней фартух срезали, да сорок рублев, говорит, за Шубой пропало, – так уж теперь, говорит, нет – вперед ни гроша! Хошь живи, а не любо – не живи! Святое место не бывает пусто! Так вот он, какой хозяин. А иной раз еще седок обижает. День-деньской стоишь – ждешь, ждешь, рукавицы инда обобьешь, греючись, нет! Вот намедни всё утро стоял – никого! Идет барин; одет хорошо. «В Караванную!..» Поехали; из Караванной на Пески, с Песков к Обухову мосту, от Обухова к Калинкину, от Калинкина на Васильевский, – да тут и пропал; стоял я, стоял, инда слезы прошибли, чтоб тебе, шаромыжнику проклятому, ни дна ни покрышки! Часа три стоял, подъехал свой брат, извозчик. «Посмотри, брат, говорю, за лошадью!», а сам пошел искать барина… В одну дверь позвонил – нет, в другую – нет, а в третью как позвонил – вышел лакей с усами: а что ты, говорит, воровать, – да взашей с лестницы, а из ворот выскочил дворник с метлой да и еще прибавил… Я ему так и так – барина ищу, денег не заплатил. А он как фыркнул да и говорит: «Дурак ты, да ты посмотри: двор-то проходной; здесь вашего брата часто учат». Взялся за бока и давай хохотать. Что станешь делать! Так и уехал. Ай барин! – продолжал извозчик в волнении, махнув рукой. – Поперхнется тебе, воровская душа, наша кровная гривна!
– Это какой-нибудь мазурик был, а не барин, – сказала Агаша.
– Чего мазурик!.. Одет таково важно… Воротник, чай, один рублей сто заплачен. «Вот ты будешь ездить со мной по часам, говорит, а там уж я тебя не обижу» – и вынул часы, и цепочка так блестит, поди, золотая… Поехал я, авось, думаю, навернется добрый человек: хоть бы не с пустыми руками к хозяину приехать, глядь – будочник остановил: вези пьяного в Литейную часть; только свез пьяного в Литейную часть, городовой кричит: «Стой!» Нищую, вишь, кучер какой-то переехал да ускакал; угораздило среди улицы повалиться; лежит как колода; голосу не отдает; вези в больницу… А иной раз квартальный навернется, целый день проездит… Приедешь домой без выручки – хозяин костить примется: «Пьяница! вор! такой-сякой!» – и карманы обыщет, и сапоги снимет, и везде заглянет: вишь, думает, затаил… а в иной раз драться лезет… так с кулаками и подступает, воровская душа! Вот и поди тут.
– Неладно! – сказала Агаша.
– Ну а ты как? – спросил извозчик. – Ты у тетки живешь?
– У тетки,
– Хорошо?
– Мне от нее хоть в воду, – отвечала она, помолчав, – у кого бы ни жить; что бы ни работать, хоть с утра до вечера камни таскать, только бы не у нее жить, – вот как мне у нее!
– А что?
Тут Агаша коротко рассказала ему горемычное житье-бытье у тетки; передала, краснея и запинаясь, последний ее поступок и свои опасения за будущее житье у тетки. Извозчик с половины рассказа вдруг обнаружил горячность, какой трудно было от него ожидать, судя по прежнему его равнодушию, – горячность, вылившуюся в страшных ругательствах, которыми осыпал он ненавистную тетку, беспрестанно перерывая ими сестру.
Наконец Агаша кончила рассказ. Ванюха устал ругаться. Оба задумались.
– Да ты бы, – начала она после долгого молчания, возвращаясь снова к положению брата, – поискал другого хозяина, может быть, он дал бы тебе денег вперед…
– Да ты бы, – сказал он в то же время, – бросила ее, ведьму проклятую, на место поди!
– Куда я без паспорту пойду, а коли тетушка не напишет старосте, так паспорту не дадут. Она, вишь ты, на воспитание мне отдана, так ее и воля надо мной. Она сама говорит: «Я, говорит, тратилась на тебя, так ты мне заслужи…» Тратилась!.. Каждым куском попрекала!.. Поищи себе другого хозяина, Ваня.
– Все разбойники! – отвечал он. – Я восемь местов переменял: только кажний раз при расчете убыток!
– Неладно, – сказала сестра.
– Неладно, – повторил брат.
И оба они замолчали, потупя голову; потом глаза их, несколько влажные, встретились; они сделали друг к другу невольное движение, и взаимное сочувствие их в эту горькую минуту выразилось невольной и короткой лаской: он положил ей на плечо свою неуклюжую тяжелую руку, она поцеловала его в лицо.
– Какая у тебя лошадь! – сказала она, подходя к лошади, чтоб скрыть свои слезы, и гладя ее по длинной и жилистой шее.
– Одер! – сказал извозчик, дернув опять изо всей силы вожжу и прихлестнув кнутом тощее животное, которое, вздрогнув, побежало из последних сил, брыкнув задом и вскидывая обе разом длинные и тощие передние ноги так высоко и странно, что Агаша, несмотря на грустное расположение свое, не могла не усмехнуться. Извозчик, упираясь и туго натянув вожжи, должен был проехать несколько шагов на своих больших сапогах, как на лыжах, пока остановил ее, и, остановив, продолжал: – Еще с утра, как выедешь, туда и сюда! А к вечеру хоть оглоблей вози, только зад вскидывает, того и гляди в зубы сноровит! Вишь, туда же, задом бить!.. Вот я тебя выучу задом бить! – Тут он забежал вперед и начал хлестать клячу по голове.
– Ну, не бей ее, – сказала Агаша. – Вишь, она у тебя и так кости да кожа.
– А что ее жалеть-то! – сказал он. – Всё одно от хозяина – бей не бей, только покажись на двор, и пойдет: «Мошенники! бога в вас нет! живота не жалеете! гоняете сломя голову…» Да, разгонишься с таким одром! Вишь, корова безрогая! Повесила морду-то!.. – И тут он снова поощрил клячу, приноровив удар свой по красной и лоснящейся ссадине, едва начинавшей заживать на холке заморенного животного.
– Хошь – прокачу, – наконец сказал он Агаше.
Оба они сели на санки рядом и поехали. Целую улицу, довольно длинную, Ванюха скакал, – для чего беспрестанно передергивал вожжами и нещадно хлестал лошадь, вымещая на тощих боках ее и то, что староста требует недоимку, а жена на хлеб, и то, что жена стара, и то, что Агаше у тетки житья нет, и многое другое, отчего ему приходилось солоно жить на свете, а может быть, впрочем, и без всякой мысли, единственно из желания показать, что и от него тоже может прийтись солоно, или думая потешить сестру. Последнее всего вероятнее, потому что, почувствовав наконец боль в руке от маханья кнутом и подергиванья вожжами и поехав шагом, он спросил сестру:
– Ну что, любо?
– Ты ее очень мучишь, – отвечала она. – Ну пускай ее идет шагом. Мне еще нужно спросить тебя об матушке. Что она, как, здорова?
– Вот те на! здорова! Да ты разве не знаешь, что она вот уж третий год как умерла.
– Умерла?
Весть о смерти матери была для Агаши новостью, сколько неожиданною, столько же и страшною. Мать ее была от природы добрая женщина, и при крутом и буйном нраве отца, от которого детям часто приходилось тяжело, любовь к ним и заботливость матери еще более получали цены. Живя у чужих людей, попрекаемая каждым куском, видя кругом себя только недоброжелателей и гонителей и привыкнув считать такими людей, Агаша хорошо вспомнила мать свою, вспомнила каждую ее ласку, и печальный образ заботливой и кроткой старушки, чем более отдалялся от нее временем, тем ярче облекался в форму какого-то высшего и лучшего существа, к которому она с каждым днем сильнее привязывалась. Свидеться с ней когда-нибудь было единственною светлою надеждою в горьком существовании сироты.
Теперь она вдруг почувствовала себя навсегда сиротою, и ее сердце болезненно дрогнуло… Долго молчала она в тяжелом страдании и совершенном упадке сил, какого с ней прежде никогда не было. Наконец она заплакала. Брат сначала повторял время от времени: «Ну, не плачь, Агафья, ну, полно, не реви, дура! Слезы не помогут. Ведь как подумаешь, какова была жисть-то ее, так, право, не об чем и плакать-то! Правду говорят, бог лучше знает, что делает!», но, видя, что слова его не помогают, по какому-то инстинктивному чувству уважил горесть сестры и замолчал.
– Как же, Ваня, она умерла? – наконец сказала она. – Расскажи, голубчик, всё, всё:..
– Да что, много-то нече и рассказывать. Еще ведь ты сама была дома, как батька пьяной, осерчавши на нее, свалил ее с ног кулаком. Кровь хлынула у нее горлом, наутро она всё жаловалась левым боком и всё уж, помнишь, была такая чахлая… Батька ушел в Питер да и пропал, тут она словно как маленечко поотдохла, да всё уж не то: мокрота душила, а лицо-то всё зеленей становилось, словно земля, в которой теперь она – царство ей небесное! – почивает! Вот перед Пасхой и совсем слегла… Стонет сердешная день и ночь, инда сердце надрывается. Есть ничего не ест; охала, охала да и попросила, чтобы сняли ее с полатей да положили на лавку под образа, вот положили, надели на нее белую чистую рубаху – сама так приказала; позвали попа, причастилась сердешная и стала потише… кашлять не кашляет… Киселька ложечку съела… Ну вот, матушка, говорю я, теперь ты получше, авось поднимешься. Нет, говорит, не жилица я, дитятко! Я, говорит, не сегодня завтра богу душу отдам. И в самом дело к вечеру стала кончаться… Собрались мы все, родные; ну, как водится, в ноги ей поклонились, прощенья просили… Все мы грешны, говорит… В избе тишина такая, думали, что она уже умерла, как вдруг пошевелилась вот она, позвала меня с Матрехой. Ну, говорит, детки, прощайте… Ты, Ванюха, не пей да не бражничай, а ты, Матрена, будь мужу послушна – ну, как водится, всё тоись по христианскому порядку. Вот у меня, говорит, отдана штука холста белить Ивану Семенычу в Гридниху, ты, Матрена, не забудь взять, оно полотенце тонкое, рублев по полтора за аршин на городу дают. Ну, говорит, живите мирно, бойтесь бога, ходите в церковь, творите заповеди божий, будьте послушны господам своим, они нам самим богом в набольшие поставлены… Будьте сами хороши, и вам будет хорошо, детки, – ну, понимаешь, и всё…
– А обо мне вспомнила? – спросила Агаша.
– Нет! – отвечал извозчик. – А вот уж перед самым-то, как кончаться, подозвала меня этак – сначала было дядя Павел подошел, да она и рукой замахала – и говорит так тихо, уж видно, кончается: «Ты, Иван…»
– Что ты глаза-то в кабаке, что ли, заложил! – закричал Ванюхе ехавший навстречу ему другой извозчик, на которого Ванюха, занятый рассказом, наехал так плотно, что лошади столкнулись лбами и сбруя спуталась.
– А ты что! – азартно возразил Ванька, умевший в нужных случаях не отставать ни от кого. – Места, что ли, мало… Своей стороны не знаешь! А туда же, называется извозчик…
– Да я-то по своей стороне еду… Нешто твоя правая сторона, – отвечал тот.
– Конокрад! – закричал ему Ванька, выпутываясь.
– Гужеед, – отвечал ему тот, и они разъехались, но долго еще продолжали перекидываться ругательствами, возвышая голос по мере удаления друг от друга.
– Ну, Ваня, – сказала Агаша, когда брат ее наконец успокоился.
– Так вот, вишь, – отвечал Ванюха, – подозвала меня и говорит: «Ты, Ваня, коли нужда придет одну корову продать (у нас, вишь ты, было две коровы), так Буренку не продавай, ни за что не продавай, а лучше Чернушку продай – Буренка хоть на вид хуже, да вдвое против Чернушки молока…» Тут уж голосу не хватило у сердешной, покатилась навзничь и богу душу отдала… Зайдем сюда, Агаша, я те чайком напою.
Ванюха остановился у освещенного одноэтажного деревянного дома и слез с дрожек.
Агаша, которой было всё равно, куда бы ни идти, только бы но к тетушке, идти к которой теперь ей сделалось еще тяжелее и ненавистнее, последовала за своим братом, и они вошли в одно из тех заведений, в которых, как извещают их вывески, можно получать кушанье и чай, но где, впрочем, можно получать и всё остальное, нужное для полного человеческого услаждения: водку настоянную и ненастоянную, портер домашнего изделья, отзывающийся табаком и производящий одуряющее действие, и около которых шныряют какие-то дамы в платках ярких цветов, с открытыми головами, раскрасневшимися щеками, весьма редко, впрочем, забегающие в самое заведение. Вошед в первую комнату, Агаша увидела несколько окороков и других разных мяс, пирогов и тому подобных съестных припасов, симметрически разложенных на прилавке; за прилавком стоял жирный буфетчик в рубахе и в фартуке, о черной окладистой бородой, тщательно округленной, а у прилавка толпилось несколько человек разного рода, но приведенных сюда одинакими наклонностями: кучер в распахнувшемся плисовом полукафтанье, из которого выглядывало очень толстое брюхо, прикрытое красной рубахой, – брюхо, которому он, вместе с черною и густой бородой, обязан был своим благоденствием, благодаря справедливому убеждению некоторых господ, что кучер для произведения с козел надлежащего эффекта должен быть непременно толст; какой-то отчаянный усач в венгерке с брандебурами, подбитой ранжевым мериносом; франт, как видно, только что раненный в нос, который у него был залеплен хлопчатой бумагой, выдернутой из рукава венгерки и сквозь которую проступала кровь; несколько извозчиков, спрашивающих чаю; фокусник в сером нанковом сюртуке, с немецкой физиономией и тремя медными стаканами и таким же количеством шариков, которые он сначала клал все три под один стакан, и, когда открывал, под каждым оказывалось по одному; потом клал под каждый по одному – открывал, оказывались все под одним, и так далее, разнообразя свой вечный фокус до бесконечности и потешая тем почтенную публику, которая, впрочем, не очень добродушно поддавалась на его хитрости и смотрела на него каким-то взором сожаления; но когда, впрочем, он, выпив поднесенную ему кем-то рюмку водки, разжевал и проглотил хрусталь, – все вмиг проникнулись к нему глубочайшим уважением и стали просить, чтобы он повторил свой фокус, от чего пьяный немец не отказывался, прося только, чтоб ему дали вместо рюмки стакан, с которым обещал сделать то же, что с рюмкой. Вероятно, он сдержал свое слово, потому что незадолго выпил целую бутылку семигривенного портеру, приправляющегося, как известно, листовым табаком и производящего такое действие, что один весьма миролюбивый мужик, пришедший в харчевню побеседовать с земляком, выпив с бутылку такого портеру, ни с того ни с сего хватил земляка своего бутылкой в висок, отчего земляк тут же и умер. Но всех более потешал почтенную компанию наш приятель, дворовый человек Егор Харитонович Спиночка, значительно преобразовавшийся с тех пор, как мы с ним расстались: теперь на нем был черный мундир с красным кантом; шинель, небрежно накинутая на плечи, была тоже с кантом. Видно, нашел-таки он барина по себе, да еще не простого, а военного! Он и здесь, как и везде, где представлялся случай развернуться его социальной натуре, был душою общества: наигрывая на балалайке, восторженно выплясывал он трепака, выкидывал такие коленцы и пересыпал мелкую дробь своих ног такими прибаутками, что компания держалась за животы от хохота. Затем было тут и еще несколько лиц менее замечательных: несколько мужиков, прощающихся со своими бабами и земляками, лиц более или менее печальных; какой-то безногий нищий с каким-то знаком в петлице, на карачках притащившийся в заведение и вознаграждающий прыжки и балалайные трели дворового человека так, как, может быть, не был вознагражден никогда ни один великий артист в самые блестящие торжества свои: такое наслаждение было написано у него на лице, такой восторг выражался во всех его движениях, замирающих воркованьях, что, глядя на него, становилось завидно.
– Три пары чаю, – сказал извозчик, проходя в другую комнату.
Агаша молча шла за ним.
Вторая комната была несколько менее первой; в ней стояло несколько столов, приставленных к стенам и покрытых очень давно мытыми салфетками. За столами сидели так называемые у трактирных содержателей гости и пили кто чай, кто водку. Гости были большею частию с бородами. За одним только столом сидел с каким-то унылым мужиком один бритый, который, впрочем, мог при случае сойти за небритого… Черные, короткие, видимо жесткие, волосы густо покрывали его подбородок; на нем был черный, вытертый плисовый сюртук, нараспашку, с карманами напереди, в которые он беспрестанно клал свои руки, упираясь в дно их с такою силою, как будто ему смертельно хотелось прорвать их. Говоря с жаром, он высоко поднимал руки, не вынимая их из карманов, и болтал в воздухе полами сюртука, как будто собирался лететь. Манишка, мытая немногим попрежде салфеток и украшенная двумя огромными синими запонками, колыхалась и вздувалась на его широкой груди, как мост, подпираемый прорвавшимся и бунтующим льдом. Сзади сюртука торчали концы тесемок, которыми прикреплялась она к его толстой шее, обвернутой обрывками красного шарфа, и тоже болтались. Лицо у него было полное, круглое, проникнутое чувством собственного достоинства, цветом – ни бело, ни смугло, скорей пегое, за исключением носа, который начинал уже переходить из розового цвета в брусничный. Рыжий унылый мужик, в распахнутом нагольном тулупе, в синей рубахе с медным гребнем на поясе, налил ему третью рюмку и сказал:
– Ну-тко, Калина Павлыч! Без троицы и дом не строится!
– Да ты сам-то что ж?
– А я опосля, – отвечал мужик, не без волнения посмотрев на графин. – Так вот, – продолжал он, – писемко-то, Калина Павлыч, право-тко! Настрочил, да и дело с концом.
– Настрочу, уж коли сказал, так настрочу, – отвечал небритый господин и, осушив рюмку, поспешно спрятал руку в карман.
Последовало продолжительное молчание.
– Без четырех углов дом не бывает, – сказал мужик, самоотверженно наливая четвертую рюмку.
Небритый господин молча и поспешно спровадил ее в свой желудок. Мужик завистливо проводил ее туда глазами и продолжал:
– Иное дело нашему брату, безграмотному, – труда стоит, а грамотей, уж известно, грамотей… Так вот я того, вишь ты, и бумажки припас.
– Всякому свое, – отвечал глубокомысленно небритый господин, не обратив внимания на последние слова. – Грамотей пишет, ваш брат, серый армяк, дом сгромоздит… Ты по какому мастерству?
– А я по печному, – отвечал мужик.
– У, брат! Нынче, слышь, на печную работу поденно по три да по четыре рубля дают… Только работай! – И он выразительно подвинул пустую рюмку.
– От работы не будешь богат, а будешь разве горбат, – уныло отвечал мужик. – Инно дело подрядчику. Ну-тко, брат, я вот бумажки-то листик припас (тут мужик достал из-за пазухи смятый лист бумаги), чернилоц-то у буфетчика спрошаю (он человек знакомый, земляк), а сургучику-то, чай, у тебя водится…
– Есть, всё есть, – отвечал небритый господин и глубже погрузил руки в карманы.
– Вишь, у тебя глотка-то, словно бочка бездонная, – сказал совершенно неожиданно и с большим жаром вышедший из терпения мужик.
– Что, что? – начал грозно небритый господин, привстав и подняв известным способом обе полы. – Ты, кажется, ругаешься?.. А! Да ты, может быть, еще драться начнешь!..
– Нет, я не то чтобы в обиду, – кротко отвечал мужик, опуская голову, и, спеша погасить вспышку, наполнил рюмку небритого господина, после чего как-то невольно рука его, не покидая графина, направилась к другой порожней рюмке. Он, однако ж, ее не налил и, с решительностию поставив графин, прибавил: – Выпей, брат, да коли хошь сослужить службу – так не томи. Мне, брат, не до каляканья. Завтра чем свет десятский придет. Ему, вишь ты, хорошо; похаживат с палочкой, кого в зубы, кого по затылку, кого так через спину вытянет, а надоело – ушел…
– Так вашего брата и надо, – отвечал небритый господин, выпив рюмку и спрятав руки.







