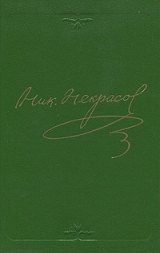
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
– Есть! – отвечал лоцман, стоявший на носу.
– Почем куль?
– Крупа рубль двадцать, а мука рубль (ассигнациями), – отвечал лоцман.
– А много еще осталось?
– А бог весть, тащи, что добудешь, всё твое, только деньги отдай.
И новоприбывшие приставали с ботников к потонувшему судну, один оставался в ботинке, прочие, раздевшись, бросались в воду на добычу. Кули, добываемые со дна барки, передавались на ботники, которые свозили их на берег и снова возвращались к барке. Каждая партия покупщиков складывала добытые ею кули особо, и, набрав их достаточно, делали расчет с хозяином, после чего часть кулей оставляли на берегу, под хранением надежного человека, а что можно было захватить, увозили на ботниках домой.
В этой странной лотерее выигрыш был не одинаков. Кто прибыл раньше, тому крупа досталась менее подмоченная и с меньшим трудом, так как верхние кули таскать было несравненно легче, чем сидевшие на дне. Поздно прибывшие или вовсе ничего не получили, или получили мало, и добыча стоила им невероятных трудов.
День был холодный и ветреный, не слишком удобный для продолжительной работы по шею в воде, но несмолкающий хохот, песни и прибаутки доказывали, что рабочие находятся в самом довольном расположении духа. <…>
Я бродил с ружьем по острову, давая промах по осторожным куликам, как вдруг услышал неподалеку жалобный крик: «Прощай, Марфа Алексеевна!»
Я поднялся с песчаной низменности берега на бугор, поросший высокой травой и кустарником. Несколько времени я шел по узкой тропинке, ничего не замечая, – вдруг прежнее восклицание с прибавлением всхлипывания снова поразило мой слух, и гораздо явственнее. Я пошел осторожно на голос, и в воображении моем уже рисовалась картина деревенского свидания перед разлукой во вкусе господина Тургенева.
Однако ж то, что я увидел, не совсем соответствовало моим ожиданиям. На мокром куле, которые были разбросаны по всему острову, сидел человек лет тридцати в синем купеческом сюртуке, опоясанном красным кушаком, в панталонах, заправленных в сапоги, и в щегольской, но зимней фуражке. По всему было видно: купчик. Оглядев его, я почти весь высунулся из-за куста, спрашивая себя: где же Марфа Алексеевна?
В одной руке он держал бумагу с куском паюсной икры, в другой складной нож – вот всё, что я еще заметил. Никакой Марфы Алексеевны подле него не было. Он резал икру, ел ее и плакал, горько плакал, иногда повторяя: «Прощай, Марфа Алексеевна!»
Поверишь ли, читатель, что я не только не смеялся, но был даже тронут… и почему же не так? Неужели паюсная икра, которую несчастный поливал своими слезами, как будто она не была и без того достаточно солона, могла тут изменить что-нибудь и помешать участию, которое возбудили во мне его слезы и голос, исполненный непритворного горя? Я громко кликнул собаку и подошел к нему.
Удивительна быстрота, с которою почти каждый русский человек (исключая мужика) готов поверить другим свое горе. Через полчаса мы как будто век были знакомы с несчастным купецким сыном, Иваном Герасимовичем Холуйским, хозяином или, вернее, главным распорядителем разбитого мокшана, а еще через полчаса я уже подробно знал причину его слез. Иван Герасимович был влюблен (не скрою, что, описывая свою любовь, он несколько раз упомянул и о хорошем приданом девицы), и благополучное препровождение мокшана к назначенному месту должно было решить его участь. Дело в том, что родители невесты не прочь были породниться с Ив<аном> Герасимовичем, считая его человеком хорошего поведения, но только в том дело состоит, – сказали они ему, – в каком вы смысле намерены свадьбу играть? Если вы думаете так свадьбу сделать, как Герасим Васильич (родитель наш, – понимаете, – пояснил Иван Герасимыч) сказали, – можно, говорят, на триста рублей сыграть, – это значит по-кузнецки <…>
1855–1856
«В тот же день часов в одиннадцать утра…» *
II
В тот же день часов в одиннадцать утра Чудов, в страшных попыхах, побежал с «Каменным сердцем» к своему приятелю Мерцалову и с увлечением сказал ему:
– Григорий Александрович! Прочтите, ради бога, прочтите эту рукопись поскорее! Если я не ошибаюсь, судьба посылает нашей литературе нового блестящего деятеля! По моему мнению, это превосходнейшая вещь!
Мерцалов был человек с тонким литературным вкусом, справедливо пользовавшийся репутацией отличного критика. Он был главным сотрудником журнала, имевшего тогда громкую и почетную известность, которую, можно сказать без преувеличения, доставил ему Мерцалов. Беспристрастие, не преклонявшееся ни пред какими отношениями, ни пред какими выгодами, резкий раздражительный тон, ирония, если не всегда тонкая, то всегда злая и меткая, – доставили ему множество врагов, которые распускали о нем бог знает какие слухи: в их рассказах Мерцалов являлся каким-то бичом всего даровитого и прекрасного, каким-то литературным бандитом, не дающий пощады ни встречному ни поперечному, лишь бы потешить свою молодецкую удаль. Но, в сущности, не было существа добрее, благороднее и деликатнее, и если он действительно иногда накидывался на некоторые недостойные литературы явления с большим жаром и негодованием, чем они заслуживали, то причиною этому была его горячая, страстная любовь к литературе; как нежный отец в любимом детище, он желал видеть в ней одни достоинства, и каждое бездарное, недобросовестное или почему-нибудь вопиющее явление приводило его в отчаяние, поднимало в нем всю желчь, которая и отражалась обыкновенно в отзывах его о таких произведениях.
Зато никто с такою любовью, с таким ободрительным теплым участием не встречал нового явления, обнаруживающего признаки таланта. В этом отношении увлечение его доходило до такой степени, что за одною хорошею стороною он не замечал десяти дурных и, таким образом, подавал врагам своим повод обвинять его не только в преувеличенных порицаниях, которые они называли ругательствами, но и в преувеличенных похвалах, которые они называли кумовством. Вообще крайности составляли главную черту его характера как в литературе, так и в жизни. Середины у него не было – и человек или книга, еще сегодня милые ему, рисковали завтра возбудить его отвращение. Такие переходы совершались в нем всегда резко и круто, предшествуемые внутренним мучительным, тяжким процессом мысли, доводившей его до сознания ошибки. Ни печатно, ни словесно он не стыдился сознаваться в ошибках и если не был упорно постоянен в своем мнении (что некоторыми почитается необходимым признаком великого ума), то можно сказать положительно, что мнения его истекали из глубокого убеждения. Надо прибавить, что судьба не обнаруживала к нему особенного расположения, он был очень несчастлив в жизни, и это, естественно, усиливало его раздражительность.
Мерцалов выслушал восторженные похвалы Чудова «Каменному сердцу» с тою кроткою улыбкою недоверия, с которою опытные критики выслушивают обыкновенно людей, решающихся произнести положительные приговоры в деле, подлежащем исключительно суду их, опытных критиков. К этому должно прибавить, что частые увлечения, за которыми следовали горькие, обидные самолюбию разочарования, научили Мерцалова быть осторожнее, и если он не мог переделать своей натуры, то по крайней мере старался показать, что теперь уже спокойнее и трезвее встречает каждое новое явление, наученный летами и опытом не поддаваться увлечению.
Мерцалову было под сорок лет, но – если сказать правду – он был моложе иного двадцатилетнего юноши благодаря богатству, восприимчивости своей натуры.
– Эх вы, молодежь, молодежь! – сказал он с усмешкой. – Чуть прочтете что-нибудь, понравится, расшевелит сердчишко, уж сейчас и превосходная, пожалуй, даже – гениальная вещь!
– Прежде прочтите – сами то же скажете,
– Прочесть? Да смотрите: стоит ли читать? Я теперь очень занят.
– Стоит, уверяю вас, стоит! – с жаром отвечал Чудов. – Вы только начните – не оторветесь!
– Будто? Вы по себе судите. Полноте! Я уже не ваших лет. Для меня нет теперь книги, от которой я не мог бы оторваться для чего угодно – хоть для пустого разговора.
– Я ужо зайду, – сказал Чудов.
– Вечером? Хорошо, заходите.
– И вы мне скажете ваше мнение.
– Уже? Вы думаете, что я вот так всё брошу л примусь читать.
– Но ведь отличная вещь. Прочтите сегодня…
– Сегодня никак не могу. Я начал прекрасную книгу <…> надобно кончить.
– Когда же вы прочтете?
– Да вот… прочту как-нибудь, – лениво отвечал Мерцалов.
Чудов ушел. Следует заметить, что Мерцалов вовсе и не думал продолжать чтение, но тотчас же по уходе Чудова с живостью ухватил рукопись «Каменного сердца». Он прочел заглавие, пробежал эпиграф, который составляли несколько строк, выписанных из его собственной критической статьи, и стал читать. По прочтении нескольких страниц лицо его вспыхнуло, он оставил рукопись и заходил скорыми шагами по комнате. Потом он кликнул человека, приказал ему никого не принимать и стал продолжать чтение.
Около осьми часов вечера Чудов, поджигаемый нетерпением, побежал к Мерцалову.
Мерцалов лежал на диване, когда раздался звонок. Лицо его выражало сильное волнение; в руках была рукопись «Каменного сердца». Услышав звонок, он быстро вскочил с дивана и встретил Чудова следующими словами, в которых отражались и досада и нетерпение:
– Где вы пропадали?
– Я? Обедал… Мы обедали с Глажиевским в Hotel de Paris.
– Я вас жду, жду; думал уж послать к вам. Что, он молодой человек?
Увидав в руках Мерцалова знакомую рукопись, Чудов догадался, о ком идет речь.
– Молодой, – отвечал он.
– А как?
– Ему, я думаю, лет двадцать пять или двадцать четыре.
– Слава богу! – о восторгом воскликнул Мерцалов и перевел дух: как будто камень свалился! с его груди. – Этот вопрос меня очень занимал. Я просто измучился, дожидаясь вас. Так ему только двадцать четыре года?
– Никак не более двадцати пяти! – отвечал Чудов.
– Ну так он гениальный человек! – с эффектом произнес Мерцалов.
– Я вам говорил, – заметил обрадованный Чудов.
– Вы говорили? Что вы говорили! Можно ли так говорить о подобной вещи! Пришел, повернулся, оставил рукопись и пропал! Превосходная вещь, – мало ли что мы называем превосходною вещью. Это слово так же применяется к пустенькому водевилю, как и к) дельной вещи. Это художественное гениальное произведение! – с одушевлением продолжал Мерцалов. – Я вам скажу, Чудов, – заключил он, вспыхнув так, что лицо его покраснело, и сделав резкое движение рукой, – я не возьму за «Каменное сердце» всей русской литературы!
Потом пошли толки о достоинствах «Каменного сердца», о художественном его значении, о глубоком принципе, который лежит в его основании, о необыкновенной концепции его частей и замкнутости целого (тогда подобные слова были в большом употреблении в литературном языке); далее говорил Мерцалов (и говорил чрезвычайно умно и с большим одушевлением) отдельно о каждом лице романа и решительно не находил достаточных похвал искусству автора.
– Главное, что поражает в нем, – сказал он, между прочим, – это удивительное мастерство живьем ставить лицо перед глазами читателя, очеркнув его только двумя-тремя словами, но такими, что если б иной писатель исписал десять страниц, то и тогда лица его не выступили бы так резко и рельефно! И потом какое глубокое, теплое сочувствие к нищете, к страданию! Скажите, что он, должно быть, бедный человек – и сам много страдал?
Тут пошли расспросы о личности Глажиевского: Чудов пересказал всё, что успел узнать и заметить о его характере и образе жизни. Мерцалов интересовался даже знать его манеры и общий очерк физиономии и делал изо всего, что передавал ему Чудов, более или менее удачные применения: к «Каменному сердцу», объясняя, как тогда любили выражаться, автора его произведением и наоборот: произведение – его автором. В этих соображениях если и не было, по бедности фактов, истины, то они отличались остроумием и, умными тонкостями, в которые вдаваться Мерцалов был большой мастер и охотник. Довольно было ему самого незначительного факта, как уже воображение его создавало целую личность человека, или, если дело шло о событии, оно тотчас давало ему недостающую стройность, – Мерцалов мастерски и совершенно логически объяснял причины уклонения его с прямого пути и вероятный исход; любо было слушать, как отрывок факта, события или не вполне дошедшей еще до нас далекой газетной новости приобретал в его устах и форму и душу, превра<ща>ясь в нечто стройное и целое, подобно зерну, брошенному в землю, которое постепенно превращается в высокое и прекрасное дерево, с крепким стволом и широкими, красиво раскидывающимися листьями. И забавно было видеть потом (а подчас и досадно, потому что он развивал свои положения так остроумно, что и сам слушатель нередко увлекался ими и верил им), – забавно было видеть, когда вторая половина факта в свою очередь наконец также достигала до него и, убивая совершенно первую, уничтожала в то же время и здание, выстроенное им с такою тщательностию и такою, по-видимому, логичностию, – здание, которое он привык уже почитать не пустым фантомом.
Он был большой мастер, что называется, логически проводить мысль, восходя до самых отдаленных последствий, но не всегда разборчиво брал точку отправления своей; мысли и оттого, – весьма, по-видимому, логическим путем, – приходил иногда к чрезвычайно странным заключениям. Верность, с которою он часто уловлял таким путем истину, и общее беспредельное поклонение приятелей, слушавших его, как оракула, не позволяли ему обуздывать врожденную живость своей фантазии.
Мерцалов сказал Чудову, что, дожидаясь его в мучительной агонии (он любил выражаться сильно), составил было уже нравственный и даже внешний портрет автора «Каменного сердца», но признался, что портрет его не совсем сходен с подлинником.
– Всего белое радует, – говорил он, – что ему только двадцать пять лет… Если б он был уже человек зрелого возраста, тогда всего вернее, что из него ничего более не вышло бы. Тогда на «Каменное сердце» можно было бы смотреть как на результат целой и лучшей половины жизни умного и наблюдательного человека, много пережившего и перечувствовавшего. Но написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений, который силою постижения в одну минуту схватывает то, для чего обыкновенному человеку потребен опыт многих лет!
Мерцалов говорил и о недостатках «Каменного сердца» (как тонкий критик, он не мог не заметить их, да и самое его звание повелевало найти их), но недостатки эти – растянутость, многословие, неуместное повторение одних и тех же слов, обличающее некоторую манерность, – отнесены были к молодости и неопытности автора, конечно нисколько не служащим обвинением ни ему самому, ни его произведению.
До глубокой ночи проговорили приятели о «Каменном сердце» и его авторе, и Чудов ушел, пообещав завтра же привести к Мерцалову нового гениального человека. Как ни поздно было, однако ж Чудов забежал к Глажиевскому и откровенно, с юношеским увлечением пересказал ему мнение Мерцалова о «Каменном сердце». В, продолжение короткого знакомства с Глажиевским Чудов имел много случаев наблюдать выражение радости в лице нового писателя, которая тем разительнее отражалась в нем, что в обыкновенном, спокойном состоянии оно уподоблялось сероватой и мглистой осенней туче, готовой ежеминутно разрешиться дождем пополам со снегом и слякотью. Но ни разу еще не заметил Чудов в лице Глажиевского такого счастия, каким озарилось оно при рассказе о похвалах Мерцалова. Повторилось нечто вроде обморока, приключившегося с Глажиевским ночью. Тем же дрожащим, расслабленным, неровным голосом переспрашивал он по нескольку раз, что именно говорил Мерцалов, повторял сам его отзывы, как будто вникал в них и взвешивал значительность каждого слова, поминутно усмехаясь своим дребезжащим нервным смехом и тщетно усиливаясь сообщить солидность и спокойствие своей физиономии.
Чудов не без основания подумал, что, не будь свидетелей, гениальный человек, вероятно, пустился бы вприсядку, как делают обыкновенные смертные в минуты сильной радости. В то же время Чудов заметил, что его собственные похвалы «Каменному сердцу» уже не так радостно выслушиваются Глажиевским; ему как будто всё казалось их мало, и он спрашивал небрежно:
– Григорий Александрия, что ли, так говорил? – спрашивал он иногда, и при ответе Чудова, что так он сам думает, но что, вероятно, и Мерцалов согласится с его мнением, выражал в своем лице нечто вроде презрения: так, по крайней мере, казалось Чудову.
– А ведь вот Разбегаев, – заметил, между прочим, Глаж<иевский>. – Ведь вот он пустой малый, а вкус у него есть; такт есть… И добрый он; бесподобный малый: не завистливая душа! Я улыбнулся – да и вы, кажется, тоже? (тут он значительно, не без иронии, взглянул в глаза Чудову), – когда Разбегаев назвал мое «Каменное сердце» гениальной вещью, а! вот теперь Григорий Александрыч говорит то же!
В этом замечании Чудов как бы слышал упрек себе в том, что при первом знакомстве с Глаж<иевским> был осторожен в похвалах его произведению и не только ни разу не назвал «Каменного сердца» гениальным произведением, но даже не удостоил никаким замечанием мнение Разбегаева как пустое и вздорное.
Это его несколько удивило.
На другой день Чудов ждал Глажиев<ского>, чтоб отправиться вместе к Мерцалову.
Условное время уже прошло, а его не было. Зная нетерпеливый нрав Мерцалова, Чудов побежал к Глажиевскому.
Ген<иальный> чел<овек> был не одет; лицо его носило признаки долгого колебания, борьбы с самим собою и слабости.
– Что же вы? – с упреком сказал Чудов.
– Я не пойду к Мерцалову, – отвечал Глаж<иевский>.
– Как? Что такое? Отчего?
– Да так… право… Не лучше ли будет не идти? – произнес он менее решительно, потупив глаза в пол.
– Отчего же?
– Да я так думал… Я сегодня целую ночь думал… Ведь вы говорите, он спрашивал обо мне, о моем лице даже… что, если… я боюсь… если….
Тут он вдруг остановился, как будто осекся, и потом с решительностью прибавил:
– Нет, – лучше не идти!
– Какое ребячество! – воскликнул с жаром Чудов, – Неужели вы боитесь, что эффект вашего произведения разрушится, когда Мерцалов увидит вас!
– С чего вы взяли, что я так думаю? – резко возразил гениальный человек, обидясь тем, что Чудов угадал причину ею раздумья, которое он и высказывал и не высказывал. – Я просто не пойду потому, что рассудил, что мне нечего там делать. Что я ему? Какую роль буду играть я у него? Что между нами общего? Он ученый человек, известный литератор, знаменитый критик, а я… что я такое?
– Осип Михайлыч! Осип Михайлыч! – с кротким упреком заметил Чудов. – Какое смирение! И перед кем? Разве я не читал «Каменного сердца», разве Мерцалов тоже не читал его?
– Так что ж такое? – сдерживая улыбку удовольствия, тихо и вкрадчиво произнес Глаж<невский>.
– Как будто вы не знаете, как будто не говорили вам, что если не ваши личные достоинства, которых Мерцалов еще не знает, то ваше произведение…
Лицо гениального человека процвело; каждая веснушка его налилась радостью; но, стараясь скрыть ее, он перебил Чудова с притворной досадой и смирением:
– Полноте, полноте! Вы, может быть, так думаете. А он? Вот он вчера расхвалил… а теперь, может быть, поохладел и уж совсем иначе думает…
Тут опять тень действительного сомнения и страха показалась в его лице, которое имело обыкновение меняться тысячу раз в минуту, то изображая собою, как мы уже заметили, угрюмую тучу, готовую разрешиться дождем и слякотью, то вдруг, мгновенно озаряясь ярким играющим светом, каким блестит солнце к морозу.
– Мерцалов не такой человек, да и «Каменное сердце» не такая вещь, чтобы так скоро разочароваться, – отвечал Чудов (причем лицо гениального человека опять изменилось – к морозу). – Он привык обдуманно произносить суждения…
– И прекрасно, и прекрасно! – заметил Глажиевский. – Чего же ему еще? Прочел роман, сделал свое заключение о нем, – ну и пусть пишет, пусть хоть целую книгу, как говорил сам вчера, пишет…
– Так вы не пойдете?
– Нет… разве в другой раз когда… после… будет еще время…
– Ну, как хотите! – с досадой отвечал Чудов, которому надоело упрашивать его. Он также не имел охоты вторично пускаться в доказательства, почему Мерцалову интересно видеть его, к чему Глажиевский как бы вызывал его, прибавив:
– Да и что ему интересного в человеке, который… который…
– Прощайте! – вместо ответа резко сказал Чудов и ушел.
Едва сделал он десять шагов по тротуару, как услышал за собой крик:
– Тихон Васильич! Тихон Васильич!
Он обернулся и увидел Терентия, бежавшего за ним без шапки.
– Что?
– Барин вас просит. Он приказал сказать, что идет, только сейчас оденется.
Тростников воротился.
– Я подумал, – сказал ему Глажиев<ский>,– ловко ли будет: он, может быть, ждет… всё равно, ведь беды большой нет, если и сходить, ведь нет? – спрашивал он, как будто еще сомневаясь, действительно ли нет беды.
– Какая же беда, когда он сам просил и ждет. Я уж вам сколько раз повторял.
Глажиевский оделся, и они пошли. Всю дорогу Глажиевский расспрашивал о привычках Мерцалова; говорил, что он человек несветский, не умеет ни войти, ни поклониться, ни говорить с незнакомыми людьми. Тростников отвечал ему, что с Мерцаловым нужно вести себя просто и больше ничего.
Когда они вошли на лестницу и Тростников взялся за звонок, – «Погодите!» – произнес Глаж<иевский> таким судорожным, резким голосом, что Тр<остников> испугался и невольно принял руку со звонка.
– Что с вами?
– Нет, ей-богу… нет… я решительно сообразил, что мне не должно идти. Я не пойду! Идите одни, – говорил Глажиевск<ий> таким голосом, как будто Тростников был посланником ада, пришедшим тащить его в царство тьмы.
И он бросился с лестницы.
– Как хотите! – отвечал взбешенный Тростников. – Мне всё равно; только смотрите: Мерцалов рассердится, он человек желчный, раздражительный…
– Рассердится?
Не успел Тростников договорить последнего слова, как Глаж<иевский> стоял уже рядом с ним и искал рукою звонок; ручка его была о другой стороны двери, чего он не видал, хотя смотрел во все глаза. Эти глаза и вообще вся физиономия Глажиевского походила на тучу, уже разрешившуюся всем тем, о чем было сказано выше; серый осенний день был в полном разгуле; вглядываясь в нее, можно было даже слышать визгливое и жалобное завывание ветра, сопровождающее осенние непогоды…
Тростников только тогда, понял долгую нерешительность Глажиев<ского>, когда увидел, до какой изумительной степени автор «Каменного сердца» оробел, представ пред грозные очи критика. В минуты сильной робости он имел привычку съеживаться, уходить в себя до такой степени, что обыкновенная застенчивость не могла подать о состоянии его ни малейшего понятия. Оно могло быть только охарактеризовано им же самим изобретенным словом «стушеваться», которое и пришло теперь в голову Тростникову. Лицо его всё вдруг осовывалось, глаза исчезали под веками, голова уходила в плечи; голос, всегда удушливый, окончательно лишался ясности и свободы, звуча так, как будто гениальный человек находился в пустой бочке, недостаточно наполненной воздухом, и притом его жесты, отрывочные слова, взгляды и беспрестанные движения губ, выражающих подозрительность и опасение, имели что-<то> до такой степени трагическое, что смеяться не было возможности.
Однако ж простой и ласковый прием Мерцалова, а особенно похвалы, которыми он не замедлил осыпать «Каменное сердце», скоро возвратили Глажиев<скому> употребление способностей. Он даже перешел в другую крайность: вздумал щегольнуть развязностью, промурлыкал какой-то стих из песенки и рассказал анекдот о своем Терентии, который, по незнанию грамоты, съел какой-то пластырь, прописанный ему для наружного употребления. Анекдот не был забавен, а изложение его отличалось деланностью и двумя-тремя натянутыми сарказмами.
– Ну, бог с ним, с вашим Терентьем, – заметил Мерцалов. – А вот скажите мне, долго вы писали ваше «Каменное сердце»?
Глаж<иевский> несколько смешался.
– Я?.. Недолго…
– А как?
Глажиевский не вдруг отвечал:
– Да как? Начал я его в мае… а кончил, кончил… в том же году.
Тростникову такой ответ показался несколько странным: еще недавно Глаж<иевский> сказал ему, что писал свой роман четыре года и шестнадцать раз переписывал. «Неужели он, – подумал Тростников, – стыдится перед Мерц<аловым> сказать правду?»
– Скоро! – заметил Мерц<алов>. – Впрочем, в деле творчества время ничего не значит. Пушкин писал некоторые свои произведения необыкновенно скоро, другие, напротив, доставались ему, по-видимому, с огромным трудом; мне случалось видеть рукопись некоторых глав «Онегина»: исчеркано, перечеркнуто по десяти раз каждое слово, а результат один – и то, что написалось скоро, и то, что писано долго и с напряженным трудом, читается одинаково легко, с одинаковым наслаждением. И то и другое одинаково гениально! Байрон вообще писал очень скоро. «Манфреда» своего написал он в двадцать два дня, а некоторые песни «Дон-Жуана» стоили ему не более одной ночи. Наш Гоголь пишет, говорят, трудно, по нескольку раз переставляет одно слово, – его рукописи тарабарская грамота, а можно ли заметить, читая его плавную, певучую, картинную прозу, что она стоила автору таких усилий? Я имею автографы и целые рукописи многих замечательных писателей. Хотите видеть?
Мерцалов говорил добродушно, не думая о впечатлении, которое производят его слова, но если б он следил за лицом Глажиев<ского>, он увидел бы, что не столько его слова и автографы великих людей занимали слушателя, сколько то обстоятельство, что он, великий русский критик, по поводу его, Глажиевского, заговорил о Пушкине, Байроне и Гоголе, – лицо автора «Каменного сердца» всего красноречивее выражало чувства, возбужденные в нем таким лестным сближением: по этому лицу Тростников, уже начинавший понимать Глаж<иевского>, тотчас догадался, в чем дело!
– Какой умный человек, – сказал он Тростникову, когда Мерцалов ушел за автографами, – и как удивительно, как тонко понимает изящное. Вот настоящий критик!
Мерцалов был действительно умный человек, но ум его, конечно, проявлялся не в таких сценах и обстоятельствах. Он очень скоро сбился с роли, которую думал выдержать, приняв твердое намерение быть умеренным в похвалах. Довольно было одной фразы Глажиев<ского>, сказанной необыкновенно кротким тоном смирения:
– Вы, кажется, преувеличиваете достоинства моего романа.
И добродушный Мерцалов, вспыхнув, принялся доказывать, почему считает «Каменное сердце» художественным, великим, гениальным произведением. Глажиевский время от времени бросал словечко (не без умыслу, как начало казаться Тростникову), которое производило действие масла, влитого на огонь: Мерцалов горячился еще более и, забывая всякую умеренность в выражениях, повторил снова и торжественно вчерашнюю фразу, что он за «Каменное сердце» не возьмет всей русской литературы!
– Да вот увидите: я буду писать; тогда только раскроется всё великое художественное значение «Каменного сердца». Это такой роман, о котором можно написать целую книгу, вдвое толще его самого!
– Полноте, Григорий Александрыч! Вы, право, так ко мне добры… да что ж тут напишешь! Признаюсь, приведись на меня, я не нашел бы, чем наполнить и коротенькую рецензию. Похвала коротка, а если растянуть ее, выйдет однообразно…
– Это только доказывает, – не без маленькой гордости отвечал Мерц<адов>,– что вы не критик и взялись бы не за свое дело. Разбирать подобное произведение – значит выказать его сущность, значение, причем легко можно обойтись и без похвалы: дело слишком ясно и громко говорит само за себя; но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии нельзя только намекнуть на них.
– Ну, это ваше дело, ваше дело! – отвечал Глаж<иевский>, давая знать, что он совершенно убежден доводами критика.
Беседа в этом роде продолжалась еще часа полтора. Прощаясь с Глаж<иевским>, Мерц<алов> объявил, что надеется очень скоро его увидеть опять у себя.
– На днях я соберу у себя кой-кого из моих приятелей, и мы введем вас в наш литературный круг. Люди все очень хорошие, – я готовлю им хорошее наслаждение: мы прочтем «Каменное сердце».
Через три дня Глаж<иевский> действительно получил записку след<ующего> содержания:
Любезный Осип Мих<айлович>! У меня собралось сегодня несколько хороших приятелей, они все будут рады познакомиться с автором «Кам<енного> сер<дца>», которое вы, будьте так добры, прочтете нам и прочее, пр<очее>.
Мерцалов.
По прочтении записки лицо Глаж<иевского> вытянулось в длинный вопрос: идти или нет?
Весть о новом гениальном романе, о новом литературном гении с необыкновенною быстротою разнеслась в литературном кружке, центром и светилом которого был Мерцалов. Приятели, приходившие к нему, не видели его иначе как с рукописью «Каменного сердца» в руках, из которой он тотчас же начинал читать отрывки, восхищаясь ими и отдавая должную дань удивления таланту автора.
Литературный кружок, составившийся около Мерцалова, заключал в себе всё, что тогда в литературе было молодого, талантливого и благородного. Но, кроме литераторов, к нему принадлежало несколько лиц, ничего никогда не писавших и которые, вероятно, никогда ничего не напишут. Тем не; менее они, однако ж, не имели другого круга, кроме литературного, в котором и проводили всё свое время, свободное от служебных или других занятий. Их терпели там, да и попали они туда благодаря покровительству Мерцалова или другого литератора, имевшего авторитет; вступление их в литературный круг всегда оправдывалось какими-нибудь достоинствами, которые открывали в них меценаты, а за ними и другие. «Он хотя и не пишет Стихов, но он поэт в душе, – говорили про одного. – Посмотрите, как он понимает прекрасное! Как умеет подметить каждую тончайшую черту в поэтическом произведении!» Другого именовали благородной личностью,удивляясь его широкой способности сочувствовать прекрасному, рассказывая о нем всё один и тот же анекдот в доказательство его необыкновенной нравственной силы. В третьем признавали необыкновенный юмор. Особенно много было таких, которые умели сочувствовать, почему их и можно назвать литературными сочувствователями.В самом же деле они были добрые малые, большей частию совершенно безразличные, умевшие сделаться необходимыми светилам кружка кто по своим связям, кто по богатству, а кто просто но особенной угодливости и уменью льстить.
Поэт в душебыл богат – и вся компания раз в неделю у него ужинала с шампанским! и трюфелями. Кроме того, в важных случаях он давал деньги взаймы, чем литераторы с кредитом нравственным, но не существенным, не упускали пользоваться.







