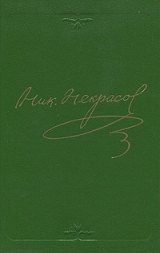
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
– Вишь, они думают, что руки у нас железные, – заметил один из его слушателей.
– Руки-то у нас не железные, да денежки-то у них серебряные, – прибавил другой.
– А много на водку дала? – спросил третий.
– Мало ли, голова? – отвечал Никита, возвращаясь быстро к своей вопросительной форме и, следовательно, к угрюмому расположению духа (что не делалось у него одно без другого), – мало ли, целый пятиалтынный!
Затем водворилось молчание, и собеседники, потянув на плечи свои полушубки, понемногу разбрелись от ворот почтовой гостиницы, где происходил разговор.
Между тем приятели наши подвигались вперед. Они благополучно миновали Вишу и опять поплыли по разливу, затопившему поля и луга; потом они въехали снова в кусты и поехали кустами.
– А как минем кусты, останется только перевалить озеро, а уж там и дома! – говорили гребцы, успокаивая их нетерпение.
К вечеру совершенно стихло, и предполагаемой опасности при переправе через озеро теперь уже нечего было бояться. Пробираясь кустами, они вдруг услышали мерный и резкий звук топора; звук всё слышался ближе, и скоро приятели наши увидели мужичка, который сидел на крыше небольшой избушки, до половины погруженной в воду, и что-то приколачивал топором; к дверям избы привязан был ботник, в котором сидела девочка лет девяти; вокруг избы стояли ульи, выказывая из воды только верхушки свои; небольшое пространство, занимаемое избушкой и ульями, было очищено от кустарника и, по-видимому, обнесено забором, которого только некоторые тычинки торчали из воды. Таким образом, круг, обозначенный этими тычинками, представлял гладкую, окрашенную теперь лучами заходящего солнца в яркий пурпур поверхность озера, среди которого живописно разбросаны были избушка с работающим на крыше стариком, десятка два ульев, которых тупые и широкие верхушки темными пятнами отражались на воде, наконец, ботник с девочкой, которая с приближением путешественников широко раскрыла свои большие и робкие глаза, неподвижно устремив их в несколько бледноватое, но всегда величавое лицо Грачова, – картина была столько же привлекательная, сколько и оригинальная.
– Что ты тут поделываешь, старичок? – спросил Грачов.
Старик посмотрел вниз и обнажил свою седую голову.
– А крышу чиню; вишь, избенку всю расшатало, того гляди – по бревну растащит.
– Ты живешь, что ли, тут?
– Коли теперь жить, а так, наезжаю – всё надо присмотреть, как бы чего не унесло.
– Где ж ты живешь?
– А покуда живу у добрых людей, там, – старик указал вправо. – У них место повыше, так вот к ним и сбился народ, в каждом дому, почитай, семей по три живет, да что станешь делать! А ваша милость куда?
– В Грачово, – сказал передовой гребец.
– Грачово всё облило, – сказал старик, – да так, что и жить нельзя, – народ весь перебрался в Боровичи.
– Да нам в барский дом, – сказал надменно Грачов. – Барский дом стоит на горе, и его никогда не потопляет.
– А не знай, – отвечал мужик. – Прошлый год точно не потопляло, а нынешний я в тех местах не бывал, не приходилось; вот в Софонове так доподлинно знаю: всё облило, а барский дом не тронуло – сух стоит! Вишь, нынешний год вода какая! Вот моя-то избушка на пригорочке стоит – всё кругом обольет, бывало, а ее не хватит, всегда сухая стоит, а вот ноне что сделал господь! Вода выгнала нас – живи, где хошь, пока не сольет!
– А дичь есть у вас? – спросил Грачов, не пропускавший ни одного случая осведомиться о предстоящей охоте.
– Уток много летает, – отвечал мужик. – А вот тут неподалеку маленькая горка есть, ее водой не хватило, так тут столько набивается белых тетерок, что я намедни испугался, как они разом спорхнули.
– Слышишь, слышишь! – радостно сказал Тростника ву Грачов. – Должно быть, белые куропатки!
– Вот будет хорошо, – сказал вместо ответа Тростников, – как твой дом тоже облило. Приятная ночь нам предстоит. Да и вообще: что мы будем делать тогда?
– Не может быть! – отвечал Грачов.
– Да отчего же не может быть? Ты разве бывал там?
– Уж я знаю! – отвечал Грачов.
– Что ты знаешь о своем имении? Столько же, сколько и я! – возразил с жаром Тростников. – Ты больше зияешь о Париже, чем о своем Грачове.
И они, по обыкновению, заспорили под такт мерных ударов топора, который тотчас опять принялся постукивать, как только ботники тронулись.
Кто-нибудь заметит, что ничего не сказано о девочке, сидевшей в привязанном ботнике; о ней нечего сказать; всё время разговора наших друзей с мужиком она не спускала любопытных глаз с Раппо, которого крутая и толстая шея ярко блестела в белом серебряном ошейнике, щедро облитом солнечными лучами. Не без сожаления проводив собаку глазами, девочка сказала:
– Вишь ты, собака… черная да толстая… и ошейник белый, так и горит.
– Известно, барская, – отвечал ей отец с своего возвышения.
Последние часы путешествия наших приятелей были исполнены какой-то торжественной мрачности. Повздорив, они оба погрузились в упорное молчание. Может быть, печальные предчувствия томили их. Гребцы, видя угрюмость господ, также хранили молчание. Солнце село, когда друзья почувствовали под собой колыхание, напомнившее им, что они, должно быть, проезжают озеро!
Последняя преграда, стоявшая между ними и целью их путешествия, наконец пройдена – и что же они увидели?
Сначала они увидели бедные и жалкие признаки деревни, покинутой своими жителями и стоявшей так глубоко в воде, что над водою торчали одни соломенные крыши изб. Признака живого существа не примечалось ни в самой деревне, через которую друзья наши проехали в своих ботниках, ни кругом: всё было пусто, мертво, и даже грач не хотел вить гнезда в здешних деревьях, которых обнаженные ветви, нагнувшись, купались в воде.
– Эвона! вишь, куда – по самые окна хватила вода, – сказал передовой гребец. – И впрямь тут жить нельзя. В прежние годы так много, что под пол подойдет, а иные избы и вовсе не хватит, ну и пробьются как-нибудь месяц… А ныне вот все разбежались, да и как жить? Глядь: весло всё уходит!
И он попробовал веслом и удостоверился, что среди самой деревни нельзя достать веслом дна.
– Ну, коли так, – прибавил он, – так не диво, что и барский дом потопило! Оно, конечно, место повыше, да, вишь, дна нет!
И он опять ткнул веслом в воду.
– Полно врать, дурак, не может быть! – грубо сказал Грачов.
– Да вот сейчас, только лесок обогнем, и видно будет, – не обидясь, отвечал гребец.
Обогнули лесок и увидели барские службы и барский дом, правда не так глубоко стоявший в воде, как деревня (два этажа его, отлично выбеленные, резко рисовались на синеватом водяном фоне), но уже и теперь, при не совершенно погасшей вечерней заре, не оставалось сомнения, что дом плотно окружен водою. Подъехали ближе – вода; померяли веслом – глубина еще довольно велика, около полутора аршина.
– Ступай дальше! Поехали, весла начали уже задевать землю, но всё еще ботники свободно шли. И так друзья наши добрались вплоть до самого дома. Но хоть он действительно занимал самую высокую точку местности, однако ж под самым домом вода стояла на пол-аршина с лишком.
То же безмолвие, то же отсутствие жизни, как и в деревне, царствовало кругом.
Грачов приуныл и не смел взглянуть на своего приятеля. Он ожидал страшных проклятий, насмешек и упреков, но оказалось, что Тростников был великодушнее, чем думал Грачов.
– Славный дом! – сказал он, умеренно и украдкой наслаждаясь замешательством приятеля. – И не будь проклятого разлива, мы бы отлично в нем зажили!
– Еще бы! Я говорил! – воскликнул Грачев с прежней самоуверенностью, но вдруг опомнился и продолжал тоскливо: – Где же Рюмкин? Что он нас не встречает? Ведь я писал ему. Эй, кто тут есть!
И много раз повторен был этот крик, и не одним Грачевым, гребцы также усердно помогали ему, но никакого ответа не было.
Грачов пришел в страшное негодование против своего управляющего.
– Прошу покорно! – говорил он. – Бросить барский дом без всякого присмотра, уехать, когда я писал, что буду! Каков?.. Это удивительно, до какого они доходят самоуправства. Я… я…
– Ты лучше всего сделаешь, – перебил его Тростников, – если успокоишься и рассудишь хладнокровно: Рюмкин твой не так виноват, как кажется. Что он бросил дом без присмотра – это еще не преступление; здесь, кажется, вода лучший сторож, по крайней мере весной; а что он убрался отсюда сам, так, по-моему, он ничего не мог сделать благоразумнее: не умирать же ему было здесь с голоду! И мы отлично сделаем, если последуем его примеру, и как можно скорее, потому что уж ночь, а нам надо же где-нибудь приютиться, чтобы отдохнуть и поесть…
– Что ж мы будем делать? – говорил в отчаянии Грачов. – Я ничего не знаю! Неужели не получил он моих писем? И где мои обозы? Там найдется что и поесть и выпить. Я накупил всего соленого, копченого, маринованного, что только не портится летом… Какие там чудесные маринованные омары, сардинки, анчоусы… всякая дичь, герметически закупоренная в жестянки, чудо, пальчики оближешь! А вина? Я скупил весь годовой запас Рауля. И мне самому ужасно захотелось есть… Неужели они до сей поры не пришли? Я послал сюда четыре обоза, – продолжал он с непритворной горестию, обращаясь к гребцам. – Послал уже три недели тому назад, неужели они не успели прийти? Или они пропали? Не правда ли, Тростников, после всех наших несчастий приятно было бы теперь поесть маринованных омаров и выпить бутылочку редереру?
– Я бы желал лучше чаю, – сказал Тростников.
– Там и чаю полпуда куплено – лучший сорт, – сказал уныло Грачов. – Я хотел, чтоб у нас в деревне ни в чем не было недостатка. А вот теперь…
– Намедни, – сказал один гребец, – наш парень возил сюда какого-то, в Софонове, байт, оставил его, тот сказывал: издалече, говорит, еду…
– Видел его кто-нибудь? – спросил Грачов.
– Такой рябоватенький, – прибавил другой гребец, – невелик ростом, с собачкой…
– Собака пестрая, Трезор, с коричневыми крапинками?
– Пестрая.
– Ну он и есть! Это Василий! – воскликнул Грачов. – Он прежде всех отправился с вещами. У него вся провизия. Где же он? И отчего он пешком?
– Да, вишь, вода не перепустила.
– Так, значит, он всё бросил где-нибудь? – воскликнул с ужасом Грачов. – Вот тебе и омары… вот тебе и дичь, герметически закупоренная!.. Несчастный Тростников… Я… я ничего! Мне поделом! Самого черти подбили ехать сюда, ну и терпи! А ты чем виноват?
– Полно отчаиваться! – сказал Тростников. – Не ты ли говорил, что жизнь, исполненная трудов, приключений и опасностей, жизнь охотника – твоя сфера. И вот при первом…
– Так ты думаешь, я отчаиваюсь? – с жаром перебил Грачов, и ссора готова была вспыхнуть, но неожиданное обстоятельство остановило ее.
В жару разговора ни гребцы, ни приятели наши не заметили, как из ближайшего флигеля, черневшего в расстоянии двадцати шагов от барского дома, выступила какая-то фигура. Фигура эта смело пошла по воде, остановилась шагах в двух от ботников и низко поклонилась. И так во все продолжение разговора наших друзей она продолжала низко кланяться, стоя по пояс в воде со сложенными на груди руками, и, по-видимому, терпеливо ожидала, пока до нее дойдет очередь говорить. Наконец один из гребцов заметил ее и указал на нее Тростникову.
– Ба, да тут есть живое существо! – воскликнул он. – Посмотри, Грачов, кажется, женщина!
Они посмотрели, причем фигура начала повторять свой низкие поклоны.
– Женщина, точно, женщина! – воскликнул Грачов. – Эй, ты кто такая? Подойди сюда!
Фигура не двигалась вперед, но Грачову показалось, что она дрожит.
– Да что ж ты стоишь в воде! – сердито закричал Грачов. – Простудишься… Сядь в ботник да расскажи нам: ты здешняя?.. Куда девался Рюмкин? Что же, садись скорей!
– Ничего, та я и постою… – проговорила старуха взволнованным и дрожащим голосом.
– Садись! Посадите ее, ребята!
Но она никак не хотела сесть и только мочила подбородок в воде, поминутно кланяясь.
– Да ты кто такая? – спросил раздосадованный Грачев. – К моему имению, что ли, принадлежишь?
– Та как же? Ваша.
– Ну так приказываю тебе садиться! – сказал Грачов с таким комически-повелительным видом, что Тростников невольно рассмеялся. – Я твой барин!
При этом известии женщина испустила глухое мычание, в котором слышался не один испуг, но, казалось, а дикая радость, однако ж она не только не поспешила исполнить приказание своего барина, напротив, с невероятной быстротой прянула в сторону – и, став по возможности в безопасную позицию, принялась отпускать исступленные поклоны. Окунув несколько раз не только подбородок, но и всё лицо в воде, она стремительно кинулась к флигелю, производя страшное шлепанье, и закричала: «Дедушка! Дедушка! поди сюда, та ты не поведать; та что я тебе скажу! Сам барин приехал, барин!»
Старуха исчезла уже в дверях флигеля, а крики: «Дедушка! дедушка! барин!» – раздавались всё громче в громче.
– Держи к флигелю, – сказал Грачов.
Во флигеле показался огонек; дверь отворилась, и передний ботник с господами уперся носом в порог.
Странное зрелище представилось нашим приятелям.
При тусклом огоньке они увидели внутренность простой русской избы, с огромной печью, полатями и скамейками. Вплоть до самых скамеек в избе стояла вода; между порогом и противоположной ему скамейкой положена была доска, доставлявшая возможность попасть в избу сухим путем; вероятно, такое же сообщение устроено было вплоть до самой печи, откуда светился огонек и слышался шепот, смешанный с покрякиванием. Наконец послышалось явственно: «Господи Иисусе!» – потом громкое кряхтенье; старик медленно и тяжело спускался с печи. Долго «в был невидим; наконец сгорбленная фигура его с лучиной в руке показалась в глубине избы на скамье. Он тут отдохнул, поправил лучину и покряхтел.
Затем, придерживаясь одной рукой за стену, он добрался по скамье до доски, ведущей к порогу, и тихо-тихо начал двигаться по ней к нашим приятелям, держа лучину перед собою и позволяя им хорошо рассмотреть лицо свое, носившее признаки глубокой-глубокой старости. Старик был некогда высокого роста, но так страшно со» гнут, что стаи его держался почти перпендикулярно к доске, по которой он двигался и которая дрожала под ним, грозя каждую минуту подломиться; череп его был совершенно голый, и кругом его шел ободочек совершенно белых и слабых волос, столь правильный, что он казался бахромой, пришитой к голому черепу; глаза, лишенные ресниц, столь глубоко ввалились, что рассмотреть ни цвета, ни выражения их не было возможности; на нем были обрывки овчинного полушубка и синяя рубаха с расстегнутым воротом, не закрывавшая сильно ввалившейся груди, с резко обозначенными костями и мускулами; ноги были босы, и приподнявшиеся синие портки болтались на них, как на палках, при медленных движениях старика.
– Не ходи, старик, оставайся там, – сказал Грачов. – Всё равно, а то упадешь еще!
– Ничего, батюшка, дой-ду! – пробормотал старик, и его длинное, с явным трудом произнесенное «дой-ду!» глухо отозвалось в сердцах наших приятелей: как будто они сошли в могильный склеп и голос, отвечавший им, не принадлежал живому существу.
– Ох, устал! – проговорил старик, собираясь с духом. – Аль дошел? – сказал он, останавливаясь вплоть перед Грачевым, который поддержал его. – Не вижу… ох, плохо вижу! Еще как днем – ничего! А то вот от огня-то отвык – чай, уж с неделю не зажигали… А вот я пообгляжусь…
Старик говорил медленно и беспрестанно отдыхал, иногда на полуслове, как будто у него вдруг не хватало дыхания.
– Скажи, пожалуйста, старик, – сказал Грачов, – куда девался Рюмкин?
– Кто? Ефим-от Евсеич?
– Да. Я писал к нему, что буду сюда, приказывал всё приготовить, приезжаю – и его нет даже самого!
– Уехал, батюшка, уехал в город, ради твоей же милости: лодку доставать; думал, в ботнике, чай, не поедешь; да и человек твой пришел, вишь, пожитки, что ли, в городу оставил, – так за пожитками поехали. Вот теперь маненечко вижу, – сказал старик после долгой паузы, переменив лучину (у него был запас их под мышкой), и, подняв ее к лицу Грачова, пристально всматривался в него. – Вижу, вижу, – бормотал он, и едва приметная улыбка бродила на его ввалившихся губах. – Ох, устал!
И старик вдруг сел на доску и, спустив ноги в воду, тихо покрякивал, держа перед собой горящую лучину.
– И давно уехал Евсеич? – спросил Грачов.
– Да уж дней пять. Не знай, что долго нет. Видно, Ока задержала – всё, видишь, ветрено; поди, как бурлит теперь…
– Да у вас разлив, нечего сказать, удивляюсь, как вы и жить тут можете?
– А живем, – отвечал старик.
– И печки топить, кажется, нельзя, – заметил Тростников, разглядывая избу.
– Нельзя, батюшка, никак нельзя.
– Что ж вы едите?
– А испекли хлебца, пока можно было, вот и жуем. Мы и всё так, испечем побольше враз – да и полно, пока всего не сгложем, а то где часто печку топить? Оборони бог – барские хоромы спалить!
– Однако ж с твоими зубами глодать черствый хлеб, я думаю, не очень удобно?
– А ничего-с. Я привык. Быват, Евсеич-от иной раз По господским делам на неделю либо ден на десять уедет; Матренушка тоже уйдет – милостинки попрошать: дело сиротское! Уйдут, а хлебца оставят, спасибо; не забывают, нет, не забывают, спасибо, всегда оставят.
– И ты не боишься оставаться по целой неделе один?
– А чего мне бояться, – отвечал старик. – Лежу себе на печи да корочку-то и грызу и грызу, так день за днем, день за днем…
– А кто такая Матренушка живет с <тобой>? Не она ли нас встретила? – спросил Грачов. – Да вот и спряталась. Мы от нее слова не могли добиться.
– А сенная,родной, сенная…у твоей матушки служила! Барыня ее с собой с своей стороны привезла… А как барыня умерла – царство небесное! – все люди разбрелись, кто куда, по оброку, – барин уехал да и не бывал уж сюда, а она и осталась тут с той поры… Ей куда идти? До своей стороны далече, да и там у ней, слышь, никого близких сродников нет, вот и живет…
– Мать моя была полька, – пояснил Грачов Тростникову, – и умерла в молодых летах, вскоре после моего рождения.
– Да, да, бобылка, безродная, – бормотал старик, – словно как и я; вот при барском дворе и живет, – щец нам сварит либо кашки когда, хлебы поставит… Ну и живет.
– Да чего ж она нас испугалась? Мы не звери! – сказал Грачов.
– А кто ее знает? Знамо, дело девичье!
– Так она девица? И молода?
– А не стара еще, – отвечал старик. – Молодая.
– А каких лет, однако ж? – спросил Тростников.
– А чай не боле как ей лет шестьдесят будет!
Приятели переглянулись с невольной улыбкой, и Тростников молча показал Грачову дряблое, сморщенное лицо, украдкой выглядывавшее на них из-за печки. Старушка имела, впрочем, добрые, привлекательные черты, озаренные теперь невыразимым умилением.
– А ты, старик, давно при барском дворе живешь? – спросил Грачов.
– Давно, – отвечал старик. – Не знать, как давно. Да с той самой поры, как внук помер. А то я со внуком жил!
– А давно внук помер?
– Да уж годов пятьдесят будет. Давно! Поди, и косточки сгнили, а я вот всё живу! Были и сыновья, и внуки, и жена была – всё господь прибрал! – задумчиво прибавил старик.
– А давно жена померла?
– А годов сто с лишним, чай, будет, – отвечал старик.
Приятели наши пришли в неописанное изумление и, естественно, предложили старику вопрос: сколько же, наконец, лет ему самому? Оказалось, что старику сто сорок лет. Осененные долгим и печальным размышлением, которое неизбежно овладевает каждым, на чью голову, как гром, неожиданно падает подобное известие, приятели наши с четверть часа простояли молча, упражняя свое зрение в тщательном созерцании голого черепа, впалой груди и болтавшихся в воде ног старика.
Казалось, самое время в образе его находилось теперь перед ними, и при трепетном свете лучины Тростников уже читал на изрытом морщинами челе старика многозначительвое слово: «Вопрошай!»
Однако ж он не вдавался ни в какие вопросы, может быть отложив их до другого времени, и только вздохнул, а Грачов сказал:
– Сто сорок лет! Недаром шестидесятилетняя девка кажется ему молоденькой. Я и не знал, что в моем имении водятся такие редкости! Вот не говорил ли я, что у нас воздух целительный: такая долговечность, шутка ли?..
– Нечего рассуждать о долговечности, а вот думай-ка в том, как мы ночь проведем! – таким грозным восклицанием осадил Тростников своего приятеля, заметив, что он начинает седлать своего любимого конька.
Стали думать и решили, что лучшее адаже единственное средство ехать в Софоново, где, как известно, имеется барский дом, не облитый водою и не занятый никакими жильцами, так как владелец его проживал в городе. Грачов решился наутро же писать к этому помещику и просить у него дозволения пожить в его доме, пока вода не покинет его собственных владений, Итак, простившись со стариком, который поплелся на печь «грызть свой хлебец», по его собственному выражению, и послав заочное «прощай» доброй молодице,которой застенчивость простиралась до такой степени, что она так и не решилась показаться, путешественники снова двинулись в путь. Они плыли около часа среди глубокой темноты, решительно не позволявшей производить никаких наблюдений, и наконец ступили на твердую землю.
В доме господина <Стычинского>, владельца Сафонова, нашли они кой-какие постели и, напившись чаю, погрузились в глубокий сон.







