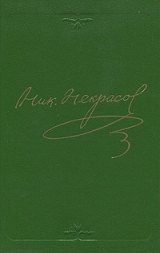
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
– Нешто! – пробормотал мужик.
– Да что ты сам-то не выпьешь?
– Было бы на что, – сердито сказал мужик и пошел в другую комнату.
– Притворяется! – сказал, рассуждая сам с собою, небритый, господин. – Притворяется мошенник. Все они такие – знаю я их! У всякого одна песня: барин дерет, а барин хорош, так управляющий дерет; становой дерет, барщина велика, урожаи плохи, лесу не отпускают – избенка развалилась – а пораскопай-ка, так у иного серого армяка побольше денег, чем у нашего брата! Да!
Он утвердительно качнул головой и махнул полой сюртука, в котором тоже утвердительно откликнулись ему несколько медных грошей; затем он с поспешностью выпил одну и потом другую рюмку настойки и запел: «А настоечка тройная, а настоечка травная – удивительная!»
Мужик воротился с чернильницей.
– Да у меня, брат, чернилы-то есть, напрасно беспокоился, – сказал небритый господин. – Не поверю, честью клянусь, не поверю, – продолжал он, – чтоб у тебя нынешний год были заработки плохи… Ты, брат, видно, крепыш! Пожаров зимой было вволю, да к тому ж что ни улица – новый дом строится, машинища етажей в пять (тут он, усиливаясь представить огромные размеры домов, привел в сильное движение полы своего сюртука)… Цены важные… дни стояли теплые, без дождей… что ты мне ни говори, не поверю!..
Он налил себе рюмку и выпил…
– Для подрядчиков хорошо, – отвечал озадаченный мужик.
– А ты разве в задатке? – спросил тот, стараясь разгрызть крошечный в уголь высушенный сухарик из черного хлеба, какие подаются в наших трактирах для закуски.
– В задатке, – отвечал мужик.
Большая часть крестьян, приходящих на работу в Петербург, обыкновенно нуждаясь перед отправлением из дому в деньгах, отдают свои паспорта так называемым подрядчикам, получая от них на таком условии несколько денег вперед, что называется: пойти в задаток. Задаток простирается обыкновенно от 70 до 100 рубл. ассигнациями, и мужик, получивший его, поступает на лето в распоряжение подрядчика, который, сняв большую работу, поручает ее исполнение таким образом набранной артели, деятельно понуждая рабочих своих не лениться принятыми в таких случаях мерами и рассчитываясь с рабочими в конце лета – по своему усмотрению.
– А зачем было идти в задаток? – сказал небритый.
– Зачем! – повторил мужик. – Пяти десятков и не хватало… только пяти десятков, да, вишь ты, где взять, коли нет…
– Вот жаль, ты тогда ко мне не пришел, я бы тебе дал, – сказал небритый господин и расхохотался.
– Хотел уж корову продать, – продолжал мужик, погружаясь более и более в тяжкое раздумье, – да на грех Жена забеременела. «Что ты, господь с тобою, – говорит, – уйдешь, а я что тут с ребенком без коровы стану делать, – Мне, – говорит, – ребенка-то не уморить стать, – вырастет – барину слуга будет!..» А что лето, так точно лето было важное… Эх! какое лето было! – продолжал мужик, взяв себя под бороду и покачнувшись на своем месте от волнения. – Вот наши сказывали – только выйдешь на угол [4]4
Угломназывается место на Садовой, куда собираются рабочие, желающие иметь работу.
[Закрыть], отъемом отнимают, – три, три с полтиной, четыре, за четыре рубля переваливало!.. Сколько домов строится! Казенных строений тьма-тьмущая – на отбой берут, не Стоят за деньгами… а на казенной работе, окромя денег, медали, слышь ты, дадут… Вот намедни бухаловский Прохор сказывал: «Мне, – говорит, – медаль выходит…» Вот оно как! Сто двадцать рабочих ден, сочти-тко, хоть по три рубля на круг… Ну тут оно, вестимо, хватило бы и оброк барину заплатить, и гостинцу снести, и казенну повинность справить, да себе-то осталось бы. А вот как наше-то дело, – кому рубль, а нам гривна! Вот намедни стали дуванить [5]5
Дуванить– делить общую заработку, или, вернее, ту часть заработки, которую подрядчик, не обделив себя, предоставит в пользу рабочих.
[Закрыть]; гуторили, гуторили… «По рублю семи гривен в день на круг, ребята, выходит», – говорит подрядчик. Вот те и на! Спорить, что ль, с ним станешь… Заспоришь, так, пожалуй, и ни с чем отпустит. Вон у нас молодцы из другой артели пришли было к подрядчику да как гаркнут всей гурьбой: «Не хотим-ста такого дувану, давай настоящий!» – так, поди ты, что вышло. «А! вы, – говорит, – бунтовать!» – да и послал за фартальным… Да тут еще вычеты пойдут, – про должал мужик, – прогульные дни – за каждый вдвое. «Уж такое заведение, – говорит, – зачем прогуливал?» Возьмешь на лаптишки да на баню коли – а глядь, в заборе-то и невесть что… «Вот гляди, – говорит, – в книге записано», а кто у него там знает, что в книге. Вестимо, он грамотный, так и записывает. Да как задаток-то еще вычтет, что давно уж и в помине, чай, и у барина-то его нету, – и останется тебе много полсотни. Вот тут и плати барину, справляй повинность, вот тут и пей поди!..
Здесь мужик судорожно схватил графин, налил рюмку, выпил, вслед за ней налил и выпил другую и сказал:
– Вишь, какая рюмка-то крохотна!..
– Я говорил, притворяется мошенник! – воскликнул небритый господин, опьяневший уже до того, что не считал нужным скрывать своих мыслей. – Видишь, не на что выпить!
– Милый! – закричал мужик, позвенев рюмкой об пустой графин. – Подай-ка еще графинчик да рюмку поболе!..
Они стали пить, уже не считаясь рюмками, и, когда осушили другой графинчик, мужик вдруг вспомнил о письме.
Небритый господин с сожалением достал руки из карманов, взял у мужика бумагу и приготовился писать.
– С чего начинать? – спросил он.
– Вестимо, с поклонов, – отвечал мужик.
Между тем Агаша с Ванюхой поместились за особенный стол. Скоро принесли им два белых чайника, один большой, пузатый, с длинным и загнутым носом, другой маленький, две белые чашки, относившиеся к большому пузатому чайнику, как только что оперившиеся гусята к длинношейному старому гусю, и одну потертую и очень тощую серебряную ложечку. Такой уж обычай не только в харчевнях, но и во всех русских трактирах, что, сколько бы человек ни пришло пить чай, подают одну на всех чайную ложечку. Если взять в расчет с одной стороны то, что при отсутствии малейшей брезгливости в русском человеке одной ложечкой даже десятерым очень легко обойтись, а с другой то, что при большем количестве ложечек предстояла опасность запутаться в счете, нельзя не сознаться, что обычай благоразумный. Если в наших ресторанах и кондитерских на Невском проспекте то и знай пропадают листы газет и книжки журналов, то хозяину бедной харчевни позволительно настолько любить свои ложечки, чтоб принимать к сбережению их свои меры.
Думая утешить Агашу, Ванюха сам почти не пил чаю, а беспрестанно наливал ей и просил ее пить. Себе же спросил водки. Но Агаша пила неохотно. Она продолжала расспрашивать брата о смерти матери. Малейшая подробность ее интересовала, и нередко навертывались у нее на глазах слезы. Она подробно расспросила, в чем положили покойницу и в какой стороне кладбища похоронили ее, и есть ли крест или другой какой признак, по которому можно было бы узнать ее могилу. Ванюха рассказывал как умел, переплетая время от времени рассказ свой мыслью, что она теперь в царстве небесном и что ей теперь хорошо, – которая, казалось, его весьма утешала. Но Агаше она не казалась столько утешительною.
– Бог не попустит злодею, погубившему нашу матушку! – сказала она с какою-то торжественностию, выслушав рассказ брата и отирая слезы. – Он заступится за нее.
– Что ты, Агаша! – прервал ее брат. – Какому злодею?.. Ведь злодей-то… ведь уж коли пошло на правду (поправился он), так погубил-то ее наш родной отец, а коли же отец да злодей! Мы, – продолжал извозчик, которому две-три рюмки водки значительно развязали язык, – мы должны молиться за родителей, – они на свет нас произвели, жисть нам даровали… Вот оно как, Агаша!
Агаша молчала.
Ванюха выпил еще рюмку водки и сказал:
– Не хошь ли выпить маненько? Ты, чай, пивала.
– Нет.
– Будто! А вот у нас на селе девки так поди как лакомы до вина. И тоись пряника не надо, коли вино есть; Вестимо, парни приучили. Иной шестнадцати годов нету, а не хуже нашего брата. Выпей маненько, оно пользительно да и куражу придает.
Агаша выпила.
В то время из другой комнаты вышел запыхавшийся от трепака, красный и сияющий счастьем дворовый человек Егор Спиночка и, как человек, которому до всего есть дело, нагнулся к плечу писавшего небритого господина и, посмотрев с видом знатока, сказал:
– Писано, переписано, в село Борисово, из села Помела до деревни Веникова! ха! ха!
– Чего не видал? – вскричал небритый господин с каким-то неумеренным гневом, вскочив и грозно сверкая очами…
– Ну а ты что окрысился-то, карманная выгрузка!.. Посмотреть нельзя!
– Нельзя, – величественно отвечал небритый, с яростию упираясь в карманы, куда он успел уже поместить свои руки…
– Ну ты у меня не больно – нельзя! Я, брат, как раз и в Рожественскую часть, [6]6
Так в сильных случаях называют у нас лицо, которое имеет у русского народа еще название Харьковской губернии.Волосной правление – волосы.
[Закрыть]– у меня недолго! А не то в волосное правление!
– Ударь-ка! Ударь! – закричал небритый господия, подставляя лицо дворовому человеку и весь называясь на оплеуху.
– Ну, ударь!
Здесь нужно заметить, что небритый господин, кроме писанья писем и разных ябед, имел еще другой весьма важный промысел: коллежский регистратор, выгнанный из службы за пьянство и воровство, он постоянно носил при себе замаранный (и в буквальном и переносном смысле) аттестат свой; навязывался на ссору и, получив оплеуху, тотчас предъявлял свои права на благородство, крича: «Я благородный человек! Я чиновник! Как ты смел бить чиновника», – в подтверждение чего вытаскивал свой аттестат. Тут он требовал что-нибудь за оскорбление чести, а в противном случае набирал свидетелей и грозил повести дело законным порядком или формою суда, как он в таких случаях выражался. «Я последнюю рубашку продам, я голодать буду по неделе, а чести своей обижать всякому не позволю!» – кричал он обыкновенно в таких случаях, грозно размахивая руками, вложенными в карманы сюртука, задевая полами по носам собравшуюся вокруг него толпу. Знал ли, не знал ли дворовый человек такую утонченную щекотливость небритого господина насчет чести, он, однако ж, не рассудил идти до конца и отошел, ограничившись восклицанием:
– Не стоит с дрянью связываться-то!
– То-то! – сказал с неудовольствием небритый господин. – На словах-то куда горяч, а на деле… Вот уж дрянь так подлинно дрянь!
Он пустил вслед ему еще несколько крепких слов, но, потеряв надежду, чтоб дворовый человек воротился, он презрительно посмотрел вслед ему, с сожалением сел на прежнее место и раздавил пузырек с чернилами, хранившийся у него в заднем кармане.
А дворовый человек отправился к тому столу, где сидела Агаша с братом, и, увидев Агашу, подкатился к ней.
– А, сударыня! Из которого села… Давно ли изволили к нам пожаловать?.. Ишь, какая кралечка!
И он хотел прикоснуться к ее подбородку.
Но Агаша оттолкнула его без особенной деликатности и так ловко, что он вмиг очутился от нее шагах в трех, едва удержавшись на ногах.
– Молодец девка! – восторженно сказал какой-то длинный чахоточный парень в мещанской чуйке, уже давно молчаливо выглядывавший из дверей.
– Молодец! – повторило с хохотом еще несколько голосов.
– Ты, брат, у меня ее не тронь, – начал Ванюха, дружески обращаясь к дворовому человеку, вновь подскочившему к Агаше, но уже не так близко. – Она у меня, вишь ты, в горях: мать умерла. А мать-то какая была, тоись добрейшая, царство ей небесное… Так вот она, видишь ты, и грустит – у нее, вишь, слезы еще не просохли… Уж как она, сердешная, плакала, как плакала! Вестимо, теперь сирота, ни отца ни матери.
– Молчи, Ваня, – шепнула ему Агаша.
– Да чего ж тут молчать? Нешто я не дело говорю, – отвечал извозчик, сделавшийся необыкновенно словоохотен, и продолжал, положив руку на плечо дворового человека: – Так вот оно, брат, что! Плохая жисть-то ее, сердешной: живет у тетки, а тетка такая, что хуже чужого. Совсем смучила девку работой, да мало того: вишь ты, осерчала намедни, да к фартальному…
– Пойдем, – сказала Агаша, судорожно дернув брата за рукав. – Мне домой пора.
– Посидим, – возразил он, не трогаясь с места и продолжая рассказывать все малейшие подробности бедствий, перенесенных сестрою, с таким жаром и чувством, что слезы несколько раз навертывались у него на глаза. По ругательствам и проклятьям, которые он посылал злой тетке каждый раз, как приходилось произносить ее имя, тоже видно было, что он любил свою сестру.
Здесь нужно заметить, что рассказ извозчика обратил в особености внимание оборванного старика, который сидел в дальнем углу и пил одиноко, вздыхая, покрякивая и по временам разговаривая сам с собою. При первых подробностях старик соскочил и подошел ближе к рассказчику с какою-то необыкновенною живостию, но тотчас воротился на прежнее место и уже не проронил ни одного слова…
Наконец извозчик замолчал.
– Бедняжка! – сказал дворовый человек, приближаясь к Агаше. – Ни отца ни матери. Ну полно! Не тужи, красавица! Много плакать станешь – глаза опухнут, а у тебя – вишь ты, какие глаза-то!
И он обнаружил покушение прикоснуться к ней.
Но здесь длинный чахоточный парень, всё продолжавший смотреть на Агашу с своим уныло-застенчивым видом и не проронивший ни одного слова из рассказа извозчика, вдруг сделал шаг вперед и закричал:
– Говорят те, не замай!
Вмешательство его было так неожиданно и голос так строг и решителен, что глаза всех присутствующих на минуту встретились на нем; дворовый человек невольно отшатнулся, но тотчас, опомнившись, вскричал:
– Говорят, что кур доят, а я так думаю, щупают. Тебе что? – продолжал он, очень близко подскочив к длинному парню. – Аль скула чешется?
Парень нерешительно отошел на прежнее место.
Агаша опять стала звать брата домой. Но дворовый человек спросил пару пива, и Ванюха не мог никак отказаться выпить с новым своим благоприятелем.
Егор Харитоныч сел между сестрой и братом и, потешая Ванюху разными прибаутками да потчуя пивом, всё подвигался к Агаше и без церемонии положил ей руку на шею.
– Поди прочь! – сказала Агаша, оттолкнув его, и в то же время длинный чахоточный парень, выскочив вперед, схватил за ворот дворового человека и принялся колотить. Он колотил его молча и с жаром. В первую минуту никому не пришло в голову разнимать их: зрелище было слишком интересно и не могло не поглотить всего внимания; даже буфетчик забыл, что у него не далее как на прошлой неделе замертво увезли в больницу одного канцелярского сторожа, за что от недельной выручки не осталось ему ровно ни гроша, и, стоя в дверях, только одним глазом посматривал искоса на покинутый буфет, совершенно отдавшись, <подобно> другим, интересному зрелищу. Наконец два дюжие лакея, прибежавшие из другой комнаты, спохватились и, освободив собрата, в свою очередь накинулись на длинного парня… Агаша опять стала звать брата домой…
– А и то, – отвечал Ванюха, – уйти от беды; пожалуй, смертоубийство случится, в свидетели потянут.
И, пробравшись в другую комнату, он подошел к буфету, заворотив полу, вынул большой кожаный кошелек, из него вынул другой поменьше, достал бумажку, развернул ее и начал расплачиваться.
– Дай двугривенничек, – раздался у него жалобный голос за спиною.
Ванюха обернулся и увидел маленького оборванного и жалкого старика, того самого, который пил одиноко в темном углу. Старик, пивший одиноко в темном углу, вышел вслед за ним и тоже подошел к буфету.
– Дай двугривенничек, – сказал он, жадно смотря на несколько мелких монет, которые высыпал извозчик на руку из своего большого кожаного кошелька.
– Что? – сказал извозчик. – Двугривенничек! Вишь, у тебя губа-то не дура! Да я что за богач, что у меня двугривеннички про всякого! Было бы что хозяину отдать, вот приеду домой, выручку спросит.
– А ты хозяина-то надуй, – сказал старик, – скажи, ничего, мол, не выручил, уж такой день незадачный вышел!
– И впрямь, – отвечал Ванюха. – Он вот так и поверит – держи карман. Эх ты, старина, старина, до седых волос дожил, а ума не нажил. Ну, слыхано ли дело: пристал – дай двугривенный… Что я тебе, сват, что ли, али полоумный какой, стану я двугривенные всякому раздавать.
– Нужно, – сказал старик.
– А на что? Поди, чай, пропить? Вот вишь ты: тебе нужно, – отвечал словоохотливый извозчик, – и мне нужно, третьему нужно – всяк свою копейку про то и бережет, что, вишь ты, всякому нужно. А тебе больно нужно? – спросил он, продолжая рисоваться перед своим просителем.
– Дай, – жалобным голосом повторил старик, озаренный надеждой.
– А вот сейчас, – отвечал извозчик и, приняв сдачу, спрятал деньги в карман и пошел с Агашей вон из харчевни.
Старик пошел вслед за ними.
– Дай двугривенничек! – сказал он, когда они вышли на улицу.
– Поди ты, – отвечал раздосадованный извозчик, – вишь, пристал с ножом к горлу, нет у меня двугривенных про всякого мазурика!
– Не ругайся, – сказал старик, – ей-ей, не ругайся, Ванюха, не знаешь, кого обругаешь, а ты вот лучше двугривенничек-то дай, не жалей, право-тко, не жалей, такому человеку дашь, что не жаль… А хозяину так и скажи! день, мол, не задался. А меня одолжи: нужда, брат, я, брат, в другой раз сам пригожусь… А ты для меня не жалей… Тихому человеку дашь…
– А вот тебе! – сказал Ванюха, садясь в сани и хлестнув старика кнутом.
– Вот те раз, – воскликнул старик, хватаясь за лоб, – родного отца как смазал! Я, брат Ванюха, – продолжал он, подходя ближе к саням, – вишь, отец тебе, твой родной отец <…>
1844–1847
Сургучов *
Осенью часу в пятом в одну из лучших петербургских рестораций вошел чиновник (я положительно говорю – чиновник, потому что не боюсь ошибиться: из десяти человек, встреченных вами на петербургских улицах, девять непременно чиновники) в бекеше с бобром, внушавшим предположение, что если владелец его не обладал пятиэтажным домом в Мещанской или в Гороховой, то уж наверно занимал одно из тех мест, которые у нас называются теплыми и которыми Русь, несмотря на географическое свое положение, говорят, очень богата. Но не то говорили глаза и вообще вся фигура вошедшего господина.
Не было в нем и следа той немножко педантической, но совершенно соответствующей чину и званию торжественности, которая постоянно присутствует на лицах крупных чиновников без всякого с их стороны усилия и даже часто без их ведома; не было в нем даже ничего такого, что могло бы внушить при первом взгляде размышление о благовоспитанности и благонамеренности, тогда как всякому известно, что при одном взгляде в лицо действительного председателя палаты или директора департамента не только исполняешься весь освежающих мыслей, но тотчас чувствуешь себя благовоспитаннее и благонамереннее.
Молодой коллежский регистратор, составивший о себе даже в двух посторонних департаментах опасную славу либерала ловким передразниванием походки некоторых значительных лиц и которому товарищи говорят частенько: «Уж смотри ты! Уж полетишь ты когда-нибудь… полетишь! Да и нас-то погубишь! С тобой просто страшно ходить!..», – этот коллежский регистратор и не подумал бы почтительно переждать, пока он пройдет мимо его, а пустил бы ему гримасу в самое лицо да и пошел бы своей обыкновенной походкой.
Голову держал он вниз, не стараясь нисколько преодолеть свойственной чиновникам сутулости, шагал нерешительно, встречному тотчас давал дорогу, не выдерживал ничьего взгляда, хотя бы то был взгляд трактирного прислужника, но тотчас опускал глаза и даже как-то странно конфузился, очевидно, чувствовал себя неловко. Еще более убедились бы вы, что господин в бекеше не принадлежал к числу крупных чиновников, взглянув ему попристальнее в глаза. Глаза у него были странно устроены: смотря в них, можно было подумать, что он не имел даже и первого чина, хотя нам достоверно известно, что он уже был представлен в коллежские секретари. Вечно смотрели они исподлобья; робость вечно боролась в них с подозрительностию.
Не говорило в пользу значительности рябоватого господина и то, что, вошед в залу, посредине которой протягивался стол, загроможденный приборами и обставленный стульями, он не окинул ее с презрительным невниманием, но осмотрелся медленно, взором, выражавшим любопытство и какое-то робкое опасение. Комната была почти пуста; только за другим концом стола сидел офицер путей сообщения, выписывавший стихи из «Репертуара русского театра» карандашом, занятым у буфетки, да у дверей в бильярдную, откуда слышался стук шаров, стояло несколько зрителей. Рябоватый господин на минуту занялся чтением небольшого объявления, висевшего на стене в черной рамке, которого он, впрочем, не дочитал, ибо имел уже случай не раз читать его и даже удивляться, почему во всех ресторациях обменено именно ни больше ни меньше как три шляпы. Потом он, мимоходом заглянув в зеркало, направил шаги свои в комнату направо.
Как скоро он вошел туда и, осмотревшись всё с тою же подозрительною боязливостию, увидел, что в комнате никого не было, лицо его просияло; он даже так улыбнулся, как будто пришло ему в мысль что-нибудь забавное и приятное; движения его сделались развязнее, походка увереннее. Полюбовавшись собой перед зеркалом и даже надев на минуту и шляпу, чтоб видеть, каков эффект в шляпе, он бережно снял бекеш и, перевесив его через стул, нежно прошел рукою по серебристой шерсти воротника; затем он принялся снимать высокие отороченные черным бархатом калоши, что исполнил не без труда и существующих на такие случаи в русском языке выразительных междометий, потому что калоши были новые и тащили вместе с собой с ног сапоги; сняв калоши, он снова подошел к зеркалу и посмотрел, каков эффект в сюртуке; эффект был небольшой, несмотря на удивительный, художественно сшитый сюртук; но так как чиновник наш уже к себе присмотрелся и не замечал ни сутулости, ни вообще угловатости своих форм, то он остался доволен не только сюртуком, но и вообще всей своей фигурой, так по крайней мере можно было заключить. Это еще более усилило в нем доброе расположение духа, и, усевшись на мягкий диван с видом человека, расположившегося хорошо пообедать, он весело и резко закричал:
– Человек!
Но он почему-то сам испугался неумеренной живости своего восклицания, и когда вошел человек, он сказал уже голосом гораздо более умеренным, даже несколько тихим:
– Принеси карту, да затворяй, братец, двери.
Человек не затворил дверей, но опрометью бросился вон и через минуту вернулся с картой, исписанной названьями различных кушаньев на французском языке.
Рассмотрение карты повергло нашего чиновника в глубокое размышление и даже в некоторое замешательство. Может быть, его затруднил выбор обеда; или, может быть, он не знал французского языка и стыдился признаться перед слугою в своем невежестве, приказав принести карт<оч>ку русскую, – как бы то ни было, но он несколько минут вертел карту в руках в нерешительности и наконец, явно отдаваясь на волю божью, молча уткнул пальцем в некоторые строки карты.
– Сейчас! – сказал человек и готов был исчезнуть, – но чиновник остановил его вопросом:
– Ну что же ты мне дашь-то? – спросил он.
– Суп-с.
– Какой суп?
– Суп брюсе, – отвечал человек, стараясь счесть буквы дикого ему французского слова и вместе желая дать удовлетворительный ответ.
Потеряв охоту расспрашивать далее, чиновник наш сказал коротко: «Ну давай!», и когда уже человек бросился вон, он опять приостановил его, закричав:
– Да принеси мне, братец, «Северную пчелу» и «Библиотеку для чтения»,
Отдав это приказание, рябой господин сел, вытянул свои длинные ноги, причем с явным удовольствием полюбовался на красоту своих ног (<с>казать мимоходом, не очень красивых), обтянутых в растягивающееся трико, и предался приятным мечтаниям человека, расположившегося хорошо пообедать.
Вошел слуга и подал ему огромный лист, прозванный русским «Journal de Debate».
– А «Северная пчела»? – спросил рябой господин.
– «Пчелы» нет, – отвечал слуга.
– Отчего же нет?
– Украли-с.
– А «Библиотека для чтения»?
– Тоже нет-с. Украли-с.
– Чего ни спроси – всё у вас украли. Кто же это у вас крадет?
– Господа-с…
– А какие журналы больше крадут? – спросил рябой господин.
– Да все-с… «Журнал Деба», «Северную», «Репертуар».
– А какие больше?
– «Северную пчелу», – отвечал слуга,
– А еще?
– «Библиотеку для чтения».
– Принеси мне «Репертуар».
– Занят-с.
Слуга хотел уйти, но рябой господин воротил его вопросом:
– А «Репертуар» крадут?
– Крадут-с…
Слуга ушел. Заключив из его показаний, что «Северная пчела» и «Репертуар» должны быть хорошие журналы, и пожалев, что их-то именно ему и не удалось почитать, рябой господин принялся за «Полицейскую газету». Он, как многие из посетителей петербургских трактиров, любил чтение этой газеты и на одном вечере, где был один литератор и где по этому случаю завязался разговор о преимуществе «Севе<рной> пчелы» перед «Полицейской газетой», имел даже дух довольно резко заметить, что лучше «Полицейской» он не знает русской газеты.
Продается пара отличных шведокза сходную цену; благородная девица из иностранок желает иметь место при детях или компанионки; продается мерин сивой масти четырех лет; отпускается в услужение дворовый человен, видный собою; пропал легавый кобель и пр….
В размышлениях о сивом мерине четырех лет, о голландской карете, о кобеле, за которого дано будет 25 р. сер. награждения, о благородной девице из иностранок, знающей немецкий, французский и русский язык и желающей иметь место компанионки или гувернант<ки> при детях, согласной и на отъезд, о дворо<во>м человеке, видном собою, которого предлагали в услужение, рябой господин и не видел, как промелькнул тот значительный промежуток времени, который отделяет в русских ресторациях приказание от его выполнения. Слуга снял крышку с миски, откуда тотчас распространился ароматический пар, и сказал:
– Готово-с.
Увидев густой благовонный пар, выходивший из открытой слугою миски, рябой господин сказал: «А!»
Рябой господин принялся есть. Он съел с большим аппетитом суп.
Но только что он нагнул бутылку, в двери послышался шорох, заставивший его оглянуться. Не обернись он, заглянувшая фигу<ра>, вероятно, воротилась бы в общую комнату, ибо обнаружила уже явное к тому намерение… Но он обернулся, и заглянувшая фигура остановилась в дверях неподвижно.
Вошедший господин с первого раза поражал ловкостью, светскостью, утонченным щегольство<м>. Но кто бы вгляделся в его одежду, тот тотчас увидел бы, что оно было щегольство поддельное, которое могло только обмануть при вечернем освещении. В этом отношении он похож был на декорацию, поразительную издали тщательностию отделки, но вблизи ничего не представляющую, кроме ярких, грубо наляпанных красок и безжизненных, плоских фигур.
Вглядевшись в шарф, так небрежно обвитый вокруг его шеи, вы заметили бы две-три белесоватые полоски, которые дали бы вам знать, что, прежде чем этот шарф получил свою глянцевитость, по нем, может быть, не в первый рае прошел раскаленный утюг; что шляпа, на тулье которой прочли вы карточки с надписью «Циммерман», была уже на два рубли ассигнациями в переделке в Гостином дворе у шапошного мастера Крундышова; что по воротнику сюртука, может быть, сам же его владелец прошел несколько раз зубами, прежде чем он получил способность откидываться овально с такою небрежностию; сукно сюртука… если б дело было не вечером, не при свечах, то вы, может быть, заметили бы, что для материала, из которого сделан сюртук, нужно прибрать другое название; некоторые части его, особенно рукава, могли бы совершенно заменить транспоран; может быть, заметили бы, что и все швы, совсем побелевшие, иные пятнышки, не поддававшиеся никаким могущественным усилиям пятновыводчиков, закрашены чернилами. Таковы же были светскость и ловкость молодого человека; опытный глаз также легко отличил бы в нем человека дурного тона, претендующего на хороший тон; также мы угадали в нем франта, щеголяющего ворочаным сюртуком и переделанной шляпой.
Он был выше среднего роста, хорошо сложен и недурен собой. Он любил рисоваться, старался обнаруживать утонченную непринужденность, но всё это было натянуто, неграциозно, чиновнически. Всё это могло поразить только его собратьев – мелких чиновников.
Он пригнул голову направо и осмотрел нашего чиновника справа, потом он перегнулся налево и осмотрел его слева. Всё, казалось, возбуждало его удивление: и неловко повязанный, несколько безвкусный, но дорогой шарф, и только что с иголочки сюртучок, который как-то не шел к неуклюжей фигуре своего хозяина, и его изысканная прическа (чиновник наш был завит). Он даже нагнулся и взглянул на сапоги нашего чиновника, и сапоги, казалось, довершили его удивление (они были новые и сияли как жар).
– Наследство, что ли, ты получил, братец? – наконец он спросил его с изумлением и, не дож<ид>аясь ответа, продолжал:– Хорошо, хорошо, братец. Это очень хорошо, что ты употребляешь деньги как следует. Только, братец, надо тебя немножко воспитать… Этот шарф, может, он очень хорош, только светские люди таких шарфов не носят: пестро! Как раз прослывешь, моншер, человеком дурного тона. Вот сюртук так хорош: только ты совсем не умеешь его носить, моншер, надо, чтоб во всем был шик, чтобы всё было небрежно, свободно, вот так (и он откидывал лацканы и воротник сюртука на бледном и неподвижном нашем герое). Жилет тоже хорош, только что за портной делал тебе, братец? Совсем почти белье не видать… Надо, чтоб было больше белья, моншер, больше белья! главное дело, больше белья; я, ты знаешь, знаком-таки со многими аристократами, можно сказать, да и сам умею-таки одеваться, ты уж меня послушай. Я тебя в год так поставлю… Что же ты не ешь супу, братец? Славный, должно быть, суп! Вот за то я тебя люблю, что при деньгах не пошел куда-нибудь… У тебя, братец, наклонности благородные, аристократические… А! а! и шампанское!.. браво! браво! моншер! Теперь я вижу, что ты умеешь жить!
– Это кислые щи, – сказал чиновник наш едва внятным, дрожащим голосом.
– Кислые щи! Нехорошо, моншер! Порядочные люди кислых щей не пьют! Фи! Я удивляюсь даже, как тебе дали кислых щей в такой ресторации. Стыдно, кажется, и у человека спросить… «Дай, братец, мне кислых щей!» Ха! ха! Ведь кислые щи продают у харчевен на столиках много… Пей, моншер, лимонад газов. При твоем состоянии… А много ли ты наследства-то получил?
– Я не получал никакого наследства.
– Как! а сюртук! а жилет! а шарф! а сапоги! а обед! Нет, моншер, я ведь знаю: таких вещей на семьсот рублей жалованья иметь нельзя…
– Прообедать пять рублей раз в месяц я могу и при моем жалованье, а платье я взял надеть у одного знакомого, даже почти родственника, который на днях приехал в остановился у меня…
– И сапоги? – спросил Побегушкин, которому, казалось, особенно нравились сапоги нашего чиновника, потому что он не сводил с них глаз.
– Нет, сапоги я сам заказывал.
– И много взяли с тебя?
Чиновник наш, казалось, несколько затруднился, но, подумав, он отвечал:







