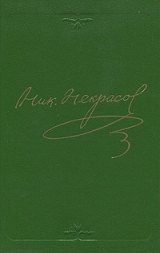
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
И он плотней завернулся в свою легкую шинель и сел снова на лесенку.
– Пойдем! – шепнул молодой нищий старому. Но старик не трогался с места.
– Озяб? – спросил он.
– Озяб.
– Так что ж ты уселся тут?.. Не лето, брат… Чем глубже ночь, то холодней будет… Ночевать негде, что ли?
Во всяком другом случае герой наш, верно, распространился бы с той высокой и гордой иронией, к которой столько был способен, об удобствах и приятностях ночлега на улице под открытым небом, где вольно дышится во всю грудь и сладок сон, навеваемый пронзительным гуденьем осеннего ветра и охраняемый добрыми светилами ночными. Но теперь, когда холод сковал ему даже самый язык, он мог отвечать только:
– Ночую и здесь.
– Пойдем! – шепнул опять молодой нищий, потянув старика за рукав. Но тот рассердился.
– Пойдем! пойдем! – возразил он. – Небось, как тебя полуживого вынимали из сугроба, никто не кричал: пойдем! Бросить бы тебя, подлеца! Замерз бы, как крыса… А вот здесь, как надо другому помочь, – так пойдем!
Услышав, что нищий хочет ему помочь, герой наш горько усмехнулся.
– Плохой ночлег на улице, – продолжал старик, обращаясь к нему. – Слышь, как ветерок-от гудит – ветерок-то с моря: проберет хоть кого… Вишь, ты как дрожишь… До утра так окостенеешь, что тебя штофом пеннику не справишь… Пойдем к нам… у нас не больно красиво и просторно, зато тепло… переночуешь, а там куда хочешь ступай себе… А?
– Мне нечем заплатить вам за ночлег, – отвечал наш герой.
– Не о плате речь! Какая нам с тебя плата! Вишь, ты весь дрожишь как осиновый лист, и лица на тебе нет, а туда же, спесь. С богатым спесивься – богатый скорей тебя осмеет и куском попрекнет. А мы сами, брат, пробовали всего; наш кусок в горле не станет. Толком тебе говорю; нам тебя что пустить на ночь, что не пустить, один расчет! ни убытку, ни прибыли! У нас квартера большая на счет всей артели. А стыдно тебе ночевать с нами, пожалуй и особую комнату дадим наверху, – она у нас пустая стоит. Живи сколько хочешь. Только холодна, окаянная.
– Хорошо, я иду, – сказал наш герой голосом человека, решающегося на великую жертву.
Пошли…
Государь ты наш, государь, Сидор Карпович, —
А много ли тебе от роду лет? и пр.
Знаете ли вы, где укрываются на ночь от бурь и моровое те бледные страдальческие тени, в лохмотьях, с сухими желтыми физиономиями, с вечно приветной улыбкой на лице, с вечной просьбой на языке, с вечно протянутою рукою, которые днем на всех перекрестках города стерегут вашу благотворительность? Они разделяются на множество партий, из которых каждая имеет свои обычаи, но нам, к несчастию, некогда подробно их рассматривать…
Для помещения своего обыкновенно нанимают они на общий счет домишко в каком-нибудь отдаленном квартале поближе к кладбищу, совершенно отдельный, всего чаще такой, из которого давным-давно бежали жильцы от страха, чтоб не приплюснуло к полу каким-нибудь гнилым неучтивым бревешком, а пуще от крыс да от холоду. Бежал и хозяин, оставив на воротах билет, но сколько ни бегало тут голодных собак, ни одна не обратила внимания на билет с надписью: «Сей дом продается», и хозяин уже переставал находить даже утешение в мысли, что у него есть дом и земля, как вдруг однажды, заглянув туда, заметил в доме своем признаки обитаемости. Дождался вечера. Ба! ба! ба! с разных сторон находят в дом к нему люди, и вот уж сквозь щели ставней, которые никогда не открывались, показался огонь. Стой! Что за люди? По какому праву? Вон! Тотчас вон! Сумочники! Подоконники! В полицию!.. Не пошел хозяин в полицию, не выгнал незваных жильцов, а потолковал с ними мирно, заломил – не дурак был – сначала цену высокую, сошелся на половине и уехал себе доволен и весел, а сумочники стали жить да поживать в его доме, никому не здравствуя. Нужды нет, что дом холодненек: им не век вековать в нем, он нужен им только по ночам; их много, – стало быть, в тепле недостатка не будет. Ничего, что и потолок того гляди упадет, может, упадет, а может, ведь и не упадет, а если уж и точно случится такой грех, что упадет, то ведь старуха-то надвое сказала: либо будет, либо нет, либо дождик, либо снег; может, всем размозжит голову, а может, и никого не тронет…
В одну из таких квартир, называемых артельными, судьба привела нашего героя… Войдя в нее, он увидел множество стариков, старух, пожилых людей, детей женского и мужеского полов в ветхих, полураздранных рубищах. Перегородки были все сломаны и весь дом превращен в одну большую комнату, походившую от несоразмерности вышины с длиною и шириною на сарай или кирпичный завод. Над тою частию дома, где, вероятно, была прежде кухня, простирались полати. Сквозь дым крепких солдатских корешков и освещавшей комнату лучины герой наш увидел мужчин и женщин всевозможных видов и возрастов в лохмотьях и рубищах. Особенно много было детей.
На поперечном брусе, на котором, вероятно, утверждалась перегородка, восседало несколько маститых нищих, перед ними хлеб и штоф; лица их красны, и пот градом катится с их лбов и лысин. Другая <группа>, расположившаяся на том же брусе, вся состоит из старух-тараторок, на лицах которых присутствует выражение полного счастия: они пьют кофе. Неподалеку от них сидел старик, целый штоф вина стоял перед ним, но никого не приглашал он в соучастники праздника, который задавал себе: он пил один, пил молча и медленно и по временам глубоко вздыхал.
Кто стоял, кто сидел, кто лежал; разговор был шумен. Около большого деревянного стола, на котором стояло вино, восседало несколько маститых нищих, которые пили и говорили без умолку. В правом углу неистово спорили о чем-то две женщины; одна была старуха, сухая, безобразная; другая в полном цвете бальзаковской молодости, с исполинскими формами, с наглым сверкающим взором… Крику их вторил младенец, почти нагой, брошенный на голом полу близ места жестокой брани. С полатей по временам раздавался стон больного, протяжный, раздирающий. На лесенке, ведущей на полати, сидело несколько оборванных мальчишек, которые громко пели; почти посередине комнаты около лучины, освещавшей комнату, на обломанном стуле сидел старик; казалось, он был погружен в тяжкую думу; лицо его было мрачно и сурьезно; он не принимал участия в разговоре, даже неохотно отвечал на вопросы; всё внимание его обращено было на серый, довольно новый армяк, на который он нашивал в разных местах лоскутки грубого, истасканного холста; мальчишки по временам подбегали к нему, протягивали руки и насмешливо произносили: «Барин добрый! Христа ради! на бедность!» Старик сердито взглядывал и грубо отталкивал их от себя, не говоря ни слова… Зрители хохотали и подзадоривали мальчишек-шалунов к подобным подвигам… В углу подле двери сидела старушонка в медных очках, одетая в ветхий драдедамовый салоп, она тяжко вздыхала… Но то была еще только одна половина картины, даль которой закрывал густой <дым от> крепких солдатских корешков и в разных местах освещавшей комнату лучины. Герой наш мог только различить, что и там тоже сидят и движутся люди, и слышал долетавшие оттуда крики и песни.
При входе наших знакомцев на миг всё стихло; даже ссорившиеся женщины замолчали и с любопытством обратили глаза к двери; только ребенок кричал по-прежнему…
– А, Никита! Откуда так поздно? – закричал один красный старик.
Никита перекрестился, подошел к скамейке, отвязал деревяшку, снял с левой ноги ветошки, в которые она была обвернута, и очень твердо стал на обе ноги.
– Бог на помочь! – сказал он.
– Кого ты привел с собой? – спросил тот же красный старик вполголоса.
Никита рассказал встречу с нашим героем и прибавил вздыхая:
– Вот какие нынче времена! Трудно хлеб доставать не только что нашему брату, так и почище нас… Хлеба нет, пристанища нет, а барин-то ловкой, кажись, грамотной…
– Грамотной! – повторила про себя с какою-то особенною радостию старуха в драдедамовом салопе. – Слава богу!
Мальчишки обступили нашего героя и с диким любопытством его рассматривали. Несколько голов из разных групп тоже вытянулось посмотреть на гостя.
– Садись, приятель… Не хочешь ли поесть?
– Нет.
– Не хочешь ли винца?
– Нет, благодарю…
– Да не чинись, – сказал Никита. – Пей, ешь; уж коли я привел, я за тебя и отвечу.
Никита между тем подсел к красным старикам, выпил вина и принялся ужинать.
– Где ты пропадал до сих пор? – спросил его один из товарищей. – Уж ты и по ночам-то милостину сбираешь!
– На похоронах был, – отвечал он.
– На похоронах! – повторили все в один голос. – Где?
– Да вот чертенок Матвейко пристал – пойдем да пойдем на Выборгскую, там больше наберем… Вот и пошли…
– А, – закричала старуха, недавно ссорившаяся с пожилой женщиной, кидаясь к столу, – я говорила тебе, старый мешок, пойдем на Выборгскую… не послушал, подлец!
– Да что за беда; мы и так довольно набрали, – отвечал смиренно тот, к кому относились ее слова.
– Довольно! на винище набрал ты, лопнуть бы тебе с него, а я… трех гривен не собрала, право слово, нет!
– Ну полно, старуха, завтра наберешь больше: с ребенком пойдешь…
– С ребенком! Как бы не так! – закричала, подскакивая, женщина в полном цвете бальзаковской молодости. – Не уступлю, ни за что не уступлю… Моя очередь!
– Нет, моя! – запальчиво перебила старуха. И они опять принялись ссориться.
– А хорошо было угощение на похоронах?
– Хорошо, – отвечал Никита. – Не то чтобы очень, а так, как следует в купечестве: обед важный, сколько хочешь ешь; пироги, говядина, по стакану вина.
– Ну а деньгами?
– Три целковых, говорят, было дано на всех, да меди рубля с два… не знаю, как кому, а мне три пятака только досталось…
– Три пятака, кроме угощения! – раздалось в разных концах комнаты.
– Эх, кабы прежние годы, – произнес Никита, качая головой, – то ли бы досталось мне… Бывало, семь раз руку протяну… каждый раз выпадет. Замечу доброго человека, так спою Лазаря, что сердечный расплачется, глядишь – полтинник или четвертак в кармане! К другому подскочу… Ну рассказывать свои несчастия… Каких историй не выдумывал! И жена-то сгорела, и мать-то в реку бросилась, и родной-то отец ограбил меня; откуда речи брались… Вывожусь, выклянусь… добрые люди слушают да утирают глаза. Глядишь – всем по грошу, а мне либо пятак, либо гривна. А теперь… теперь… в другое место и не продерешься…
Никита вздохнул.
– Да, кабы прежние годы! – с чувством повторили старики.
– С похорон, – продолжал Никита, – зашли на радостях выпить, там и позамешкались… Матвейко угощал: он, постреленок, побольше моего пятаков захватил… Куда боек становится: из рук рвет. А как пьет, так – у! Куда нам, старикам!
– Да, будет прок: молодцеват не по летам! Матвейко, о котором шла речь, подошел к столу, налил
большой стакан вина и разом выпил его.
– Смотри, постреленок! Было бы чем заплатить… У нас складчина…
– Будет, будет! – отвечал Матвей, вынимая из кармана несколько серебряных монет и побрякивая ими.
– Вишь, сколько у него денег!
Глаза мрачного нищего, чинившего армяк, засверкали; он вскочил со стула и воскликнул с досадой:
– Ах, молокосос!.. Сколько набрал! А я вот шестой десяток хожу, да у меня постольку не бывало… А всё проклятый армяк!
И мрачный нищий еще с большею заботливостию принялся нашивать заплатки на свой новый армяк…
Мальчишки обступили его и принялись щипать, приговаривая: «Барин добрый! на бедность».
Старик, выведенный из терпения, схватил одного из них и швырнул к двери так, что тот заревел благим матом…
Все, за исключением пяти или шести человек, громко захохотали.
– Ай да «новый армяк»! Славно, славно! – закричал старик с рыжими усами…
– И всем то же будет! – грозно сказал «новый армяк», принимаясь опять за свою работу…
Мальчишки с ропотом отхлынули прочь и только уж вполголоса продолжали смеяться на его счет. В правом углу было еще шумнее.
– В середу ходила с ним ты, – кричала старуха, обращаясь к своей противнице, – в четверг ты же… Стало быть, теперь мне.
– Не ты ли, – возразила женщина в полном цвете бальзаковской молодости, – на прошлой неделе таскала его четыре дни сряду… забыла! На старости память отшибло…
– Я его носила, я и кормила его… Не бывать по-твоему. Завтра и послезавтра – я хожу с ним, да, вот с ним-таки, что хочешь толкуй… Не видать тебе его как ушей своих!
– Хорошо же… Нянчи же его, корми его… мне больше его не надо, слышишь, не надо… Возьми его.
И пожилая женщина с силой толкнула ногой плачущего ребенка к старухе; ребенок завопил еще громче…
– Ах ты, воровка окаянная… бога в тебе нет!
– Воровка? Сама ты воровка… Я знаю, я видела… Ты украла самовар намедни…
– Кто видел, кто сказал?.. Вот ты украла салоп… все знают… пинками с лестницы провожали тебя…
– Врешь, врешь… тебя – не меня…
– Меня? Типун тебе на язык… Двадцать лет хожу по миру, да никогда не случалось такого сраму.
– Сплошь да рядом… полно хвалиться…
– Ах бессовестная, ах ты негодная… что ты вздумала!
– Не вздумала, а правда…
– Правда… так вот же тебе…
И старуха бросилась с кулаками на свою соперницу…
– Полно, полно, жена! – закричал нищий, которого называли «старым мешком». – Нехорошо; ну за что вы друг другу рожи расцарапаете? Так, ни за копейку…
И он силился разнять их; мальчишки хохотали, крича: «Браво, браво!»; старики, прихлебывая вино, делали остроумные замечания и улыбались… Только «новый армяк» был важен по-прежнему…
Вдруг с полатей раздался болезненный, тихий стон, невыразимо тягостный, стон души, расстающейся с телом,
Минута смерти имеет для всякого в себе что-то ужасное, равно поражающее души грубые и изящные. Предсмертный стон больного произвел электрическое действие на присутствующих; все вздрогнули, все как-то невольно оробели и с минуту остались неподвижными в том положении, в каком застиг их невольный страх.
– Он умирает! – воскликнуло несколько голосов после долгого молчания.
– Надо быть, так, – подхватили остальные.
– Видно, так богу угодно!
– Умер, не дохнет! – закричал Матвейко, который, взобравшись на полати, успел уже осмотреть покойника и даже пошарить в его карманах…
– Напрасно беспокоишься, дитятко мое, – сказал Никита, знавший расторопность своего товарища, которого, прося милостыню, называл обыкновенно своим сыном, единственною своею подпорою, – ничего нет: покойник в последнее время ел мой хлеб!
– Толкуйте тут, а я знаю свое! – прошептал про себя Матвей и начал распарывать зубами и пальцами воротник ветхого армяка, которым был накрыт покойник.
– Как бы не так, – говорил между тем старик с рыжими усами, – ел твой хлеб… Вот что сказал! Я на всех сошлюсь, что я покупал на свои деньги хлеб для больного, и он мне должен…
– И мне…
– И мне…
– И мне…
Кредиторов набралось довольно много. Все они шумно принялись доказывать свои права на ветхое наследство покойника, назначая за свои услуги всякий себе, что кому более нравилось. Клим, который с каким-то бесчувственным равнодушием смотрел до сей поры на всё, вокруг него происходившее, теперь вздрогнул невольно: ему пришел на мысль разговор его хозяйки с ее компаньонками!
– Я правду говорю, – сказал Никита, – покойник точно ел мой хлеб, но мне ничего не надо за то. Берите всяк себе, что любо… Только надо ведь похоронить на что-нибудь…
– Да, похоронить… в самом деле! – воскликнули спорщики, пораженные нечаянным ужасом. – Кто же возьмется похоронить?..
– По, мне, тот, кто возьмет его вещи.
– Да все-то они четвертака не стоят, а он мне должен полтинник… да тут еще и хорони, спасибо! Мне лучше вещей не надо. Я не берусь.
– И я.
– И я.
Все отказались.
– Хуже будет, как дойдет опять до надзирателя, – сказал Никита, – дороже станет! По-моему, что осталось после покойника – продать, а чего не хватит – сложиться, чем наживать хлопоты.
Все с ним согласились. Между тем Матвей распорол воротник; радостным огнем засверкали глаза оборванного корыстолюбца. Он нашел там две золотые монеты, которые были крепко завернуты в несколько тряпичек. Поспешно спрятал он их в сапог.
– Кто же купит, – продолжал Никита, – одежду покойника лишнюю: полушубок, рубашонки, сумку… Армяков у него два было, оба худехоньки, в один его оденем, другой кому надо – купи!
– А где он, покажите-ка, – произнес с некоторою живостью мрачный нищий, всё еще продолжавший свою работу.
Матвей кинул требуемый армяк на голову покупщику, слез с полатей, сел на лесенке и запел песню…
Мрачный нищий с каким-то особенным удовольствием принялся рассматривать несметное количество дыр и разноцветных заплат армяка и после долгого осмотра сказал с важностию:
– Я дам пятиалтынный; авось, в нем мне посчастливит.
– Что ты, Касьян, как можно: чай, больше стоит, – сказал Никита. Он взял в руки армяк и начал с вниманием его рассматривать. Восклицание изумления вылетело из уст его, когда он увидел распоротый воротник и посредине стеганой ветошки его кружок в грош величиною, как бы чем продавленный. Многие подскочили к нему и начали рассматривать воротник. Знакомые по опыту с подобным родом сохранения денег, нищие тотчас поняли причину таинственного круга.
– Матвейко! – грозно закричал Никита.
– Матвейко! – повторили его товарищи и бросились к похитителю.
Матвейко захохотал и выбежал вон.
– Держи! держи! – закричали нищие и кинулись за ним, но через минуту воротились, унылые, взволнованные…
– Улизнул! – сказал один.
– Ловок, бестия! Через забор махнул! – подхватил другой.
Отчаяние овладело обманутыми нищими; долго еще они проклинали похитителя и горевали о потерянных деньгах; наконец вино мало-помалу возвратило им веселость; совещание насчет похорон было кончено; армяк остался эа мрачным нищим, который тут же с торжеством надел его на себя и был чрезвычайно доволен. Он присоединился к толпе пирующих; попойка сделалась шумна чрезвычайно… Послышался стук в вороты, и чрез минуту явилось новое лицо: пожилой мужчина с небритой бородой, в фризовой шинели, называвший себя дворянином, штаб-ротмистром в отставке и просивший милостыни по «документу», который начинался так: «Благороднейшие господа! Милостивейшие благодетели! Воззрите и пр.».
Все обратились к нему с большим почтением.
– А, батюшка Кондрат Гаврилыч, наше глубочайшее…
– Здравствуйте, здравствуйте, что скажете новенького?
– Где нам знать что-нибудь… Вот разве вы что скажете…
– Скажу, скажу…
– Совсем забыли нас… Где так долго вас бог носил?
– Да так, – отвечал Кондрат, с важностию расхаживая по комнате, – случайно встретился с одним приятелем, сослуживцем; он меня зазвал к себе, угостил шампанским; вот я у него и замешкался…
Предание говорит иначе: Кондрат, – не отставной штаб-ротмистр, а выгнанный из службы копиист, – набрав несколько гривен, по обыкновению зашел под вечер в харчевню, где и оставил их все сполна.
Вышед из храма веселья, он почувствовал, что ноги отказываются служить ему, сел на первую случившуюся скамейку, заснул и проспал на ней до полуночи…
Нищие обомлели от удивления, неизвестно, притворного или искреннего, небритый дворянин еще с большей важностию продолжал ходить по комнате…
– Что, – сказал он, чуть не наступив на знакомую уже нам старушку в драдедамовом салопе, – образумилась ли, припасла ли мне целковый за «аттестат»? Такой напишу, что, кому ни покажи, все расплачутся, расчувствуются… А ты только не зевай; меньше гривенника дадут, так обижайся… я, мол, благородная: вот аттестат!
– И, батюшка, где мне взять целковый; велико дело целковый! – отвечала старуха, тяжко вздыхая.
– Ну так вечно будешь сбирать по грошу, вечно будешь без аттестата.
Старуха посмотрела с какою-то надеждою на дремлющего героя нашего, как бы говоря взором: «Авось!» В то же время и Кондрат заметил его и обратился к нищим с расспросами, кто он и как попал сюда. Никита рассказал ему, что знал…
– А, надо познакомиться! Должно быть, чиновник! По крайней мере теперь есть приличная для меня компания.
Небритый дворянин приосанился, подошел к Климу и сказал с важностию, протягивая руку:
– Честь имею рекомендоваться: отставной штаб-ротмистр Кондрат Гаврилыч Гаврилов…
Клим, утомленный тревогами дня, был погружен в какую-то лихорадочную дремоту, похожую на бесчувствие или совершенное опьянение… Он поднял голову, открыл глаза, мутно, безвыразительно оглянулся кругом, так же точно взглянул на небритого дворянина и опять закрыл глаза, опять опустил голову…
– Что же вы, милостивый государь, шутить, что ли, изволите? – воскликнул с неудовольствием Кондрат. – Благородный человек вам делает честь своим знакомством…
– Оставьте его, – перебил Никита, – он болен, да и устал, сердечный; спать хочет…
– А, так бы и говорил. А то я не разучился еще владеть саблей, особенно где дело идет о чести…
«Где бы его положить?» – думал между тем Никита.
– Федька, – сказал он, – уступи ему место: ты помоложе.
– Как бы не так! – отвечал впросоньях толстый мальчишка, к которому относились слова старика. – Я такую же долю плачу… Вон на полатях просторно: пусть спит вместе с покойником!
Кого ни просил добрый Никита, все отвечали почти то же…
Старушка в драдедамовом салопе вскочила с живостью, наскоро постлала постель в углу, который принадлежал ей по праву найма, подбежала к Климу и сказала:
– Ложитесь, батюшка, постелька готова, не побрезгуйте…
Клим лег, не раздеваясь, на жесткие «нары», покрытые рогожей и лохмотьями…
– Спи, голубчик! – проговорила старуха крестясь и пошла на полати в компанию покойника…
Кондрат подсел к столу и принялся пить вино, говоря, что ему хочется узнать, каков вкус в сивухе после шампанского.
– Ну что, каков?
– Хорош… Налей-ка еще…
– Изволь… А что же ты обещал сказать?
– Завтра похороны! – произнес небритый дворянин торжественно.
– Похороны! похороны! – повторилось во всех концах комнаты; даже спящих разбудило это магическое слово… Похороны для нищих то же, что свадьба для жениха, влюбленного в свою невесту, запутанное дело для взяточника, страсбургский пирог для обжоры… Тут их кормят, поят на убой да, кроме того, дают еще деньги…
– Где, где? – раздалось со всех сторон. Торжествующий дворянин назвал улицу и описал приметы дома.
– Богатые? богатые? – закричали нищие…
– Такая крышка стоит у ворот, что одна тысячи рублен стоит!
– Знатно! знатно! Будет пожива!
– Я нарочно спросил: говорят, генерал умер… Будет обед нам, вино и выдача…
Чужое горе водворило веселье в грязном пристанище рыцарей медной монеты. Все с удовольствием думали о предстоящем дне я заснули спокойно… Позже всех улеглась собеседники, окружавшие белый стол: на радостях они выпили еще по нескольку стаканов вина, которое развязало их языки до пределов возможности.
К «артельной квартире» принадлежал и мезонин, состоящий из одной низенькой комнаты, которая не была занята. Читатель помнит, что добрый Никита предложил ее Климу еще на улице при встрече с ним. Клима, полубольного, оглушенного шумной оргией пирующей братии, на другой день перенесли вверх. Там он пролежал в пос-теле два дня, в продолжение которых старушка в драдедамовом салопе неусыпно пеклась об нем. Когда Климу стало легче, он тотчас отправился к хозяину своей прежней квартиры. Угрозами ему удалось вытребовать от него портрет благодетеля и шкатулку, в которой были письма, краски и несколько дорогих безделок, единственных памятников его благодетеля. Только драгоценного образа не мог он возвратить: хозяин объявил, что денег, вырученных от продажи вещей, недостало на уплату за квартиру, а потому образ он удержит у себя, пока ему не будет доплачена недостающая сумма. Уступая крайней необходимости, Клим продал свои дорогие безделки и тем обеспечил на несколько дней свою квартиру… Он умел довольно хорошо рисовать, и это доставило ему средство к существованию. Старушка в драдедамовом салопе по целым суткам стояла на Невском проспекте, держа в руках его картинки: иногда какой-нибудь прохожий, как бы по внушению свыше, останавливался, разглядывал их и давал ей за товар ее несколько серебряных монет. Тогда с радостным лицом бежала старушка домой, благословляя доброго покупщика… Клим предлагал ей половину выручки, но она почти всегда отказывалась, говоря:
– Не мой, батюшка, труд, – твой… Мне ничего не надо… Ты вот только сделай мне, что я тебя попрошу…
– Всё, всё сделаю…
Так прошло несколько дней. Клим усердно работал для поддержания своей жизни, не зная сам, для чего он ее поддерживает. Судьба довела его до крайней степени нравственного уничтожения. Ничего не было у него впереди; страшно было оглянуться назад, трудно представить, в каком мучительном положении постоянно была душа нашего героя… Сначала он почти никуда не выходил, ему как-то стыдно было показаться на улицу… Он проводил время, запершись в своей маленькой комнатке, сам-друг с своим горем; иногда нестерпимый холод его квартиры заставлял его сходить вниз, и там с каким-<то> диким восторгом любовался он картиной униженного человечества. Каждый раз в «артельной квартире» разыгрывались какие-нибудь новые сцены, всегда ужасные, возмутительные. Много людей, по нет человека, нет существа, которое могло бы чувствовать и понимать по-человечески, – и Клим уходил оттуда наверх, не утешенный, но растерзанный, жестоко уязвленный близким сходством своего положения с положением «нищей братии». Нестерпимая тоска одиночества заставила его наконец прибегнуть к развлечению так называемых «прогулок». Он стал ходить по городу ежедневно по нескольку часов.
Однажды часу в третьем Клим шел по Невскому проспекту. С лестницы одного из магазинов сходила дама, великолепно разряженная, а за нею молодой офицер вел под руку девушку, разговаривая с ней очень жарко и беспрестанно улыбаясь, по-видимому, в избытке счастия… Клим почти наткнулся на даму, оглянулся, вздрогнул и опрометью, как безумный, бросился бежать в противную сторону…
Дама, офицер и девушка переглянулись между собою с каким-то смущением…
– Ах, какой грубиян… И представьте… Это тот… вы его узнали? – сказала дама, садясь в карету.
– Помню, помню, – отвечал офицер, – странно, что он еще до сей поры не в сумасшедшем доме.
– Да. Он давно готов туда…
– И будет там, я уверен.
– Даже очень скоро! – хладнокровно прибавила девушка, умильно смотря в глаза офицеру.
Карета поехала.
Клим увидел ту, которая ни на минуту не выходила из его головы; сердце его возмутилось, оболочка бесчувственного равнодушия, в которую так долго были закованы движения его духа, распалась; буря хлынула наружу. Он плакал, он рвал на себе волосы, он был ужасен. Ярое бешенство палило его внутренность; ему хотелось силы тигра, чтоб разорвать собственными руками грудь свою; власти падишаха, чтоб уничтожить тех, которые стали на пути его счастия; жизни вечного жида, чтоб дольше мстить человечеству за испытываемые страдания… «Крови, крови!» – готов был <он> воскликнуть и, подобно дикому мавру, вонзить кинжал в грудь целого мира…
Я не шучу, я даже не преувеличиваю…
Любовь, ревность, жажда мести, сознание собственной ничтожности, чувство конечного унижения – о, тут довольно материалов, чтоб завязать драму в душе самого холодного человека!
Был уже вечер, когда герой наш воротился домой. Волнение его возросло до высочайшей степени. Напрасно хотел он успокоиться, напрасно силился превозмочь прилив отчаяния; оно безраздельно владело его душой, оно разрушало всё, что создавал разум, оно громко призывало его к роковой развязке жизни…
Клим испугался самого себя… Черная мысль являлась с такими заманчивыми, очаровательными обетами! «Страшно! страшно!» Клим быстрыми шагами сошел вниз-Там всё было по-прежнему. Мальчишки пели, старухи ссорились; старики сидели за длинным столом, на котором стояло вино. Они пили и играли в карты. Кучки медных денег переходили от одного к другому; с живым вниманием следили игроки за малейшим изворотом своей грошовой игры, которую замедляли нередко шумные споры… Несколько любопытных стояло вокруг стола. Денежная игра как-то неприятна даже для тех, кто ее любит; но здесь, в кругу жалких нищих, которые старались выиграть один у другого последнюю копейку, добытую ценою слез и унижением, она была отвратительна! Климу стало еще тошнее…
– Не хочешь ли, господин, «примазаться»? – сказал ему один из нищих. – Знаешь, чай, три листка с подходцем… Грош темных, а там ходи сколько карман позволит…
Клим отказался.
Вошло несколько запоздалых рыцарей медной монеты; между ними была и старуха в драдедамовом салопе.
– Ну что, старуха, много ли гривен набрала? – спросил нищий, знакомый нам под именем «мрачного».
– И где мне набрать, батюшка! Где мне поспеть везде! Что и пошлет бог, и то перебьют! А в дома никуда не пускают…
– Вот я, – сказал «мрачный» весело, – не могу теперь пожаловаться: как надел армяк после покойника, с тех пор, что день, то полтина!
– Счастье, батюшка, счастье… А, и ты здесь, кормилец, – продолжала старуха, увидев Клима. – У тебя, чай, холодно… Вишь, ты какой бледный… Да что с тобой… ты больно скучен… уж не захворал ли опять?
– Ничего…
– То-то же, родной мой! А я тебя всё сбираюсь попросить… да, право, боюсь потревожить… Ты свободен сегодня, кормилец?
Между играющими разгорелась жестокая ссора. Они вскочили и принялись кричать друг на друга изо всей мочи. Кулаки некоторых были уже наготове. Клим ушел наверх, засветил свечу и начал ходить по комнате. Волнение его не проходило: мыслей было много, но ни одной утешительной, спокойной, все черные, убийственно мучительные. Предаваясь им, герой наш дошел до того страшного состояния, в котором человек решается иногда на самые безумные побуждения… Лицо его горело, глаза сверкали диким огнем, походка была неверна и отрывиста… Он шел к двери с намерением бежать на улицу, когда на пороге встретила его старушка в драдедамовом салопе. Он воротился.
– Что с тобой, батюшка? – воскликнула она, испуганная страшным выражением его лица.
– Ничего. Что тебе надо?
Вопрос Клима, против воли выраженный довольно грубо, еще более напугал старушку; она долго не могла произнести ни слова…
– Я пришла было насчет той просьбы-то, – наконец сказала она отрывисто. – Да теперь вам некогда…
Клим опомнился; старушка была единственное существо, которое приняло в нем бескорыстное участие: обидеть ее было бы грех…
– В чем твоя просьба? – спросил он как можно ласковее.
– В другое время когда, батюшка! Извините… И старушка пошла к двери…
– Говори, говори теперь! – закричал Клим, удерживая ее. – После, может быть, уж будет поздно!
Старуха воротилась; голос, которым были сказаны последние слова Клима, заставил ее невольно вздрогнуть. Робко посмотрела она на него и опустила глаза…
– Говори же! Что ты остановилась?
– Я всё гляжу на тебя, кормилец… Отчего ты сегодня такой страшный?..
– Ничего, старуха, я болен…
– Так ляг в постельку, родимый… Я мятки налью…







