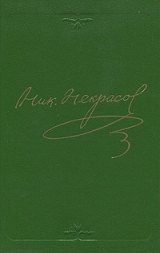
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
– Что ж, потонул? – быстро спросил Грачов.
– Потонуть не потонул, – отвечал их гребец, – а окупался, сердечный. Тут где потонуть: глубокого места только и есть, что ключина, где даве Митюха огряз. А то до самой деревни больше как по пояс не будет. Тут всё сухо бывает в межень! Да и лес не больно чтоб густ – всё можно ехать…
– А далеко до деревни?
– Да с версту, не больше, А вот уж там, – продолжал гребец, – как за нашу деревню выедем, ну, там всего будет!
– Что ж?
– Проехавши так с версту нашими полями, будят Ниша, река, бурлит теперь, сердечная, потом лесом поедем, – лес густой-густой, – проедем лес, там опять Мичкора-озеро, большое озеро; вот как Вишу перевалим да озеро, ну и лесом маненько трудновато, а то всё ничего, плевое дело!
Лес начал редеть; показалась деревня, которой жители, по местному выражению, разделялись на облитых и необлитых; верхний конец деревни, расположенный на высоте бугра, избежал наводнения; зато нижний, ближайший к нашим путешественникам, тянувшийся по скату бугра, равно как все бани, сараи и прочие деревенские службы, разбросанные по уступам крутого оврага, – всё было затоплено и представляло довольно оригинальную и в то же время весьма плачевную картину. Таким образом приятели наши въехали водой в самую деревню и несколько времени плыли между двумя рядами изб, казавшихся как будто всплывшими; маленькие окна быстро раскрывались, и оттуда появлялись лица с выражением столь чрезвычайного удивления, о котором невозможно дать понятие, – доносились дикие и тревожные голоса, благим матом призывавшие сонных, хворых и работающих полюбоваться невиданным зрелищем:
– Митюха, брось стан-от! Брось скорей! Вишь, едут какие!
– Подь-ка, нодь-ка! глянь! глянь!
– Батюшки, господи! Что их? что их? А-а! ахти! Вот так диковина! И собака, да какая собака: словцо баран! У! у! у! съест, чай – сунься, поди!
Некоторые из облитых, недовольные глазением из окон, быстро выбегали на крылечко, бросались в ботники, привязанные, к верхним ступеням, до которых почти достигала вода, и плыли за путешественниками, перегоняясь между собою и стараясь забежать вперед их. Но не то еще ждало наших друзей впереди: приближаясь к области необлитых, они увидали такую необозримую толпу, что даже казалось невероятным, чтоб все они принадлежали к жителям одной деревни; старые и малые, здоровые и хворые – всё высыпало посмотреть господ. И вот наконец они ступили на твердую землю при громких восклицаниях толпы, и толпа шумно расступилась в разные стороны, давая им дорогу. Путешественники пересели в телеги, приготовленные для перевозки их с пожитками через бугор, за которым снова начинался разлив. Облитые и необлитые последовали за ними. Переезд медленно совершался, задерживаемый толпою, и наконец остановился среди необжитого конца деревни. Оставленные гребцами своими, которые ушли переправлять через бугор ботники, приятели наши были оставлены теперь и своими кучерами, которые, соскочив с козел, ушли в толпу, ничего им не сказав. Приятели наши, сидя на телеге, на досуге рассматривали толпу, которая с каждой минутой увеличивалась. Даже столетние старухи, по нескольку лет не слезавшие с печи, выползли на свет божий, не говоря уже о разного рода деревенских уродах, которые вообще отличаются сильным любопытством. И так как народ, несмотря на видимое презрение к ним, выражающееся в беспрестанных шутках и неумолимых прозвищах, все-таки к ним жалостлив, то им уступлены были лучшие места, и друзья наши скоро увидели себя окруженными коллекцией замечательных существ: параличный мужик с трясущейся головой и безумно блуждающими глазами навыкате, мужик с ногами, вывихнутыми так, что коленки его смотрели в ту же сторону, как и его затылок, мальчишка с горбом, ходивший на карачках, мальчишка с перешибленными и высохшими руками, которые висели как плети, баба с горбом, баба с двумя горбами, мужик с бельмами, безногие, безрукие, калеки, слепцы – вот, так сказать, первый ряд той публики, которая собралась около путешественников. Правда, деревня, в которой они находились, была велика, как немногие деревни, но и количество уродов, проживавших в ней, поразило их. Расспрашивая о причинах уродства, они пришли к такому заключению, что хотя употребительная в деревнях метода воспитания, состоящая в том, что ребенка почти с первых дней его рождения предоставляют на произвол судьбы, имеет свои хорошие стороны, производя богатырей, крепких, как закаленная сталь, но что она же, вероятно, причиною, почему нет такой маленькой деревушки, в которой не встретили бы вы нескольких несчастных, изуродованных и изломанных самым чудовищным образом. Второй и гораздо значительнейший ряд публики составляли девчонки, мальчишки и отчасти женщины; мальчишки совсем напирали на телеги и по обыкновению своему громко передавали друг другу свои замечания касательно наружности, одежды и всего, что поражало, их в наших путешественниках. Черный лоснящийся Раппо в своем серебряном ошейнике производил сильный и всеобщий эффект.
– Словно бобер, – говорили мальчишки, – а ошейник, поди, рублев сто стоит!
Когда же Грачов по случаю дождя надел свой каучуковый пальто и такую же шапку, сделанную так, что ею можно в случае дождя закрыть и щеки, и лоб, и затылок, оставив только небольшие промежутки для глаз и дыхания, удивление публики дошло до высочайшей степени. Мальчишки пришли в такой азарт, приглашая друг друга посмотреть диковинное одеяние, что Тростников, имевший точно такой же костюм, решил лучше промокнуть до костей, чем подать повод к новому соблазну. Ему даже сделалось как-то совестно за Грачева, который, напротив, был очень доволен и видимо наслаждался эффектом, который производил. Время шло, а толпа не редела. Напротив, ободренная ласковым видом господ и их благосклонными ответами, становилась смелей. Одна женщина лет 25 с самого их приезда с напряженным вниманием всматривалась в лицо Грачова, которое, надо признаться, по своей величавости вообще производило несравненно более эффекта, чем скромная фигура Тростникова, наконец начала постепенно к нему приближаться и вдруг схватила нашего путешественника за его крупный нос, потом тотчас же его выпустила и, как бы сама испугавшись своей дерзости, быстро исчезла в толпе… По тщательным расспросам оказалось, что поводом к такому странному поступку было не что иное, как бескорыстное любопытство узнать, такой ли у барина нос, как обыкновенно бывают носы в деревнях, или сделан из чего-нибудь другого. Муяшк, объяснявший это Грачову, прибавил, что здесь сторона глухая, – в пять лет одинова проедет ли, нет ли барин какой, так вот им и в диковину. «А вот, – прибавил он, – как я жил третьего года на большой Костромской дороге, где господ ездит каждый день, словно… (не припомню сравнения, которое употребил мужик), – так там на их и глядеть не хотят!»
Наконец, третий разряд публики, собравшейся около наших приятелей, составляли мужики, которые только частью были привлечены сюда любопытством, главное же состояло в том, чтоб сорвать с господ малую толику деньжонок. И так они только сначала теснились к телегам, а потом составили от/дельную группу, в которой скоро начался оглушительный спор.
Прислушавшись, путешественники наши увидели, что спор шел именно о них, и по некоторым словам мужиков догадались, что предстоящее им плавание не совсем безопасно. Следующее обстоятельство еще более усилило их опасения. Среди группы мужиков вдруг показался старик высокого роста, с длинными склокоченными волосами трех цветов: некогда гладко выстриженная макушка его была покрыта густыми темно-русыми волосами, торчавшими как щетина, затем следовал слой волос рыжих; третий, и последний слой, беспорядочно спускавшийся к вискам, лбу и затылку мужика, был грязновато-серого цвета. Мужик имел вид исступленного: глаза его сверкали диким блеском, движения были порывисты, голос густой, неровный и невнятный, интонации прорицателя.
– И не возите! И не берите греха на душу! – кричал он, врываясь в толпу мужиков и грозно махая поднятой вверху рукой, сложенной в кулак. – Потопите, как бог свят, потоните! И господь накажет вас! Прогневили, грешные, господа. Такую воду пустило, такую воду… у! – заключил старик таким страшным голосом, что мальчишки, окружавшие телегу, вздрогнули.
Это «у!» болезненно отозвалось даже и в мужественном сердце Грачева.
– Эй! – закричал он. – Эй, что такое он говорит? Мы только время теряем; а если точно опасно, то лучше подумать…
– Ничего, провезем! Бог милостив, езжали! – в один голос отвечали мужики, окружая телегу. – Тут нам свое дело, под боком: каждый кустик знаком!
– И не пытайтесь! И сохрани бог! – скороговоркою произнес прорицатель, подбегая также к телеге и обращая к Грачову свои дикие, блуждающие глаза. – Ни-ни-ни-ни! Стар осп человек – слушайтесь старого человека! Великие воды! Страшенные воды создал господь, и конца им нет! Прогневался бог! Господь Оку разлил, Клязьму разлил, Волгу разлил – все великие и малые реки разлил, всем волю дал, и, пока не уймет воды, – не дерзай! Не дерзай! – повторил старик вдохновенным и мрачным голосом. – Не попустит господь!
– Постой, по мешай! Дай слово молвить! Поди прочь, старый хрыч! – кричали мужики, стараясь оттереть исступленного прорицателя от телеги, но он решительно не давал никому рта разинуть, продолжая свои прорицания.
Замечая, что он более и более путался и наконец начал нести совершенную дичь, Грачов ободрился.
– Да погоди, любезный, дай добиться толку, в чем дело! – строго сказал он ему. – Помолчи, вот мы рассудим!
Но старик не унимался:
– И не дерзайте! И говорю вам: не дерзайте ни с чем! Против воды что против огня. Сильна, матушка! у! как сильна! (Это протяжное «у!» снова отозвалось в сердце Грачева.) Великие воды! Страшенные воды! Сюда (старик указал вперед), до Мурома и за Муром, через все деревня и села, жилые и нежилые места, – туда (он указал вправо), до Гороховца, через сам Гороховец и до великих дремучих лесов… Туда…
Тут старик был прерван ударом по руке, которую он только что поднял, чтоб указать направление воды. Мужик, нанесший ему удар, строго сказал:
– Уходи честью! Не мешай, говорят, не сбивай господ. Времени, вить, и так мало – и так уж вон, гляди, солнышко высоко!
– А сядет солнышко – и взойдет, и опять сядет, и взойдет опять, – будет оно на утрии, на полдни и на вечерни, будет высоко и низко, а уж не увидать его вам, коли…
– Эй, старик! – неожиданно перебил прорицателя Тростников негромким, но повелительным голосом. – Поди сюда!
Старик подошел.
– Вот тебе, возьми! Только смотри, с уговором: уйди сейчас и не мешай нам!
Старик не без жадности схватил две мелкие монеты, предложенные ему, и выражение лица его мгновенно изменилось, – желая путешественникам счастливого плавания; о прежних зловещих прорицаниях не было ужо и помину.
– В добрый час! В добрый час! – повторял он, удаляясь с низкими поклонами. – Да благословит господь десницу благодушного!
И он ушел, повторяя «в добрый час» с таким видом, как будто совершенно забыл свои недавние предсказания и был убежден, что они совершат благополучное плавание.
Мужики проводили его каким-то двусмысленным и нерешительным смехом.
Грачов да и сам Тростников, никак не ждавший, чтоб два двугривенных могли произвесть такой быстрый результат, были немало удивлены; но как времени и так уже было много потеряно даром, то они отложили свои расспросы до другого времени и занялись решением ближайшего вопроса: что им делать?
Все мужики теперь единогласно утверждали, что плавание не представляет никакой опасности, ручались, что провезут благополучно. Итак, друзья наши решились ехать. Было прибавлено еще два ботника, чтоб ботники сидели мельче в воде; выбраны лучшие и опытнейшие гребцы, по уверению всей деревни.
Подъехали в телегах к разливу, переложили в ботники вещи, разместились сами и тронулись…
Картина, открывшаяся перед ними, была подобна той, которую они видели, плывя в деревню, только в большем размере: необозримое море воды, местами чистое, местами покрытое лесом или кустарником, деревни, казавшиеся как бы всплывшими, кое-где высокие обнаженные бугорки, до которых не достигла вода и которые служили пунктом отдыха бесчисленным стаям перелетных птиц, как-то: гусей, лебедей, журавлей, чибисов, рыболовов и всякого рода куликов, – таковы были предметы, окружавшие путешественников. По мере того как они подавались вперед, водная пустыня принимала более и более оживленный характер, становилась населеннее; стада уток, спугнутые приближением ботников, быстро взлетали, производя серебряный звук своими крыльями, и тут же, отлетев не более десяти сажен, снова садились, к великому удовольствию наших путников, которые зарядили свои ружья и открыли по ним непрерывный огонь; над головами их носились хохлатые чибисы, наполняя воздух столь пискливыми, жалобными криками, что сердце надрывалось невольно; реяли красноносые рыболовы, быстро падая на воду и ловко хватая мелкую рыбешку; непрерывный их крик, столь разнообразный, столь одушевленный и выразительный, что, без преувеличения, в нем можно отличить малейшие оттенки радости, отчаяния, надежды, негодования и ужаса встревоженной птицы, достиг крайней степени болезненного неистовства, когда Грачов выстрелил и раненый рыболов упал в лодку, – тысячи рыболовов собрались над убитым, останавливались в воздухе и яростно потрясали клювом, и отчаянию их, их негодованию против убийцы, казалось, не было границ; они чуть не задевали крыльями за головы пловцов, и так провожали они путников по крайней мере целую версту, надрываясь в остервенелых криках, выражавших, очевидно, злейшие проклятия, пока наконец Грачов не выбросил на воду труп убитого их товарища. Тогда птицы сгруппировались над ним, продолжая жалобные песни свои, и оставили в покое путешественников. Журавли и дикие гуси длинными вереницами тянулись в вышине и, перекликнувшись, как будто по взаимному уговору, вдруг опускались отдохнуть на какой-нибудь бедный островок. Эти островки, с жалкими остатками едва зеленеющей озими, вызывали тяжелые вздохи и сетования гребцов, которые сообщили путешественникам, что тут всё, что осталось от их озимей! Остальное покрыто водой, которая поглотила их труды, время и семена. Грачову очень хотелось убить гуся, но едва ботник приближался к месту их отдыха, осторожные птицы с криком слетали и пропадали в воздухе. Зато он устал, стреляя по несчастным зайцам, которые разделяли участь жителей этой бедной стороны: их облило, и они, как тени, целыми сотнями бродили по обнаженным островам, тоскливо поглядывая на ближний, но недоступный лес или кустарник.
Разговаривая с своими гребцами, путники вдруг поражены были дикими криками, доносившимися с ближайшего островка.
– У-у-у! ух-ух-ууух! – И потом: – Эй! держи! лови! хорошенько его, хорошенько! береги, Ваню-хааа! у! косой черт! у-у-у! а-а-а-ря-ря-рррря!
Загадка объяснилась, когда они подъехали ближе к острову: десятка полтора мальчишек ловили зайцев – били вдогонку палками или, мгновенно падая, давили их брюхом, причем несчастная жертва испускала раздирающий крик, подобный плачу ребенка. У берега они заметили три ботника, уже до половины нагруженные зайцами. В этой стороне народ не брезгует заячьим мясом, как это бывает во многих других деревнях России, вследствие известного предрассудка. Здесь, напротив, каждое семейство, с помощью меньших членов своих, весной запасается зайчатиной и, посолив, ест ее до самого лета. В это время года заячий мех никуда не годен.
Менее печальное зрелище представлял другой промысел, которого источником был также разлив. Распространяясь быстро и часто неожиданно, разлив в своем стремлении подобно хищнику, уносит всё, что плохо лежит; он отрывает даже целые острова с кустарником и лесом, которые медленно движутся по течению до той поры, пока сольет вода, и они и остаются там, куда прибьет их течением, часто за несколько верст от своего прошлогоднего пребывания; стоги сена, скирды хлеба, бревна, жерди разрушенных заборов и мостов, гонимые ветром, медленно движутся по равнине временных вод и составляют добычу особого промышленников, которые выезжают на ловлю с баграми и запасными ботинками. Впрочем, они нередко дорого платятся за свой промысел: ботники, чересчур нагруженные, опрокидываются при внезапном порыве ветра, и несчастные тонут или претерпевают иногда страшные муки, потеряв свои судна и проводя иногда по несколько дней без огня и пищи. Много таких «ловцов» встретили наши приятели и с каждым разменялись дружным приветствием.
Таким образом, благодаря явлениям, которые мы старались описать, эта пустынная сторона даже и теперь не была вовсе лишена жизни и деятельности, но какой жизни, какой деятельности? Грачов невольно вспомнил читанные им в изобилии сцены в глубине Азии и Америки. Не то чтоб тут было что-нибудь сходное, но многое здесь казалось ему столь же в своем роде новым и едва ли еще не менее известным, чем то, о чем читывал он у Дюмон-Дюрвиля, Жакмона и других.
Всё шло хорошо, покуда плавание не представляло особенных трудностей; путешественники уже начинали забывать опасения, возбужденные в них старым прорицателем; но, приближаясь к лесу, поросшему густым кустарником, через который надлежало пробиться, добродушные мужички, очевидно старавшиеся поддержать бодрое расположение господ, невольно изменили своему желанию: они крепко заспорили о том, которой стороны держаться, и каждый поддерживал свое мнение и порицал чужое такими аргументами, что мороз пробегал по телу наших приятелей.
– Вправо-то, на красный куст? Да тут, не знаешь, что ли, голова, порубь; пень на пне; как протрешь ботинки, так тут и конец! Лучше прямо держи!
– Прямо? Прямо только вороны летают.
– Так что ж? По-твоему, на Галямин бор, что ли? Никиту Обрубка повидать охота?
– А кто такой Обрубок?
– Да мужичок был.
– Что же с ним сделалось?
– А пропал в бору…
– Так и не нашли?
– Нашли, как вода сбыла… Говорю: лево держи!
– Лево? Да подержись лево, так и угодишь против самого широкого места что ни есть во всей Више. А на стержне, поди, и так крутит-крутит – и господи упаси! А тут и ветер какой поднялся. Не справить, гляди: никак не справить!
Таким образом все направления были перебраны, опасности каждого вычислены, и путешественники увидали себя в положении сказочного царевича, встретившего на распутье столб с надписями, пророчившими, в какую сторону ни кинься, беду неминучую.
Страннее же всего казалось им то, что, упорно споря о направлении, проводники их ни на минуту не переставали грести и гребли всё в одну сторону, как будто выбор направления был давно решен, а теперь шла речь о предмете постороннем. «Да куда же мы едем? Какой дороги держимся?» – пробовали они спрашивать. Ответом им было молчание или неопределенное: «Авось бог даст выедем», – и весла продолжали дружно работать. Таким образом вопрос, кто из спорящих одержал победу, остался тайной для путешественников, да и гребцы, по-видимому, мало думали о нем, удвоив внимание, так как чаща с каждым шагом становилась непроходимее: дело в том, что проехать как в том, так и в другом месте было одинаково трудно, что мужики, каждый про себя, очень хорошо знали, и главная задача состояла не в том, чтобы решить спор, а в том, чтоб удачно проехать. Верный глаз и верная рука были тут единственными ручательствами успеха; упираясь веслом, где нельзя было грести, в деревья или хватаясь руками за сучья и кусты, гребцы быстро сообщали желанное направление ботинкам, и ботинки невредимы «выюркивали» из непроходимой чащи.
«Оттолкнись! притяни! посунь! пропёхивай!» – были единственные слова, которыми они теперь обменивались между собою. «Нагнись, барин, нагнись!» – иногда вдруг кричали гребцы, но путники наши были так счастливы, что успевали нагнуться не ранее, как доставив какому-нибудь сучку полную возможность съездить их порядочно по голове.
Через час трудной и неутомимой деятельности гребцы вдруг все разом перевели дух и на секунду опустили весла. Приятели наши поняли, что опасность миновалась. Действительно, чаща начала редеть – и они скоро очутились среди чистого и необъятного пространства воды, в которой отражались небо и солнце, уже склонявшееся к закату. Зрелище было приятно и успокоительно, особенно после часовой переправы через лес, который постоянно держал их в полумраке, не давал простора их зрению и вдобавок немилосердно царапался и хлестался, как будто сердясь, что нарушили его спокойствие, к ограждению которого он принял такие надежные меры.
Однако ж спокойствие; наших приятелей было непродолжительно. Гребцы мигом прогнали его – и опять, видимо, против своего желания.
– Ну, теперь, мотри, не зевай! – сказал один.
– А ты что? Сам, голова, не зевай, – отвечал другой. – И охота говорить! – прибавил он с досадой, наставительно.
– А что такое? – быстро спросил Грачов.
– Сами, чай, видите! Вишь, волны какие.
Волны действительно были довольно свирепы. Ботники сильно качало.
– Помоги бог справиться! – полушепотом говорили гребцы.
– Что ж тут озеро, что ли, или река? – спросил Грачов.
– Река, – отвечал передовой гребец. – Виша, матушка Виша. Она у нас и в межень бойка, сердечная, а теперь, гляди, словно море!
– Вот уж я так не сказал бы, пра, не сказал бы! И чего? Только господ в сумление вводить!
– А ты тогда говори, как проедем, – заметил с упреком второй гребец и немедленно прибавил: – Тут и в межень так с ботинком ину пору нечего делать: большие лодки опрокидывает! Намедни мужичок Окой проехал – ничего, а съехал в матушку Вишу – и прощай мука!
– Подмочил всю, – шутливо прибавил передовой гребец.
– Перво подмочил, а потом и совсем утопил, да и сам-от с кулем ко дну пошел, – докончил его товарищ.
– А то намедни, – прибавил третий гребец, отличавшийся каким-то мягким, вкрадчивым голоском и употреблявший б ольшую часть слов в уменьшительном виде, может быть вследствие мысли, что с господами нельзя говорить как с своим братом мужиком, – так двое: поехали рыбки половить; выехали на самый стержень – да так маненечко и заснули, а ботничек и перевернуло! Пошли ко дну раков ловить! А и ветру, почитай, не было: так, видно, струичка набежала. Я тут недалече тож рыбку ловил: вижу, ботник их неладно идет, всё вертится, словно никто им не правит; мне бы скричать, да сами, чай, видят, думаю; неужли заснули? – думаю, а ботник-от как вдруг перевернет! Тут уж я смекнул: никак, робятки и впрямь заснули? Поскорей к ним и веревочку было припас, да не сделаешь? Один; опять же ночь…
– Поделом дуракам! – сказал Грачов, сильно вознегодовав при мысли о такой непостижимой беспечности. – Нашли место спать!
– Власть божия! – произнес в размышлении рассказчик.
– Никто как бог! – прибавили другие мужики.
Подобных рассказов много довелось услышать нашим приятелям. Там семеро баб уселось в один плохой ботничишко, каждая с двухдневным запасом хлеба, – они отправлялись на барщину на горы, – и «господь знает как» перевернулись; известно, бабы. Там мужик весельце позабыл захватить; доеду, говорит, чай, и с колочком: смерть не хоцца домой ворочаться; поехал – и не доехал! У того ботничишко был худенький, словно решето, да думал – ничего: отольюсь, господь пронесет! Ан не пронес! Несправедливо было бы утверждать, что главную роль во всех подобных случаях играет беспечность. Как облило кругом да нечего перекусить, так поедешь и на дырявом ботнике. А бывает и то: пришли семеро к берегу, а ботник, глянь, всего один и не то чтобы ражий; вряд ли семерых поднимет, – где, чай, поднять! – не подымет! А дело вкруте, не стоять же у берегу, склавши руки! И так уж спозднились – чай, ждут! Сел один, другой, третий. «А мы-то как же, братцы? Уж ехать так ехать коли всем» – «Бог милостив! Бог милостив!» И поехали. И ведь, случается, проедут благополучно. Проехали сегодня – поедут и завтра. Из таких-то и им подобных элементов образуется то, что известно под общим именем «изумительной беспечности мужика».
По моему мнению, если уж дело зашло о беспечности, то ничего не могло быть беспечнее настоящего поведения наших приятелей, которым ничто не мешало воротиться и переждать разлив в ближайшем городе. Они и сами начинали так думать, напуганные рассказами мужиков и действительными опасностями плавания. Но теперь ворочаться было уже поздно. Да и надо признаться: если мужики были мастера пугать, то они также мастера были разрушать страх, минуя благополучно всё трудное и опасное в плавании.
Кто из тех, кому случалось в положении, подобном теперешнему положению наших приятелей, доверять свою особу русскому мужику, не сознается, что особа его была сбережена и доставлена, куда следует, если не самым безопаснейшим, то самым кратчайшим путем и притом в совершенной целости? Случилось, что какая-то овдовевшая барыня, отправляясь, по смерти мужа своего, петербургского лекаря, на жительство в деревню в огромной шестиместной карете, нагруженной детьми, гувернантками и нянюшками и собачонками, доехав благополучно до Вязников, встретила совершенную невозможность продолжать путь и добраться до своей усадьбы, лежавшей верст пятьдесят в сторону – где именно, не знала и сама владелица.
Около почтовой гостиницы, где остановилась барыня, собрались ямщики со всего города и пригородной слободы; судили, рядили, спорили о том, в которой стороне Коромыслово? На какие села и деревни должно ехать, чтоб попасть в Коромыслово? И можно ли добраться теперь до Коромыслова, так как там места низкие и разлив еще в полном развале (барыня ехала в одну пору с нашими приятелями)?
Наконец решили, что проехать туда невозможно, и все наотрез отказались. Но выискался один, который объявил, что он Коромыслово знает, что он возил туда в 1829 году какого-то барина, который пробыл там два дня, сменил старосту и уехал (барыня вспомнила, что муж ее действительно в этом году ездил в имение); в заключение ямщик объявил, что берется доставить барыню в Коромыслово, если ему хорошо заплатят.
Хозяин гостиницы и все остальные ямщики утверждали, что не довезет, а он всё стоял на своем. Горькая вдова, лишившаяся супруга, судя по совершенной еще чистоте ее траурного платья, не больше месяца, думала, думала, что ей делать – оставаться ли на целые три недели в городе или предаться на волю судьбы, – и наконец решилась ехать.
Ямщик взял славную плату, но действительно сдержал обещание, только ему пришлось работать дорогого едва ли не более, чем шести его лошадям; он переносил поодиночке членов семейства через каждое болото, которое встречалось на пути, шествуя со своей ношей иногда по пояс в воде и делая таким образом при каждой переправе по пяти концов взад и вперед, а надо сказать, что некоторые концы были иногда не менее полуверсты.
Мальчишка, правивший уносными лошадьми, мало облегчал его труды, а скоро и совсем сделался ему бесполезен, потому что барыня перестала доверять ему даже своих собачонок, после того как этот малорослый трусишка, забравшись на середину глубокого болота, так что вода подступила ему под мышки, разревелся благим матом, не смея ступить ни взад ни вперед, и выпустил из рук любимую барынину собачонку, крича во всю глотку: «Дядя Никита, тону! дядюшка! помоги… тону! тону! батюшки!» При этом зрелище отчаяние генеральши и всех остальных членов семейства выразилось раздирающими криками, соединенными с проклятиями ямщику и глупому мальчишке. Гувернантки, нянюшки, все члены семейства, малые и большие, частью уже перенесенные на другой берег, частью еще ожидавшие своей очереди у экипажей, составляя две отчаянные и живописные группы, простирали руки к погибающей Фанни, маня ее к себе и призывая нежнейшими именами: «Фанни, Фанни, Фанничка, Фанни! Сюда, Фанни! Сюда, голубушка!»
Этот концерт, составленный из детских и старческих, пискливых и грубых голосов, был такого свойства, что лошади, стоявшие на берегу, испустили громкое ржание и довольно решительно двинули экипаж. Но, к счастию, ямщик остановил их, закричав с середины болота, где он стоял по пояс в воде, держа над головой семилетнюю дочь путешественницы: «Куды, черти проклятые!.. тпрррр!..»
После этого крика лошади остановились как вкопанные и ямщик продолжал свой путь, – но… о, верх несчастий! толстая собачонка, сбитая с толку призывными криками с двух противуположных берегов, между тем чуть не утонула, бросаясь то в ту, то в другую сторону и не решаясь, куда пристать. Крики отчаяния усилились. Ямщик и тут поспел на выручку; поставив барышню на берег, он бросился в лужу и вытащил собачонку, прикрикнув мимоходом на своего фалетура: «У, мозгляк! иди у меня, а то я те…» И мальчишка понял. Эта сцена по своему величию и оригинальной обстановке стоила бы алмазного пера самого господина Евгения Сю, напоминая мужественного Дагобера, когда неустрашимый воин выносит на руках своих из разверстой бездны трепещущих Розу и Бланку, из какой-нибудь бездны, выкопанной под ногами сироток хитрыми иезуитами.
Перетаскав на другой берег всё население кареты, ямщик, весь мокрый, садился на козлы, нещадно понукая лошадей, и кое-как переправлял экипаж.
Таким образом он ехал эти пятьдесят верст трои сутки, не просыхая ни на минуту в течение их и делая каждый день по крайней мере пятнадцать верст пешком по болоту с более или менее тяжелой ношей.
Читатель! Если французский Дагобер умилял твое чувствительное сердце своею храбростью и неутомимостью, не будь несправедлив и к русскому. Впрочем, я еще не досказал развязки, которую сам слышал, проживая в то время в В<язника>х в почтовой гостинице, и которую потому мне непременно хочется рассказать.
Совершив свой поистине дагоберовский подвиг, ямщик воротился в город, вовсе не рассказывал о понесенных им трудах и даже неохотно отвечал, когда его спрашивали: «Ну что, довез?»
– А то не довезть, что ли?
– Велик разлив?
– Мал ли разлив.
– Как же ты с каретой?
– А что?
– Чай, вязнет?
– Чего вязнуть пустой?
– Пустой? А господа как?
– Чаво?
– В руках, что ль, переносил господ?
– А то как же?
– Чай, тяжело?
– Чаво?
– Нелегко, чай. Вишь, их артель какая была!
– Мала ли артель.
– Поди, намаялся?
Ямщик не отвечал.
– Много на водку дала?
Тоже молчание.
И только выспавшись и съев потом два обеда разом, состоявшие из щей с говядиной, каши и ситника с медом, Никита покинул вопросительную форму, в которую обыкновенно облекал свои ответы и с которою редко расставался, – и удовлетворил любопытству своих товарищей следующим дополнением: «Оно бы всё ничего – и дети и мамзели – всё такая жидень, что и говорить не стоит, – что с пером идешь! Да кабы не сама… ну, сама грузна, не приведи бог! Одинова как зашел я с ней посередь болота, а болото долгое, да топь такая, ногу так и сосет, – куда сила девалась! рученьки ломит, коленки подгибаются, ну, думаю, барынька! будет у те крику ужо, как, не приведи бог, опущу… И чуть вот одна минуточка еще – не вынесть бы, прощай бы, барыня, – опустил бы на самую что ни есть глубь, точь-в-точь как постреленок Гаврюшка, что со мной фалетуром был, – испугался да как бросит барынину собачку… крик такой поднялся… и, господи упаси! Одначе понатужился и ничего, вынес, только уж так маненечко не дошел: да думал – сухо, в сапогах не слыхать, – спустил, а она, вишь, башмак обмочила, как примется бранить… „Да что ж ты стал, – говорит, – не идешь за мамзель Ракуреи да за Фанничкой?“ А мне уж не до Фаннички, как пустил-то я ее – стою, а меня так вот и шатает и шатает. Смерть отдохнуть хочется, да, видишь, торопит: „Ну, скорей, – говорит, – надо засветло к ночлегу поспеть…“ И пошел».







