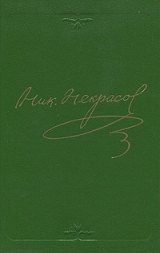
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
Хозяин
Тэк-с!
Гость
А родители приказали вам поговорить, если вы надумаете: больше тысячи станет, то они согласны у вас взять на всю свадьбу тысячу рублей – на свое распоряженье, на разные вины, и на разные закуски, и на обеды, и меду сварить, и на чай, и на сахар, и за свадьбу священникам отдать, и из посуды совершенно до вас ничего не коснется…
Хозяин
Тэк-с!
Гость
А чего сверх тысячи нидостанет, то они с вас ни копейки не потребуют. А ваше дело только приехать с Федором Васильичем и с ево женою, – сесть подле невесты, – а не с евтими людьми, с Васильевной и с Лексеевым! Тогда не стыдно будет пожаловать и Сергею Васильичу: угостим хорошими напитками!
Хозяин
Тэк-с!
(Слышно кряхтенье – он выпил, но уже не потчевал гостя.)
Гость
А и я выпью. (Пьет.)Так вот, Иван Герасимыч. Из платья с вас ничего не потребуем: снарядим сами! Постелю уберем в три перемены отличным манером, положим вас на Кобзев двор в каменные комнаты, а они у нас отделаны важно; постелю вам от нас примут наши сродники, как должно по обряду, и уберут ее. Вот если вы этким манером будете согласны, то приказали мне прийти с вами к родителям и переговорить, и посмотрите при наряде невесту. (Долгое молчание.)Так вот, Иван Герасимыч, можем сделать на Благовещенье запой, и вы не беспокойтесь сваху посылать – вот вам мои слова: если согласны будете, то я вашим буду сватом, а вы моим зятем. (Снова долгое молчание.)
Хозяин
Тысячу рублей – капитал, Федот Маркелыч. (Пьет и крякает.)
Гость
Нетто и мне выпить? Бальзамчик отменный! (Пьет и крякает.)А то поговаривает Васильевна за вас у нас свататься; лучше не посылайте, потому как батюшка на нее посмотрит, на эткую ловасть, да спросит ее, с каково она званья, а она скажет: кухарка, то он евто выведет, и выдет дичь палявая! Подельнее ее приходили, и то носец заворачивал! Етакой ли ходить сватать…
Хозяин
Тэк-с!
Гость
И то батюшка согласится отдать собственно по моей просьбе, потому я желаю вас иметь своим зятем и вы мне известны так, как на руках мои пальцы. (Молчание.)А Васильевна эта думает так, как она усватала Гирина, – так и теперь. Нет! Наша свадьба будет особенная; а на этой свадьбе если согласится она готовить кушанье, то мы ей отрежем платье! Так вот как надумаете?
Хозяин
А думаю.
Гость
Я вечерком побываю. Прощайте-с, наше почтение, Иван Герасимыч.
Хозяин (сухо)
Прощайте!
Гость
А когда не захотите и пожалеете тысячу рублей, то ищите невесту подешевле, а у нас женихи будут. Прощайте-с! (Уходит и возвращается.)А Васильевна эта думаит, так, как усватала она Гирина, так и теперь! Нет! Тут свадьба будет особенная, а тут если согласится она готовить кушанье, то мы ей платье отрежем! (Уходит.)
Хозяин
Думай не думай, а всё одно: не бросать же тысячу рублей на ветер! Нет, Евлампия Маркеловна! Недоросли вы, матушка, до тысячной свадьбы. (Бросается к двери.)Эй, поштенной, поименной!
Гость (возвращаясь)
Стало, надумали, Иван Герасимыч?
Хозяин
А надумал…
Гость
Так не миновать породниться…
Хозяин (не слушая его)
Что же деньги, поштенной? Куда как прыток! Пить пил, а расплатиться догадки нет. У нас даром ничего не дают; потому – постоялый двор. Много вас, подлипал!
Гость
Какие деньги?
Хозяин
А чай пил, а бальзам?
Гость
Так, стало, так, Иван Герасимыч?
Хозяин
А так, Федот Маркелыч. Еще Евлампия Маркеловна маненичко недоросли-с до тысячной свадьбы. А денежки отдай: чай – полтину, три рюмки бальзаму – сорок пять; всего девяносто пять копеечек.
Гость
Чай? Да с твоего чаю только горло ободрало. Хорош чай – с крашеным сахаром!
Хозяин
А нет, сахар был настоящий.
Гость
Не видал я, что ли? Что ни кусок, то синяя жила, словно синькой выкрашен, да и воняет.
Хозяин
Дудки, поштенной! Ну да чай – бог с ним. Положим, сам пошвовал! А бальзам: три рюмки – сорок пять. Твоя рука наливала…
Гость
Будет с те и гривенника, алтынная душа.
(Слышен звук брошенной монеты. Гость быстро уходит.)
Хозяин (кричит)
Васильевна!
III
Васильевна
Вот и я, кормилец, совсем при наряде, оделась; гляди: чем не купчиха?
Хозяин
Не ходила еще?
Васильевна
А нет. Только мадерки сходила купить да вот принарядилась.
Хозяин
Ну так и не ходи.
Васильевна
Что так, родимой?
Хозяин
А так, непошто! Не годишься, вишь, говорят, какая ты сваха: не знаешь порядков!
Васильевна
Что-й-то, и господи! Как не знать? И не то, так знаю… да и других поучу. И неужто он так сказал? Али, кормилец, повздорили, стало, с Федотом-то Маркелычем?
Хозяин (сам с собою)
В тысячу рублен, говорит, свадьбу справь да и денежки им в руки дай, вишь, нашли дурака. Нет, я не дурак, дай им тысячу, знаю: распорядятся – любо! Нет, жирно будет – тысячу. Деньги нынче в сапогах ходят! Нас не тому родители учили – деньги бросать.
Васильевна (всплеснув руками)
Тысячу рублей, эва! Что они, стало, с ума спятили. Невеста совсем подошлая, а свадьбу в тысячу играй! Ну, нынче народ! И получше найдем, Иван Герасимыч, и не тужи!
Хозяин
А что тужить! Дурак я тужить. Какая невеста! Только и хорошего было, что лавка шорная: доход теперича верный, да жеребчик карий – масть отменная, отлив больно хорош, словно золоченой!
Васильевна
Найдем, всё найдем, не то золоченого, настоящего золотого найдем! А уж Евлампия Маркеловна, я давеча только говорить не хотела, а правду сказать: какая она невеста такому молодцу да красавцу… Ведь не только зубов, и волос нет: коса-то дареная!
Хозяин
Как дареная?
Васильевна
А так. Вишь, с господами дружество повели, так и переняли. Слыхал, чай, про казначейшу нашу прежнюю: каков есть волос, по всей голове ни одного нет… а в люди выйдет – коса стог стогом, посмотреть любо! Ну вот она таку косу одну и подари Евлампии Маркеловне, и пошла наша купчиха туда же щеголять! Право, я доподлинно слыхала!.. Прибрать, родимой? Чайку больше не будешь пить?
Хозяин
Нет. А бальзаму не тронь. Изюм обратно снеси.
Васильевна
Ладно, снесу, только вот чайку прежде попью…
Хозяин
Мадеру сюда подай. Да платье, смотри, скинь: я, примерно, не к тому его подарил, чтоб ты в нем по товаркам таскалась, а вот, может, посватать придется…
Васильевна
Сниму, сниму, родимой. (Уходит и возвращается.)А вот и мадера. (Уходит.)
(Молчание; потом слышен звук откупоренной бутылки; опять молчание, и потом раздается протяжная песня,напеваемая не совсем трезвым голосом.)
* * *
– Каков разговор? – сказал Грачов своему приятелю, убедившись, что уже не будет продолжения. – Не правда ли, чудо? Если записать, выйдет маленькая комедия; право, я так и сделаю.
– Да, разговор недурен. Но, признаюсь, я не желал бы быть автором такой комедии.
– Почему?
– Да потому, что выйдет… подражание.
– Помилуй! Каким же образом может выйти подражание?
– А бог знает каким! Память легче удерживает слышанное или читанное, а ум безотчетно дает простор чертам, которые ему уже указаны, истолкованы, – вот отчего, я думаю, списывая происходящее, мы невольно подражаем тому, что уже происходило и было списано… разумеется, если нет дарования. А есть ли оно у нас с тобой – еще вопрос не решенный. Или, может быть, уж такая среда, что два-три мастерские снимка исчерпывают ее всю, и, сколько ни списывай потом, всё будет казаться подражанием и повторением. Впрочем, печатай. Такие вещи печатать полезно. Во-первых, потому, что нельзя же считать свой приговор безапелляционным, надо оставить что-нибудь и суду публики: может быть, она и найдет в твоей комедии что-нибудь новое. Во-вторых, потому, что всякий предмет уясняется только тогда, когда перестает быть достоянием ограниченного числа специалистов, как бы получивших на него привилегию, а в-третьих, потому полезно… что никому не вредно.
Громкий и хриплый голос, раздавшийся за стеной: «Васильевна! эй, Васильевна!», прервал разговор.
Пришла Васильевна, и отвергнутый жених потребовал чего-то. Приятели стали одеваться.
<Глава V>Наконец прибыли в Фоминку, обширное и богатое село, в котором друзей наших поразило одно обстоятельство: все строения были в нем новые; причина скоро объяснилась: месяца два тому назад всё селение выгорело, и крестьяне выстроились вновь, на что отпущено было каждому из них безвозмездно потребное количество лесу. Эти подробности приятели наши узнали от своего ямщика, который тут же объяснил им, что помещик в деревне не живет, а управляет имением один из его крестьян, живущий в Фоминке.
– А велико имение? – спросил Грачов.
– Да немалое. Во всей-то Адовщине, чай, тысяч шесть душ будет.
– Шесть тысяч душ! – воскликнул Грачов. – И мужик управляет!
– О какой ты упомянул Адовщине? – перебил его <Тростников>, обращаясь к ямщику. – Так у вас зовут деревни, принадлежащие к одной вотчине, что ли?
– Нет, а только деревни, что принадлежат к Алексею Дементьичу, так прозываются.
– Да почему ж так? Барин, что ли, дал такое прозвание?
– А господь знает. Вишь ты, раскольников у них много. Ну и прозвали, спокон веку так: адовщина да адовщина немрущая.
– А кто такой Алексей Дементьич? – спросил Грачов.
– Да он-то и есть управляющий.
– Хороший человек?
– Уж какой человек! Мужик то есть каких в редкость; кажись, и нет другого такого; приди малый ребенок – он с малым ребенком будет говорить,
– А строг?
– Как сказать? Да вот уж, почитай, тридцать лет сидит управляющим, пальцем никого не тронул, а строг, точно строг. И-и-и, беда у него, коли мужик фальшь какую сделает, – лучше и на глаза не кажись!
– Что же?
– Да так, беда, просто беда! И не приведи бог!
– Что ж, к барину отписывает, что ли? А барин-то, видно, того?
– И, нет! Куда к барину! Станет он барина беспокоить… Ему нечего к барину отписывать. Он сам то есть волен с ослушником распорядиться.
– Ну?
– Ну и распорядится… и выходит тоись плохо тому, кто порядков не соблюл, в чем ни на есть проштрафился.
– Что же то есть?
– Да так… – Ямщик остановился и долго думал. – С одного стыда сгоришь, – произнес он наконец скороговоркою и прикрикнул на лошадей, помахивая кнутом.
Как ни допытывался Грачов, расспрашивая о мерах строгости управляющего, ничего более ямщик сказать ему не мог.
– Все-таки я не понимаю, братец, – сказал он, желая заставить его выразиться определеннее. – Чем он вам так страшен: что такое за сила особенная?
– Чем страшен? Правдой страшен! – резко сказал ямщик. – Правдой страшен, правдой и силен! – прибавил он, как бы раздумывая сам с собою. – Да правдой же и люб, – заключил он вдруг, стегнув по всем по трем. – Эх, вы, соколики!
– Как так, правдой?
– Да уж так, – отвечал ямщик, обнаруживая явное нерасположение продолжать разговор с таким непонятливым слушателем.
Однако ж Грачов не оставил его в покое.
– Видно, он вас балует! – сказал он, пробуя ямщика с другой стороны. – Так вот вы его и хвалите.
– Кто, он, Алексей Дементьич, нас балует? – с жаром возразил ямщик. – Вишь, таковского нашел! Балует. Да он и самого-то себя небось не балует… Да и как ему нас баловать? Ведь он тоже человек подначальный.
– А что ж, может, и барин добрый, так вот и терпит.
– Да что терпеть, нечего терпеть! – заговорил ямщик, задетый за живое, к удовольствию Грачева и его товарищей. – У нас тоись, как он стал управляющим, с того тоись дня ни казенной, ни господской недоимки, тоись каков есть медный грош, не было. Так что тут, выходит, терпеть? А барин точно добрый. Видишь ты, прежде мы были то есть другого барина, а теперешнему достались вот с зимнего Николы тринадцатый год пойдет… Вот как стал новый барин – он было прислал управляющего – барин, что ли, какой тоже, ну, известно: не первый сорт; как его? Мудреное такое прозвание, Едуард Кондратьич, что ли… Ну и тоже добрый, нечего сказать… Да как стал он свои порядки вводить – так и пошло всё через пень колодой! Не то чтобы и строг, да господь знает отчего? Пошли недоимки, у крестьян промеж собой тоись всякие свары да перекоры… и не приведи бог! Сроду стыда такого не было, чтобы кто из Адовщины с кошлем ходил, а тут, видишь, уж как оно сталось, – гляди, иной последнюю коровушку с двора ведет: податей нечем платить. А мужики все справные, заживные… Бились так-то с год с новым управляющим, и его тож, сердечного, жаль; совсем, сердечный, голову потерял, извелся, похудел даже немец – вестимо, вотчина большая! Думали, думали, – собрали сход: и порешили идти к барину просить старого управляющего. Пошли то есть человек двадцать – всё народ на выбор богатый да толковый… Барин послушался – потребовал к себе Алексея Дементьича да как поговорил с ним, так тотчас и послал его к нам: будь же ты, говорит, у меня управляющим, мне другого не надо. Ну и пошло опять всё, что любо посмотреть. Так вот он каков у нас, Алексей Дементьич! – с гордостью заключил ямщик.
– Что ж он колдовство, что ли, какое знает, по-твоему, – простой мужик, поди и грамоте плохо учен, и получше немца управил?
– Нет, не колдовство знает, а бога боится да мужика бережет, – отвечал ямщик.
– Как солдатство у вас? Видно, солдатством он держит вас?
– У нас солдатство известно как: коли нет, кто бы охотой за вотчину шел, так очередь… В каждой теперича деревне объявит то есть через старост, так и так, дискать: набор, – собрали, бы, дискать, сход да порешили промеж себя: кому – и дали бы знать в контору – к такому-то, понимаешь, времени…
– Ну и что же?
– Ну, мир и решит кому: кого, выходит, но очереди, кого за вину какую, кто сам пожелает… а коли спор какой выйдет, так жеребей кинут. Таким-то манером порешат и дадут знать в контору… А сам Алексей Дементьич и но вступается в мирские дела. Ему лишь бы правда была. Да у нас и всякое дело мир решает. Сбор ли какой ненароком случится, перемена ли какая по земле – велит собрать мир: расскажет, в чем дело, – и как мир решит, так и он.
– А так, чтобы взять то есть с богатого мужичка да вместо него бедного поставить, не водится? – спросил Грачев.
– Коли водиться! Да мало того сам, а коли узнает только, что фальшь нам сделал другой, – не приведи бог. Да вот третьего года случай вышел; подлинно вся вотчина сокрушалась – да уж так, видно, было господу богу угодно. У него, понимаете, у самого три сына. Вот как пришел набор – ну, мужики со всех деревень и повестили, как следует, в контору, кому тоись очередь приходит, по мирскому приговору. Только вот наше-то село, фоминские, не подают повестки, сходятся каждой день, гуторят, спорят, а всё не решают – и уж Алексей Дем<ентьич> понуждение раз и другой сделал, а они всё мешкают. А дело, видишь, было такое, что выходила очередь сыну его родному. Вот мир, понимаешь, и стал в тупик; судили-судили, рядили-рядили да и порешили наконец, что пропустить тоись сына-то Ал<ексея> Дем<ентьича> и сдать, который в порядке, слышь, за ним следует: Михеева сына Силантия. Ну и подали весть в контору, а промеж себя тоись строго положили: молчок! и чтобы Силантий не ртачился да горла не драл, награду ему положили, и большую, а не то, мол, коли станешь у нас горло драть, и так уйдешь, стало, лучше молчи! Ну, и молчит парень…
Собрался, двести рублев мужики ему надавали, всё, почитай, матери отдал, и старуху уломали молчать. Ну, так бы и сошло дело, да как уж совсем собрались везти его в город сдавать, старуха-то и не выдержи; подняла вой, хлопнулась; в ноги Ал<ексею> Дем<ентьичу> да всё ему и рассказала: за твоего сына, говорит, идет! Как рассердился Ал<ексей> Дем<ентьич>, мы тоись никогда его таким не видели, словно гром, голос его по миру прошел; душегубцы, говорит, криводушники! И тоись тут же пятого человека со всего миру розгами хотел наказать… Да,! спасибо, уходился – покричал, покричал – и ни словечка; словно у него язык вдруг отнялся; этак с полчаса будет, я думаю, всё стоял перед всем миром, голову потупивши, да как вдруг закричит: «Гришуха (так его сына звали), полно ободья гнуть (они торгуют санями, так Гришуха ту пору на задворках гнул ободья), будет-ста, собирайся в город! Да у меня, смотри, живо!» И Силантия велел ослободить… Выборный было к нему: «Кого же, мол, Ал<ексей> Д<ементьич>, прикажешь вместо Силантия?» Молчит, не твое дело! А сам такой строгий. И хозяйка его вышла. «Гришуху, – говорит, – в город посылаешь?» – «Да, – говорит, – сам повезу», – и ничего больше и ей не сказал. Да, знать, сердце у старухи сказалось: как взвоет она да как бросится ему в ноги: «Что, мол, хочешь делать, родное детище губить!» – «Молчи, – говорит, – старуха,) ты дела не понимаешь!» И всё торопит: скорей да скорей. Собрался старик, и сын собрался, старуха так вот и убивается: «Скажи-де да скажи, не видать, что ли, мне больше моего! ясного соколика, Гришутку-то моего?» Молчит, погрозил старухе: «Я те, – говорит, – в клеть запру, коли будешь бабиться. Вынеси, – говорит, – икону, благослови да проводи с Христом да с! богом». В горницу вошли (а у него горницы важные, вот увидите: когда становой ли приезжает, проезжие ли господа, всегда у него останавливаются и уж как хвалят), и весь народ не выдержал, тоже хлынул в горницу. Взял он образ и старухе велел взять другой. «Молись!» – говорит сыну. Сын положил три земных поклона и) потом в ноги отцу и матери… И тут уж как стал он его благословлять и говорить таково жалобно да складно, – так весь мир в слезы – всех прошибло – и мужики тоись многие подошли к нему, в пояс кланяются и говорят: «Сами пойдем, детей служить пошлем, только не замай ты сына родного…»
Ямщик остановился: нельзя сказать, затем чтоб отереть слезу (слезы едва ли были на его глазах), но в голосе его было что-то такое, что говорило, что он тронут более чем до слез.
– Ну и что же?
– Ничего не помогло! Свез сына в город да сам и сдал в некруты, – коротко окончил ямщик.
Последовало продолжительное молчание. Теперь только поняли наши путешественники выражение ямщика «правдой страшен, правдой силен». Заинтересованные этим необыкновенным стариком, они пожелали его видеть. Грачев сказал:
– Ты говоришь, что к Ал<ексею> Дем<ентьичу> заезжают проезжие господа?
– Как же, заезжают. Намедни губернатора возили в Муром – у него же останавливался. Попытайтесь.
– Не обеспокоить бы его?
– А не знаю как. Он добрый такой. Чай, не откажет.
– Ну так вези нас к нему.
– Так его сын и ушел в солдаты? – сказал <Тростников>, возвращаясь к прежнему разговору.
– Так и ушел.
– Да что ж ему за охота была сына отдавать? Ведь, чай, у него деньги есть. Мог бы купить рекрута?
– Да уж так, видно, судьба. Сам барин, говорят, жалился, как узнал, – и ему, слышь, пенял крепко: я бы, говорит, своих денег не пожалел. Да, вишь, мужики-то пока прохлаждалися на мирских сходках, время той порой подошло так вкруте, что уже некогда было думать покупать некрута: вези да ставь! Вот и поставили. Да бог, вишь, не оставил старика за его правоту. Вот третьего года Гришуха был в побывке: бравый такой молодец – и крест уж у него на груди. «Я, – говорит, – братцы, на свою судьбу не жалюсь: можно, – говорит, – и солдату жить».
Так разговаривая, приятели наши прибыли в село, сопровождаемые сотнею ребятишек, сбежавшихся со всего селения, и подъехали к дому управляющего. Ямщик остановился и, поочередно запустив пальцы в рот лошадям, дал им, как он выражался, профыркаться.
Грачов отправился к управляющему. Жилище его состояло из большого деревянного флигеля, крытого тесом и снабженного довольно большого размера светлыми окнами. Через крылечко с навесом войдя в небольшие сени, он увидал две двери – одна вела направо, другая налево. Не встречая никого, Грачов толкнулся в дверь налево, отворил ее и остановился на пороге. Глазам его представилась сельская контора, находившаяся на ту пору в полном составе своих членов вокруг большого письменного стола, покрытого полинялым зеленым сукном. Заседало несколько мужиков с бородами. На столе находились все принадлежности для письма, несколько счетных книг, господская печать. В углу, под образами, стоял огромный сундук, окованный железом; у стены шкаф, на ту пору раскрытый, в котором помещались кипы бумаг и толстые шнуровые книги. В простенке между двух окон помещался портрет государя императора. Против этого простенка на главном месте сидел человек лет шестидесяти пяти; ростом он был невелик, худощав, сед как лунь и бел лицом необыкновенно; он что-то выкладывал на счетах, и Грачов невольно заметил, что рука его, отличавшаяся такой же мучной белизной, как и лицо, мала и красива, как женская. Но правую руку его сидел высокий черноватый парень лет тридцати в коричневой свитке – это был решительно красавец; по левую руку седенького старичка помещался другой парень в синей сибирке; по ухарской манере, с которою он держал перо в руке, прислушиваясь к словам старика, тотчас видно было, что он мастер писать, и точно: то был писарь Потанина, земский, как их называют в наших сельских управлениях. Прочих лиц ассамблеи Грачов не успел рассмотреть, потому что седенький старичок, привлеченный появлением его, встал и повернулся к двери. Грачов поспешил предупредить его недоумение вопросом:
– Извините. Я проезжий. Еду в свое имение, здесь неподалеку, и желал бы видеть на минуту Алексея Дементьевича, если можно…
– Отчего не можно, – отвечал старичок и, сказав что-то своему соседу справа, продолжал: – Пожалуйте.
Он вышел в сени и, указывая Грачову на противоположную дверь, обязательно повторил:
– Пожалуйте, пожалуйте, милости просим!
Жилище Потанина (читатель догадался, что седенький старичок, встретивший Грачова, был сам Потанин) напоминало) убранством своим постоялые дворы средней руки, встречаемые в уездных городах и больших селах, с одним только исключением: в нем было столько же чисто, сколько в постоялых дворах такого рода бывает грязно. Два дивана и дюжина стульев, обитых кожей, простой стол и два ломберных, образа в серебряных ризах в переднем углу, на стенах литографии – издание господина Логинова – религиозного содержания и гербовник Российской империи, занимавший весь простенок между двумя окнами, – вот убранство комнаты, в которую ввел Потанин своего гостя. Сказав старику свое имя и цель путешествия, Грачов объявил, что с ним есть два приятеля, которые также были приглашены в комнату, после чего старик исчез и не появлялся с четверть часа.
Вошел высокий парень, тот самый, которого видел Грачов в конторе, по правую руку старика, накрыл стол и поставил чашки; потом он принес самовар.
– Да вы, пожалуйста, не хлопочите сами, Ал<ексей> Дем<ентьевич>, мы, кажется, помешали вам, – сказал Грачов. – Пожалуйста, не церемоньтесь с нами. Мы люди дорожные, сами распорядимся. Вас, может быть, ждут в конторе…
– Ничего-с, ничего-с, не извольте беспокоиться. Мы уж всё покончили – только хотели запирать контору.
– Запирать! – заметил <Тростников>. – Да вы, я думаю, только сошлись. Всего седьмой час!
Потанин улыбнулся.
– Нет, мы сошлись, чуть солнышко встало, – сказал он. – Теперь пора рабочая, так иной раз и до солнышка отпираем контору: мужик но барин, ему не рука дожидаться, каждый час дорог. Коли пришел по делу по какому, – опросил его поскорей, в чем, примерно, нужду имеет, и отпускай с богом, а держать не приходится!
– Так, – сказал Грачов. – А много, я думаю, у вас хлопот: вотчина немалая, говорят: шесть тысяч душ!
– Да, шесть тысяч душ, – сказал Потанин, – шесть тысяч как есть.
– Признаться, мы подивились, когда узнали, что вы один управляете такой огромной вотчиной.
– Как один? – возразил Потанин. – Помощники есть: два выборные, два земские, старосту в каждой деревне имеем; рассыльных и почтарей при конторе держим.
– Оно так, а всё же вы всему голова.
– Как есть. До всего сам должен дойти. Ну да ведь и делать больше нечего: оброку избавлен; только и думы, чтобы управить, как поскладнее…
– И управляетесь?
– Да пока бог грехам терпит, управляемся, в добрый час молвить…
– Говорят, у вас и недоимок нет?
– Нет, батюшка. Да и с чего им быть? Оброки небольшие; нашим мужичкам нужно бога молить: господа добрые…
– В вашей стороне, как мы вот поспрашивали дорогой, оброк; во многих вотчинах не больше, однако ж, как послушать, так далеко до вашей исправности…
– Господь знает, отчего так, – отвечал Потанин. – Кажись, народ всё один и угоды одни.
– Вот тут-то, Алексей Дементьич, и видна разница в управлении. Значит, управлять не умеют!
– Да чего тут не уметь? – возразил Потанин. – Нашим мужиком то есть малый ребенок управит, да он и сам-от что малой ребенок; ему только надо растолковать да вразумить его, а коли он вразумится, так вот те и всё: против своей пользы не пойдет, стало, и хорош будет.
– Всё так, да вразумлять их трудно!
– Как примешься; конечно, не знаючи да не умеючи, ничего не сделаешь. А прежь всего правда; коли он видит, что по правде требуешь, так небойсь: в ину пору, коли нужда приведет, он и) то сделает, чего и сам не чает, что сделать сможет. Сказал: нельзя иначе, братцы! и примерно растолковал им, почему-де иначе нельзя, – ну, глядишь, и сделано. У нас народ богобоязный и господ почитает…
– А всё же иногда, я думаю, необходимы меры строгости, – заметил <Тростников>. – Вот что меня удивило: у вас, говорят, так и пальцем никого не трогаю<т>.
– По мирскому приговору, – отвечал Потанин, – случается не то что пальцем, и прутиками постегают, да я в мирские дела не вхожу: на то мир! Сегодня, примерно, мир мужика наказал, а завтра он то есть приходит ко мне, я и знать ничего не знаю: он у меня всё тот же, каким был и как есть другие; а уж какой он будет мужик, коли я сам его накажу и ему, как придет, – куда глаза девать, места не сыщет; мужик, мужик, а тоже стыд иметь должен, а потерял стыд, так куды он годен, да и; мне какой уж с ним толк: будет ли слово мое силу над ним иметь, коли он, примерно, в моих глазах срам принял? С таким нечего и слов терять. Да, спасибо, таких бог миловал…
– Ну, я думаю, в семье не без урода, – заметил Грачев.
– Конечно, так, что говорить. Да я таких и не знаю. У меня вся вотчина как один человек.
Потанин замолчал; приятели наши тоже молчали, раздумывая о слышанном. В рассказе его многое показалось им невероятным, и, однако ж, факт был налицо: перед ними сидел простой русский мужичок, едва знающий грамоте, который с помощью одного здравого ума и знания среды, в которой мудрая проницательность владельца дала поприще его деятельности, управлял шестью тысячами подобных себе, действуя исключительно кротким словом и добрым толком и достигая результатов благодетельных и прекрасных: стар и мал любили его как отца и всё кругом него благоденствовало и благословляло судьбу свою. [8]8
Факт этот не сочинен и в главных чертах совершенно верен действительности, желающий может при случае удостовериться в нем. Имение, о котором здесь говорится, находится во Вл<адимирско>й губернии в Г<ороховско>м и смежных уездах и принадлежит одному из русских вельмож. До какой степени помещик умел оценить этого замечательного крестьянина, видно из той постоянной доверенности, которою он удостоивает его. В последнее время П-нин, по старости и болезни, просил увольнения от своей должности; помещик прислал ему отпускную и некоторые награды, но на просьбу его согласился только вполовину: дозволив ему сдать управление старшему по нем, он оставил П-ну главный надзор за управлением, облегчив таким образом труды старика.
[Закрыть]
– Зато уж как ваши мужички а любят вас, – сказал Грачов.
– А за что им не любить меня? Худого я им ничего не сделал. Супротив правды с ними не поступал. Храни бог!
– Однако ж мы слышали: дорогонько вам стоит любовь их, – заметил Грачов, вспомнив рассказ ямщика о сыне Потанина. – Вы им родным сыном пожертвовали!
– То есть как пожертвовал? Жертвуется то есть, коли дается по доброй воле, а тут закон. Так следовало, и так богу угодно было. Сыновей у меня трое: один и пошел за семью царю служить… и служит, – прибавил старик, по лицу которого пробежала легкая тень задумчивости.
– А всё же, я думаю, жаль было? Старик помолчал.
– Старуха много ревела, – наконец сказал он, – да их дело, известно, бабье.
– Однако ж, Алексей Дементьич, правду сказать: в вашем положении легко было избегнуть…
– Избегнуть? То есть как: очередь миновать? Чего легче! Стоило, примерно, так счесть (и старик по<ка>зал пальцами): первый, другой (тут он пропустил средний палец и, пригнув следующий, договорил), четвертый… хе-хе!
Он засмеялся тихим серебряным смехом и продолжал:
– Немудрено, да и та еще выгода: счет спорей пойдет. Хе-хе! Да только что народ скажет? Скажет: «А где же третий?» – «Да третий-от, братцы, мой, так вы' его не замайте!» Ну и не тронут, да завтра что будет? Завтра опять, глядишь, пойдет счет на ту же стать – первый, другой… четвертый – и опять: моего не замайте! Да как вся-то вотчина закричит: моего не замай! Так тут что?.. И какой ответ я тут дам? Как взыщу? Коли сам со счету всех сбил, так не спрашивай, зачем криво считают? Хе-хе! Хорош счетчик, в пяти пальцах заплутался, а еще других брался считать обучить… хе-хе! – Старик опять посмеялся и окончил: – Очередь святое дело, храни бог сбиться! Все мы равные у помещика. Последний мужик в вотчине покоряется очереди – жертвует, по-вашему, – так, стало, я был бы, выходит, хуже последнего мужика…
– Ну вы бы как-нибудь будто ненароком сбились! – сказал Грачов с сладкой улыбкой. – Ведь нельзя же не сознаться: своя рубашка к телу ближе…
– Ненароком? – возразил Потанин с жаром. – Нет, уж коли бы думно; было то есть душой покривить, так уж делай, выходит, прямо. А то ненароком! Нет, стало, не знаете, что такое мир, – мир в потемках видит, за тысячу верст слышит… Хе-хе! Обмануть мир! Не приведи бог никого обманывать, а коли одна голова да целый мир думаешь провести – так, стало, в той голове не только, выходит, правды, – в ней, значит, и разуму нет! – заключил Потанин с особенным ударением.
– Ну, наш мужичок довольно прост, – заметил Гр<ачов>, желая вызвать возражение старика.
– Прост? – с улыбкой отвечал Потанин, очевидно угадав неискренность этого замечания. – Шутите, барин! Вот бог приведет, поживете в деревне, сами увидите, как он прост!
Разговор продолжался, но с которой стороны ни заходили приятели наши к старику, они уже ничего более не могли узнать касательно главного вопроса, интересовавшего их, именно касательно его системы управления огромным имением. И не потому, чтоб старик таил что-нибудь: простота этой богатой натуры сохранилась так целомудренно, что, казалось, мысль скрывать что-нибудь не могла прийти и в голову старику; он не видел в том не пользы, ни нужды, но, в сущности, и говорить ему было больше нечего: в главном он совершенно высказался, что ж касается до частностей, то он так свыкся с своим делом, постоянно пребывая в нем всей деятельностью своей души, что не видел в этих подробностях ничего особенного, ничего такого, о чем стоило бы говорить, хотя, нет сомнения, эти подробности представили бы много любопытного и уяснили бы характер самого Потанина. Приятели наши догадались, что за дальнейшими сведениями нужно адресоваться к лицам посторонним, и прекратили свои расспросы. Продолжая беседовать со стариком (он был любопытен и в свою очередь закидал их вопросами о Петербурге, преимущественно о тамошнем климате, о пароходах и железной дороге, о сравнительной ценности различных житейских потребностей, о холере), они имели много случаев дивиться его ясному уму, здравому смыслу и быстрой сметливости.! Они заметили тоже, что старик был глубоко религиозен, и узнали, что он уже седьмой год не брал в рот мясной пищи, строго исполняя обет воздержания, наложенный с отдачи сына в рекруты. Вина он не брал капли в рот, но любил чай и пил его много. Жена его, появившаяся на несколько минут и ни слова не сказавшая, была простая русская баба, в сарафане и повойнике. Сыновей на ту пору не было дома. Один ловил рыбу, другой услан был в ближайшую деревню Баландино по делу, касавшемуся наших приятелей.







