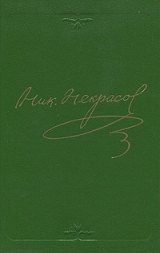
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
Роман – одно из самых крупных прозаических произведений Некрасова, в котором отчетливо прослеживаются две сопряженные темы – тема дворянского либерализма и тема крестьянства. Особенность романа в том, что либерал Грачев сопоставлен, с одной стороны, с крестьянством, с народной массой, а с другой – с подлинным демократом Тростниковым.
Центральный конфликт романа – столкновение отчетливо демократических воззрений и симпатий Тростникова со взглядами помещика Грачева, отличающимися поверхностным либерализмом. Тростников, в противовес Грачову, усматривает в крестьянстве здоровые нравственные силы, видит в труде, быте, в рассуждениях и чувствах крестьян поэтическое начало. Более того, рассказом о Потанине Некрасов намекает на необходимость преодоления социальных противоречий в духе идеалов крестьянства, жаждущего справедливости. Чувство справедливости возникает у крестьян из их отношения к труду, к окружающей их природе и друг к другу. Демократизм Тростникова чужд Грачеву, который отказывает крестьянам в поэтических чувствах и ссылается при этом на авторитет петербургских друзей. Понимая, что умеренные либералы, несмотря на их образованность и ум, примут сторону Грачева, Тростников, однако, остается верен своим убеждениям. Так, уже в середине 1850-х гг. утверждаются демократические позиции самого Некрасова, формулирующего принципиальное различие между ним, будущим поэтом революционной демократии, и дворянскими либералами. Критика непоследовательности демократических устремлений либералов не перерастает еще в романе в суровое обличение, но она уже отчетливо присутствует в нем.
Название романа («Тонкий человек…») иронично. В. Е. Евгеньев-Максимов, С. Г. Лазутин, А. Н. Зимина и другие исследователи выяснили содержание понятия «тонкий человек» (мнимая «тонкость» чувств, показная галантность обхождения, якобы энциклопедическая образованность, неоправданные притязания на значительность, исключительная самовлюбленность, праздность и полная неспособность к труду и какому-либо общественному действию). В результате неоднократного соотнесения Грачева с крестьянским миром обнаруживается совершенная чуждость «тонкого человека» народной жизни, полное незнание ее. Картины путешествия оттеняют барскую природу либерала.
Крестьянская тема раскрывается в романе в разных планах. Нищая крепостная деревня, сметливый народ и живущая в нем жажда лучшей доли – вот проблема, волнующая Некрасова. В «Тонком человеке…», пожалуй, впервые затронута также тема крестьянского счастья. С этой точки зрения значительно изображение идеальной крестьянской общины и управляющего ею мужика – Алексея Потанина. Крестьянский мир держится «правдой». Потанину доверена власть исполнительная. Он опирается на общину, как верно писал М. М. Гин (указ. соч., с. 18), которая осуществляет высшую, законодательную власть. При этом Потанин глубоко религиозен и верен помещику. Следовательно, Некрасов в начале 1850-х гг. в какой-то мере разделял утопические иллюзии. Важно, однако, что он верит в нравственное чувство народа, в его способность к самоуправлению. Но народнические утопии, вера в возможность мирного, через «общину», решения крестьянского вопроса, отразившиеся только в данном романе, вскоре разочаровывают Некрасова. Однако поэт навсегда сохраняет веру в силу «мира», в разумное решение народного коллектива.
Наряду с темами дворянского либерализма и крестьянства, существенна намеченная в романе тема буржуазных отношений («За стеной»). К. К. Бухмейер отметила драматическую напряженность сцены, ее реализм и великолепный язык, и это позволило ей сделать вывод о том, что сцена «За стеной» – новый этап в развитии Некрасова-драматурга (см.: Некрасов и театр. Л.-М., 1948, с. 199–206 (глава XII принадлежит К. К. Бухмейер)). [27]27
Реальный комментарий к главам I–IV части первой романа см.: наст. изд., т. VII, с. 612–615.
[Закрыть]
…на степах литографии – издание господина Логинова… – В. В. Логинов – московский издатель лубочных картин и книг; книгопродавец.
…как сидел капитан Кутль… – Кутль – персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).
– Ах, братец, так ты, выходит, вахлак!.. – Кроме наиболее частого значения слова «вахлак»: «неуклюжий, грубый, неотесанный» – имеется и другое: «ленивый», «неповоротливый».
…по примеру господина Евгения Сю, нам бы следовало поставить точку и обратиться к «прочим действующим лицам романа»… – Эжен Сю (1804–1857) – французский писатель, автор популярных в 1840-е гг. романов с запутанными сюжетами и большим числом действующих лиц.
Межень– средний уровень воды, который устанавливается в июне после половодья до начала засухи.
…имеем удовольствие ехать с русским Леандром… – Герой греческого мифа Леандр – юноша, влюбленный в Геро, жрицу храма богини любви и красоты Афродиты, и ради свидания с ней каждую ночь переплывавший Геллеспонт.
…о чем читывал он у Дюмон-Дюрвиля, Жакмона… – Жюль Себастьен Дюмон-Дюрвиль (1790–1842) – французский мореплаватель; совершил два кругосветных путешествия, исследовал и описал берега Новой Гвинеи и Новой Зеландии; Виктор Жакмон (1801–1832) – французский путешественник; изучал горные районы Европы и Индию.
Мальчишка, правивший уносными лошадьми… – Имеется в виду первая пара лошадей в упряжке четверкой.
…прикрикнув мимоходом на своего фалетурь… – Фале-тур – искаженное «форейтор», т. е. кучер, сидящий верхом на передней лошади, при запряжке цугом (гуськом), и правящий первой парой лошадей.
…напоминая мужественного Дагобера, когда, неустрашимый воин выносит на своих руках из разверстой бездны трепещущих Розу и Бланку… – Речьидет о персонажах романа Э. Сю «Вечный жид» (1844–1845).
…не противился переселению крестьян на «полону»… – «Полона» – по всей вероятности, диалектное слово, проникшее в район Оки из украинских и белорусских говоров и обозначающее возвышенную незаливную часть левого берега реки. В Поочье зафиксировано несколько словообразований с этим корнем: «левый верх Полочной,р. Полоница,р. Полонец,р. Полоненка»(см.: Нерознак В. П.Названия древнерусских городов. М., 1983, с. 138–139). О происхождении этого названия и эволюции его семантики в других славянских языках и диалектах см.: Толстой Н. И.Славянская географическая терминология. М., 1969, с. 74–88.
– Ты начинаешь рассуждать, как готтентот… – Слово «готтентоты» в XIX в. служило общим наименованием целого ряда племен Юго-Западной и Южной Африки.
…думал положить его в лоск. – Лоск – плоская низменность; положить в лоск – сразить наповал (Даль, т. II, с. 268). С. 391. … позумент по плечам, поярковая шляпа… – Позумент – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма, обшивка; поярковая шляпа – сотканная или свалянная из поярка (шерсти ярки – овцы).
О, дружба, это ты… – концовка стихотворения (четверостишия) В. А. Жуковского «Дружба» (1805).
…зоилу – повод к удачному сарказму… – Зоил – греческий ритор, живший за 250 лет до н. э. и рьяно порицавший Гомера; имя его сделалось нарицательным обозначением всякого озлобленного, желчного критика.
Не из тех ли они, которым «без волненья внимать невозможно»? – цитата из стихотворения Лермонтова «Есть речи – значенье…» (1840).
…неблагозвучные слова – ерник, шильник, шаромыжник, мазурик… – Ерник – беспутный человек, бездельник; шильник – мелкий плут, надувала; шаромыжник – плут, обманщик, любитель пожить на чужой счет; мазурик – мелкий воришка, промышляющий на ярмарках и торгах, а также наглец, нахал, зубоскал.
…колеса вязли по ступицу… – Ступица – центральная часть колеса, металлическая или деревянная болванка, на которой укрепляются спицы и в середине которой находится отверстие для насаживания колеса на ось.
…господа с самого с испода! – Это же выражение см. в романе о Тростникове (с. 106).
…множество мошников, расшив… – Мошник – мелкое речное судно; расшива – деревянное плоскодонное парусное судно, предназначенное для перевозки различных грузов в бассейне Волги.
…безграмотной надписью, намалеванной суриком по синему полю… – Сурик – красно-оранжевая (свинцовый сурик, окисел свинца) или красно-коричневая (железный сурик, окись железа) краска.
Мокшан… – Мокшан – речное несамоходное деревянное судно. Название получило от реки Мокша (притока Оки), где строились суда подобного типа. В. И. Даль отмечает такую особенность этого судна, как «крыша конем» (Даль, т. II, с. 340). Употреблялось для перевозки хлеба, железа, смолы, глиняной посуды и т. п.
…рисовалась картина деревенского свидания перед разлукой во вкусе господина Тургенева. – Имеется в виду входящий в состав «Записок охотника» рассказ «Свидание» (С. 1850, № 11).
«В тот же день часов в одиннадцать утра…» *
Печатается по черновым автографам ИРЛИ и ГБЛ.
Впервые опубликовано: Нива, 1917, № 34–37, под заглавием: «Каменное сердце», данным К. И. Чуковским (перепечатано в кн.: Некрасов. Тонкий человек, с. 231–268).
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VI, с. 454–483, под названием: «Как я велик!».
Черновой автограф, без начала и конца, без заглавия и даты, помеченный цифрой «II», с большим количеством исправлений и зачеркиваний, с дополнениями на полях, написанный чернилами на двойных листах большого формата, причем отдельные листы имеют авторскую нумерацию («12 (исправлено на „14“) – 23»), – ИРЛИ, ф. 203, ед. хр. 9, л. 1-20.
Черновой автограф отрывка: «Но сильнее ужинов, мелких услуг и лести совсе сочувствователи знали о гениальной повести», без даты, с основательными исправлениями, вставками на полях, с авторской нумерацией: «24» – ГБЛ, ф. 195, М 5757. 1, л. 1; опубликован: Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6. М., 1940, с. 20–21.
Черновой автограф четырех набросков – ГБЛ, ф. 195, М5764, л. 87 об. – 88; опубликован: ПСС, т. XII, с. 102.
Найденная К. И. Чуковским черновая рукопись (ИРЛИ) представляет собой фрагменты незавершенной повести Некрасова, относящиеся, судя по помете: «II», к главе II. По-видимому, рукопись является первоначальной редакцией главы II: не все имена действующих лиц установлены в ней окончательно и поэтому не могут быть унифицированы. Один из них, Чудов, в середине повествования именуется Тихоном Васильевичем Тростниковым, Мерцалов – Ветлугиным, далее Мерцалов – Ветлугин превращается в Лыкошина; фамилия Решетилов дана нескольким разпым персонажам. В рукописи есть недонисанные фразы и пропуски. Например, в середине фразы, начинающейся словами: «Я начал прекрасную книгу» (с. 413), – название книги не обозначено, но для него оставлено место. Местоположение отдельных фрагментов рукописи устанавливается по смыслу.
Заглавие «Каменное сердце» было дано К. И. Чуковским в связи с том, что именно об этом произведении идет речь в автографе. Название «Как я велик!» возникло после сообщения М. К. Лейке (в рецензии на книгу К. И. Чуковского «Неизданные произведения Н. А. Некрасова». Пб., 1918) о существовании литографированной в 16-ю долю листа книжки с титулом: «Н. А. Н. „Как я велик!“. Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова. 1884. Не продается», состоящей, по утверждению рецензента, из пяти глав, одной из которых является глава, опубликованная К. И. Чуковским (Книга и революция, 1920, № 1, с. 34–36, подпись: «М. Маврин» – псевдоним М. К. Лемке). Свидетельство М. К. Лемке оставалось единственным источником сведений о «пермском издании». Предпринятая В. Е. Евгеньевым-Максимовым и другими исследователями попытка разыскать издание «Как я велик!» не увенчалась успехом (см.: Шестериков С.Ненайденная повесть Некрасова «Как я велик!». Библиографическая загадка, – ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 611–613; Евгеньев-Максимов В. Е.Все еще не разысканная повесть Н. А. Некрасова «Как я велик!» (Некрасов в борьбе против Достоевского и дворянских либералов). – Вестн. Ленингр. гос. ун-та, 1949, № 8, с. 63–64). Сообщение в 1949 г. пермского краеведа А. К. Шарца о том, что книга Н. А. Н. «Как я велик!» находилась в 1932–1937 гг. в его библиотеке и затем оказалась утраченной (см.: ЛН, т. 53–54, с. 587), также не подтвердилось дальнейшими поисками исследователей.
Сомнение в существовании «пермского издания» высказывали неоднократно многие литературоведы: А. Н. Лурье (см.: ПСС, т. VI, с. 573); С. А. Рейсер (см.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 3. Саратов, 1962, с. 249); М. М. Гин (см.: Гин М. М.Достоевский и Некрасов. (Два мировосприятия). – Север, 1971, № 11, с. 107–108); К. И. Чуковский (см.: Чуковский К. И.Несобранные статьи о Н. А. Некрасове. Калининград, 1974, с. 81–82); А. М. Гаркави (см. там же, с. 94–95). Наиболее полно литература вопроса на эту тему представлена в статье М, Д. Эльзона «Существовала ли книга Н. А. Некрасова „Как я велик!“?», в которой отмечены как внушающие недоверие особенности полемической манеры М. К. Лемке (ср. также: Бессонов В. Л.Об утраченной переписке А. Я. Панаевой и Некрасова. – Некр. сб., VII, с. 56–57), так и противоречия в многочисленных выступлениях А. К. Шарца (в центральной и местной печати), позволяющие «ответить отрицательно на вопрос о том, существовала ли книга „Как я велик!“» (см.: Альманах библиофила, вып. 7. М., 1979, с. 179–183).
Таким образом, оба заглавия: «Каменное сердце» и «Как я велик!» – представляются в известной мере произвольными. До нахождения новых дополнительных данных комментируемое иро-И8ведение (условно именуемое далее повестью) обозначается в настоящем издании по начальным строкам сохранившегося текста рукописи: «В тот же день часов в одиннадцать утра…».
Вопрос о датировке повести является также дискуссионным. В исследовательской литературе о Некрасове по этому поводу существуют несколько точек зрения. К 1846–1847 гг. относят ее М. П. Гроссман (Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Л., 1935, с. 46) в Р. П. Маторина (Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 6, с. 20–21) на основании сходства некоторых эпизодов с содержанием эпиграммы «Послание Белинского к Достоевскому» («Витязь горестной фигуры…») 1846 г., написанной Некрасовым и Тургеневым. К. И. Чуковский первоначально датировал рукопись временем не ранее 1861 г, исходя главным образом из интерпретации ее идейного содержания. По его мнению, «лишь к этому времени определилось вполне, что люди сороковых годов – враги нового поколения, между ними произошел открытый разрыв <…> Можно себе представить, как эта обличительная повесть была бы кстати в ту пору на страницах некрасовского „Современника“» ( Чуковский К.Плеяда Белинского и Достоевский. (Вступительный очерк к «Каменному сердцу»). – Некрасов. Тонкий человек, с. 223). Впоследствии К. И. Чуковский отказался от этой даты и изменил ее на 1855 г., утверждая, что Некрасов работал над рукописью «не в 1860-х годах, как полагали исследователи <т. е. он сам>, а в 1855 г., за несколько месяцев до того как была задумана поэма „Несчастные“» (ПСС, т. II, с. 632). 1855–1856 гг. датирует повесть и А. Н. Лурье (см.: ПСС, т. VI, с. 576–578), хотя некоторые аргументы комментатора представляются спорными. Нельзя, в частности, согласиться с тем, что одним из основных доводов в пользу датировки 1855 г. являются написанные Достоевским в Семипалатинске стихотворения «На европейские события в 1854 году» (1854), «На первое июля 1855 года» (1855) и «<На коронацию и заключение мира>» (1856) (Достоевский, т. II, с. 403–410, 519–523). Даже если они стали известны Некрасову через сотрудничавших в «Современнике» А. Н. Майкова и М. М. Достоевского (слухи о «верноподданнических» стихотворениях Достоевского распространялись среди петербургских литераторов), едва ли только эти стихотворения послужили поводом для создания произведения, направленного против Достоевского, тем более что в мартовском номере «Современника» было опубликовано не менее «верноподданническое» стихотворение А. Н. Майкова «18 февраля 1855 года» (на смерть Николая I), с которым Некрасов был знаком до публикации (см. его письмо к А. Н. Майкову от конца февраля 1855 г.). Ранее, в первом номере «Современника», было напечатано стихотворение А. Н. Майкова «Арлекин» такого же содержания.
По мнению Ф. И. Евнина, и время и мотивы написания памфлета Некрасова до сих пор остаются историко-литературной загадкой. Не соглашаясь ни с одной из приведенных выше датировок и оставляя открытым вопрос отом, что могло побудить Некрасова вернуться к событиям 1840-х гг. «и с такой сатирической „злостью“ изобразить молодого Достоевского в пору его первого знакомства с Белинским и его кружком», исследователь полагает, что Некрасов мог обратиться к повести не ранее 1863 г., так как в 1860–1862 гг. он «поддерживал с Достоевским вполне дружественные отношения» (Евнин Ф. И.Достоевский и Некрасов. – РЛ, 1971, № 3, с. 30).
«В тот же день часов в одиннадцать утра…» датируется предположительно 1855–1856 гг. на основании следующих данных. Как уже отмечалось, это произведение рассматривается большинством исследователей прежде всего как памфлет против Достоевского (см.: Евгеньев-Максимов В. Е.Все еще не разысканная повесть Н. А. Некрасова «Как я велик!» (Некрасов в борьбе против Достоевского и дворянских либералов), с. 66–67; Чуковский К.Плеяда Белинского и Достоевский. (Вступительный очерк к «Каменному сердцу»), с. 225–230). Между тем, несмотря на фрагментарность сохранившейся рукописи, ее содержание значительно шире. В сюжете отрывков отражены как события из истории литературного дебюта Достоевского (знакомство Белинского, Некрасова, Д. В. Григоровича и других современников с «Бедными людьми»), так и многие факты литературной жизни 1840-х гг., которыми Некрасов уже воспользовался в ряде своих прозаических произведений (см. роман о Тростникове (1843–1848), «Необыкновенный завтрак» (1843), «Очерки литературной жизни» (1845), «Тонкий человек…» (1853–1855)).
В повести речь идет не только о Глажиевском. – Достоевском, но и о Мерцалове – Белинском, о его личности, характере, литературных вкусах и взглядах, о его литературно-критической деятельности и о его кружке. По мнению М. М. Гина, «единственная положительная фигура здесь – Мерцалов – Белинский» (Гин М. М.Достоевский и Некрасов. (Два мировосприятия), с. 108). Это обстоятельство дает основание отнести начало работы над рукописью к 1855 г.
Напомним, что лишь в 1856 г. был снят запрет с имени Белинского. В 1855 г., следовательно, появилась возможность писать о критике, не называя его имени. В мартовском номере «Современника» за 1855 г. Некрасов публикует стихотворение «Памяти приятеля», посвященное Белинскому («Памяти Белинского» – см.: наст. изд., т. I, с. 121), начальные строки которого («Наивная и страстная душа, В ком помыслы прекрасные кипели, Упорствуя, волнуясь и спеша, Ты честно шел к одной высокой цели; Кипел, горел – и быстро ты угас!») близки по смыслу и текстуально к характеристике Белинского, данной Некрасовым в прозе (пылкий, страстный, самоотверженный, «Моложе иного двадцатилетнего юноши благодаря богатству и восприимчивости своей натуры», отличавшийся «горячей и страстной любовью к литературе»).
Несомненна генетическая связь повести с поэмами «В. Г. Белинский» и «Несчастные», над которыми Некрасов работал в 1855–1856 гг. Образ Белинского в ней наделен теми же чертами, что и образ «плебея безвестного» в поэме «В. Г. Белинский». Строки, написанные (в Зап. тетр. № 3) под набросками поэмы «В. Г. Белинский» («Пусть речь его была сурова И не блистала красотой, Но обладал он тайной слова, Доступного душе живой») и вошедшие в поэму «Несчастные» (см.: наст. изд., т. IV, с. 527, 540), по сути, перекликаются с высказанными в повести суждениями, в которых Некрасов особо подчеркивал умение Белинского «логически проводить мысль», «улавливать истину», говорить «чрезвычайно умно и с большим воодушевлением».
Известно также стремление Некрасова не только напомнить о личности Белинского и его заветах (см. об этом в романе о Тростникове-часть вторая, глава III, с. 158–160), но и преодолеть цензурные запреты его имени. 29 марта 1856 г. он писал цензору В. Н. Бекетову по поводу одной из глав «Очерков гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского, публиковавшихся в «Современнике» в 1855–1856 гг.: «Бога ради, восстановите вымаранные Вами страницы о Белинском. <…> Нет и не было прямого распоряжения, чтобы о Белинском не пропускать доброго слова, равно не было велено и ругать его. Отчего же ругать его могли и ругали, а похвалить считаете опасным? <…> Будьте друг, лучше запретите мою „Княгиню“, запретите десять моих стихотворений кряду, даю честное слово: жаловаться не стану даже про себя».
В других письмах Некрасова 1855–1856 гг. (к И. С. Тургеневу, В. П. Боткину) часто упоминается имя Белинского в дается высокая оценка его деятельности.
В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевский в той или иной форме не один раз напомюии читателям о Белинском: «автор статей о Пушкине», «главный деятель „Отечественных записок“». Некрасов в повести пишет о Белинском почти в тех же выражениях: «Он был главным сотрудником журнала, имевшего тогда громкую и почетную известность, которую, можно сказать без преувеличения, доставил ему Мерцалов» (с. 411). Кроме того, в «Полярной звезде» на 1855 г. (кн. 1) печатались главы четвертой части «Былого и дум» А. И. Герцена (их содержание, очевидно, было известно Некрасову), в которых глубоко и полно раскрывалась «мощная гладиаторская натура» Белинского. В апрельском номере «Отечественных записок» за 1855 г. И, С. Тургенев опубликовал рассказ «Яков Пасынков», наделив главного героя чертами, присущими личности Белинсквго (см. об этом в комментарии Е. И. Кийко (Тургенев, Соч., т. VI, с. 537–539)). Рассказ вызвал одобрение Некрасова («…мне понравился весь „Яков Пасынков“» – см. письмо Некрасова к Тургеневу от 26 марта (7 апреля) 1857 г.).
Возможно, и повесть Некрасова задумывалась как произведение, посвященное Белинскому и его окружению, в которое входил и молодой Достоевский. Об этом свидетельствует кроме всего сказанного и обильное использование в сохранившихся фрагментах статей Белинского в виде реминисценций и прямых цитат (см. ниже, с. 777–780).
История знакомства Белинского с автором «Бедных людей»: воспроизведена Некрасовым достоверно. Впечатление же пародийности достигается с помощью комических сюжетных и стилистических аналогий с повестью Достоевского «Двойник» (1846). Так, рассказ о переживаниях Глажиевского, связанных с посещением, Мерцалова, заставляет вспомнить описание состояния Голядкина накануне визита к доктору Крестьяну Ивановичу (Достоевский, т. I, с. 113, 114); сравнение физиономии Глажиевского с «сероватой и мглистой осенней тучей, готовой ежеминутно разрешиться дождем пополам со снегом и слякотью», подобно картине ужасной петербургской ноябрьской ночи, на фоне которой происходит бегство героя Достоевского (там же, с. 138). Глажиевский в сцене У Мерцалова вызывает известные ассоциации с фигурой Голядкина, отличавшегося робостью, привычкой съеживаться, стремление «стушеваться» (см. ниже, с. 778). [28]28
Ср. высказывание Белинского по поводу услышанного имоднажды анекдота о поведении Достоевского: «Не правда ли, что это точь-в-точь сцена из „Двойника“» (Белинский, т. XII, с. 336).
[Закрыть]
В основе пародийного изображения Глажиевского лежало критическое отношение Некрасова к некоторым тенденциям в творчестве Достоевского, столь же неприемлемым для него, как и для Белинского. В статье 1849 г. «Журналистика» (других отзывов Некрасова о произведениях Достоевского, написанных в 1840-е гг. после «Бедных людей», не сохранилось) он писал, что до «так называемых психологических повестей г-на Ф. Достоевского <…> мы, признаемся, небольшие охотники» (ПСС, т. XII, с. 260).
Не меньшее место в повести уделено изображению литературной кружковой жизни эпохи 1840-х гг. (возможно, в процессе работы в ней нашли преломление и литературные события 1850-х гг.). К иронической, пародийной трактовке этой темы Некрасов обращался в «Очерках литературной жизни» и «Тонком человеке…» (перекликаясь в освещении ее с Тургеневым – см. об этом: наст. изд., т. VII, с. 610), косвенно – в «Поэте и гражданине» (1855–1856} («А третьи… третьи – мудрецы: Их назначенье – разговоры» – наст. изд., т. II, с. 8) и стихотворении «Самодовольных болтунов…» (1856). Критическое отношение Некрасова к атмосфере замкнутых литературных и нелитературных кружков, к фразерству отмечалось в современниками. А. С. Суворин вспоминал о «столкновении» Некрасова с «идеалистами», представителями окружения Белинского (см.: Незнакомец.Недельные очерки и картинки. – НВ, 1878, 1 янв., № 682). По свидетельству С. Н. Кривенко, на Некрасова производило тяжелое впечатление преобладание фраз, общих мест, риторики в речах членов кружков, участником которых он был в молодости (см.: ЛН, т. 49–50, кн. 1, с. 209). 31 марта (10 апреля) 1857 г., Некрасов писал Л. Н. Толстому о губительных «рутине лицемерия и рутине иронии», «фразе», иногда безотчетно присутствующих и в литературном кружке «Современника». Таким образом, пародийное раскрытие этой темы (отношение Белинского и его кружка к «Бедным людям» Достоевского – лишь один из аспектов, намеченных Некрасовым) является неслучайным.
Ко времени работы над повестью у Некрасова уже был опыт пародиста, памфлетиста (см. сатирические и пародийные характеристики Ф. В. Булгарина, В. С. Межевича, Л. В. Бранта, Ф. А. Кони и других литераторов в романе о Тростникове, в «Очерках литературной жизни»; коллективные произведения – эпиграммы на Достоевского («Витязь горестной фигуры…»), на П. В. Анненкова («За то, что ходит он в фуражке…», 1856), стихотворение, посвященное В. П. Боткину («Песнь Васеньке», 1854), «Послание к Лонгинову» (1854) и др.).
Повесть соотносилась и с литературной традицией. В 1840-1850-е гг. пользовались широкой известностью стихотворные памфлеты А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» (первая редакция 1814 г., дополнялась до 1838 г.) и «Парнасский адрес-календарь» (1818–1820), содержавшие меткие сатирические характеристики литературных деятелей 18100-1830-х гг. В литературных кругах обсуждался написанный В. П. Боткиным, Д. В. Григоровичем и А. В. Дружининым фарс «Школа гостеприимства» (1855), разыгранный в качестве домашнего спектакля у Тургенева в Спасском 26 мая 1855 г. и у Е. А. Штакеншнейдер 7 февраля 1856 г. «Пьеса, которую вы сочинили и сыграли, мне пересказана», – писал Некрасов Тургеневу 30 июня – 1 июля 1855 г., оценивая ее как «веселый вздор», свидетельствующий об «отличном состоянии духа». Некрасова заинтересовала и написанная на основе этой пьесы повесть Д. В. Григоровича «Школа гостеприимства» (БдЧ, 1855, № 9), в которой Чернышевский был изображен в образе желчного критика Чернушкина. Судя по в целом положительной оценке, высказанной в письме к Д. В. Григоровичу от 4 октября 1855 г. («нельзя читать без смеху этого живого и веселого рассказа. Легкость его удивительна. Я пожалел, что он не попал в „Современник“, это, в сущности, самый трудный род…») и в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 года» (С, 1855, № 10), его внимание привлекла проблема соотношения реальной действительности и карикатуры в художественном произведении, а также «вопрос о том, в какой степени можно вносить свои антипатии в литературные произведения» (ПСС, т. IX, с. 308). Все это, по-видимому, занимало Некрасова в связи с работой над повестью.
В ней прослеживаются тематические и текстуальные соответствия с фельетоном И. И. Панаева «Заметки Нового Поэта о петербургской жизни», содержавшим выпад против Достоевского и известным в литературе главным образом в этой связи. Процитировав часть эпиграммы «Витязь горестной фигуры…», его автор высмеял Достоевского как «кумирчик», о котором «протрубили везде, )и на площадях и в салонах», и который «стал совсем заговариваться л и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт» (С, 1855, № 12, с. 238, 240).
История знакомства автора «Каменного сердца» с Мерцаловым подобна истории с «кумирчиком» в фельетоне Панаева. У Некрасова Мерцалов часто повторяет, что он «за „Каменное сердце“ не возьмет всей русской литературы» (с. 422). У Панаева близкую по смыслу тираду произносят поклонники «кумирчика»: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет всю нашу настоящую и прошедшую литературу» (С, 1855, № 12, с. 238). Некрасов упоминает обморок, повторившийся с Глажиевским во время рассказа о похвалах Мерцалова «Каменному сердцу». У Панаева «маленький гений» «побледнел и зашатался» при встрече со светской красавицей. По-видимому, часть фельетона Панаева («Литературные кумиры и кумирчики»), посвященная Достоевскому, представляет собой своеобразный сатирический комментарий к коллективной эпиграмме «Послание Белинского к Достоевскому». Но в фельетоне намечены и другие темы и характеристики: «Люди с заблуждениями и люди никогда не заблуждавшиеся. – Светские литературные дилетанты, литературные новички и известные литераторы во время чтения своих сочинений» (С, 1855, № 12, с. 235), аналогичные имеющимся в повести Некрасова: известные литераторы, литераторы-дилетанты и «литературные сочувствователи», участники литературных чтений и литературных кружков.
Отдельные сюжетные и тематические переклички прослеживаются и с памфлетом-пародией анонимного автора «Кандидат в романисты и его роман» (БдЧ, 1855, № 7–8). Этот памфлет, направленный против писателей «натуральной школы», высмеивал литературные чтения, организованные «крошечным великим человеком», и современных литераторов – «толпу полударований, полупосредственностей», которые «бросились на мужичину в надежде быть Тургеневыми» (БдЧ, 1855, № 7, с. 48, 57). Некрасов откликнулся на эту повесть в «Заметках о журналах за июль месяц 1855 года» (С, 1855, № 8), отметив в ней «странный и жалкий юмор, без разбору направленный как на то, что действительно смешно, так и на то, что составляет самую живую и светлую сторону русской; литературы» (ПСС, т. IX, с. 291–292).
Приведенные наблюдения являются также косвенным аргументом для датировки повести.
На основе сопоставления сохранившихся фрагментов с многочисленными мемуарами и эпистолярными источниками К. И. Чуковский установил ее прототипы (см.: Чуковский К.Плеяда Белинского и Достоевский. (Вступительный очерк к «Каменному сердцу»), с. 189–230). Кроме Мерцалова – Белинского, Осипа Михайловича Глажиевского – Достоевского здесь бегло очерчены другие персонажи, в которых пародийно отражены черты участников кружка Белинского и «Современника» 1850-х гг. Образ Чудова – Тростникова, так же как и в других прозаических произведениях, автобиографичен. В черновых набросках он характеризуется как «недавно выбившийся из подземных литературных сфер» (см.: Другие редакции и варианты, с. 669, вариант к с. 412, строке 28). В Разбегаеве, «пустом малом», угадываются черты, свойственные, судя по свидетельствам современников, И. И. Панаеву, о котором Некрасов неоднократно отзывался иронически в письмах 1850-х гг. («Этот господин хвастливостью и самодовольствием мастерски умеет поддерживать к себе нерасположение» – см. письмо к И. С. Тургеневу от 18 (30) декабря 1856 г.; ср. оценки И. И. Панаева, данные Тургеневым: «Этакий неисправимый свистун!» – Тургенев, Письма, т. II, с. 51, и П. В. Анненковым: «Панаев был большой враль» – Анненков, с. 535). В Балаклееве, который говорит о себе как о приятеле Глажиевского, отражены особенности характера Д. В. Григоровича, товарища Достоевского по Инженерному училищу (в 1844 г. жил с ним на одной квартире и первый познакомил Некрасова, а затем и Белинского, с рукописью «Бедных людей» – см.: Григорович, с. 89–91).







