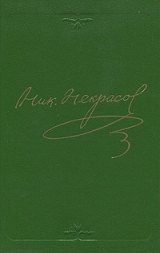
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Благословенный оазис, уцелевший среди всеобщего наводнения, представлял песчаную бугристую возвышенность, местами покрытую еловым строевым лесом, местами поросшую тощей травой, выжженной еще прошлогодним солнцем и дожигаемой нынешним; ни малейших признаков свежей растительности, хотя – напоминаем читателям – май уже подходил к половине, здесь еще не усматривалось: песок и сосна, сосна и песок! а далее вода, вода и вода – вот всё, что представилось путешественникам, когда они поутру вышли осмотреть местность. Бугор тянулся в длину довольно далеко, понижаясь постепенно и теряясь с одной стороны в бесконечных болотах, с другой – в разливе, к которому лицом стоял барский дом.
В ширину бугор имел около полуторы версты, и передняя часть его, покрытая строевым лесом, который образовывал почти правильный полукруг перед барским домом, круто понижаясь, уходила в воды разлива, простиравшегося сплошной массой до противуположного высокого берега Оки, который господствовал над всею окрестностию. Среди леса, который, так же как и всё здесь, терялся в воде, были местами широкие просеки, и срубленные деревья лежали тут же, сложенные высокими грудами. С помощью одной из просек, дававших простор зрению, можно было усмотреть в версте от барского дома жалкие признаки деревни, затопленной разливом.
Эта деревня была Софоново, покинутая в настоящее время, как и другие, своими жителями, которые разбили лагерь вокруг барского дома, перегнав сюда весь свой скот и перетащив скудные пожитки.
Сюда же, на этот бугор, удалились собственные крестьяне Грачова со всем своим скотом и имуществом, так как деревню Грачово тоже облило.
Таким образом лагерь был довольно обширен и, расположенный по скату бугра, до самого разлива, представлял пестрое и оживленное зрелище. В небольших загородах, наскоро устроенных, помещался скот всякого рода – коровы, лошади, овцы; одни свиньи, неизвестно почему, пользовались свободой, расхаживая где попало и везде суя свое нечистое рыло; тут же в промежутках загород находились временные жилища самих поселян, – то были островерхие шалаши, сложенные из жердей и кое-как покрытые соломой.
По берегу разлива разложены были огоньки, и бабы суетились около них, варя скудную пищу. Некоторые крестьяне и бабы бродилис бреднем по разливу по пояс в воде и, наловив несколько рыбы, тут же опускали ее в котелок и варили уху. Ребятишки, по обыкновению, с криками сновали взад и вперед, довольные и счастливые, словно был большой праздник, – они дрались, бегали и купались целыми стаями, разом бросаясь в воду, изумительно плавая и ныряя, подобно проворным гагарятам, или затевая игры, которые кончались настоящим морским сражением; побежденные с ревом выскакивали на берег, держа руку у подбитого глаза, и, торопливо надевая рубашонку, посылали крупную брань товарищам, брызгавшим их из воды. Они кидали в них грязью, а те плескались водой.
Когда приятели наши вышли из дому, почти вся движущаяся часть лагеря находилась у разлива, разбившись на небольшие группы или занимаясь своим делом в одиночку, под теплыми лучами весеннего солнышка, которое в то утро приветно и ласково поглядывало с голубого безоблачного неба. Кто чинил старую рубаху, кто варил Кашицу, кто клепал косу, кто гнул ободья, кто укачивал ребенка – всё решительно было занято. У шалашей оставались только лишенные уже силы двигаться старики, старухи да увечные. Мычание скота, крик ребятишек, плач Младенцев, наконец, стук, производимый разными сельскими поделками, дополняли картину, которая издали имела вид цыганского табора в большом размере; но только издали, потому что отличительная черта цыганского табора – общее бездействие, а здесь, как уже сказано, всё было погружено в самую кипучую деятельность; даже маленькая шестилетняя Настя, укачивая грудного братишку, упрашивала его поскорей уснуть, – ей некогда: тятя ушел дрова рубить, так надо ему обед нести…
Умиленный этим живописным и оживленным зрелищем, Грачев, постреливая «для практики» на берегу разлива рыболовов и чибисов, заметил своему приятелю:
– Живя в городах, мы приучаемся страшно преувеличивать так называемые лишения сельской жизни. Вот теперь они, казалось бы, находятся в самом незавидном положении – вода выгнала их из домов, а между тем посмотри: нельзя сказать, чтоб они особенно бедствовали; весело видеть, как живо идет их работа под открытым небом, на свежем воздухе! По-моему, природа поступает даже благодетельно, выгоняя их хоть на несколько недель в году из душных и грязных жилищ и заставляя против воли пользоваться чистым воздухом и в то же время обмывая их жилища! Что, неправду я говорю? – прибавил он как бы с некоторым испугом, заметив улыбку, мелькнувшую на губах Тростникова.
– Совершенную правду! – отвечал Тростников. – Я всегда думал, что ты философ, а теперь еще более убедился в этом: философ – и еще какой дальновидный!
– Я не понимаю тебя, чему тут смеяться? Я, кажется, ничего не сказал такого… – возразил с каким-<то> беспокойством Грачов. – Что ж ты можешь сказать против?..
– Решительно ничего! Ты сказал великую истину, которая и останется истиной – до первого дождливого дня. А когда пойдет дождь, да, чего доброго, зарядит дня на три или на неделю, поднимется буря, и ты увидишь, как ветер разнесет эти жалкие шалаши, и на всех этих людях, от старика до грудного ребенка, не останется сухой нитки, – тогда можно будет произнесть другую истину…
– Я не говорил вообще, – возразил Грачов. – Я…
– Однако ж, – перебил его Тростников, – я не вижу причины, почему здешниежители должны терпеть такие неудобства. Положим, жители твоего прекрасного Грачева – им некуда выселиться: всё место одинаково низко и подвержено наводнениям. А софоновцы? Они легко могли бы выселиться сюда.
– Мало им мест? – возразил Грачов. – Да разве их воля?
– Ну, помещику, я думаю, всё равно, тут или там будет его деревня… Эй, мужичок! Ты софоновский?
– Софоновский, – отвечал мужик с седыми вьющимися волосами, гнувший ободья.
Вступив в разговор с ним и некоторыми другими, приятели наши узнали, что прежний барин не только не противился переселению крестьян на «полону», но даже уговаривал переселиться и давал безденежно «леску». Крестьяне не согласились. Отчего? Почти общий ответ крестьян снова привел Тростникова к мысли, которую мы уже высказали, замечая патриархальное почтение крестьян к престарелым деревьям, растущим около деревень.
– Оно конечно! – сказал им высокий курчавый крестьянин, гнувший ободья. – Что говорить! Тут бы и гораздо спокойнее: николи не понимает водой, а у нас иной раз и избенку всю по бревну растащит, да, вишь, тут скучно! – прибавил он протяжно. – Бугор и есть бугор; песок да ельник, – и глаз нечем потешить…
– Уж какое тут место, – прибавила мывшая неподалеку белье баба. – Вот лето придет – ни травинки, ни кустика, словно выгорит все. Робятишки смаются, да и самим уж какое веселье!
– И вода дале, – прибавил флегматически мужик.
– Да что вода! Вода не бог знает как далеко, а как воды столько, что бежать приходится, так, я думаю, хуже, – заметил Тростников.
– Вестимо хуже, да тут, вишь, скучно! – повторил мужик.
– У нас, увидишь вот, – сказала баба, – озеро под самой деревней, а за озером – поля. И так сплошь и идут: поля, поля, поля, а там луга… Так вот словно на ладони: вышел и гляди! А это и глаз нечем потешить, – заметила баба, повторяя выражение мужика.
(«Так беден и неразнообразен их словарь, когда дело коснется чего-нибудь выходящего из сферы их ежедневных забот», – подумал Тростников.)
– Наши деревенские поля! – с особенной выразительностью пояснил мужик. – Спокон веку отцы наши пахали. А отсель вот и не видать! – прибавил он, поглядев с любовью (как через минуту утверждал Тростников, что вызвало сильный смех Грачова), посмотрев с любовью в ту сторону, где виднелась их затопленная деревня, и затем он принялся гнуть свой обод, согнувшись сам вместе с ним вплоть до земли.
Приятели наши покинули его, горя нетерпением сообщить друг другу свои замечания, вследствие чего скоро возник между ними жаркий спор, подобный всегдашним их спорам: Грачов хохотал, горячился, часто повторял «уж я знаю», «уж ты не говори», а Тростников приводил факты, как понимал их, но они казались Грачеву нисколько не убедительными.
– Полно, полно.! – говорил он со смехом. – Какое тут бессознательное поэтическое проявление! Сам ты поэт, так вот и фантазируешь! Что за сила преемства и предания, что за кровная связь между землею и руками, из поколения в поколение обрабатывающими ее… Ха! Ха! Ха!
И он разразился громким хохотом. Надо заметить, что в настоящем споре Грачов почитал себя совершенно и несокрушимо правым, а в таких случаях он был беспощаден к своему противнику, точно так же как в других случаях, заметив, например, что горячность спора завела его слишком далеко, он вдруг пасовал, делался жалок, уничтожался, прибегая к самым бессильным и неловким уверткам, в которых только больше путался и конфузился.
– И какие великолепные фразы! – продолжал он, одушевляясь более и более, – по поводу… по поводу потопления нескольких дрянных избушек…
– Ты начинаешь рассуждать, как готтентот, – резко сказал Тростников.
– Или там расписных палат, что ли? Разумеется, всё равно! – покраснев, быстро поправился Грачов, который, в сущности, был добрый малый и пуще всего боялся свалиться с высоты современных человеческих понятий, до которой добрался долгим и тяжким трудом, не без порядочной ломки над своей тяжеловатой и несколько снобской натурой. – Дело теперь не в том… Но подумал ли, что ты говоришь? Ведь уши вянут! «Крестьянин видит перед собою поля, – начал он высокопарным голосом, должно быть пародируя приятеля, – поля, облитые его потом и кровью, всосавшие в почву свою пот и кровь его дедов и прадедов, – видит и бессознательно любит их и – сам не сознавая почему – испытывает чувство отрады и успокоения, видя их перед собою… это его поэзия!» Ха! Ха! Ха! «Оно – неведомое ему самому – побеждает в нем расчет, мирит его с неудобствами…» и… что еще? Ха! Ха! Ха! Какая тут поэзия! Просто животная привычка, леность, вода дале! – протянул Грачов, передразнивая мужика. – Да вот чего лучше? Хочешь, – прибавил он, – пойдем сейчас к моим грачовским крестьянам, предложим им переселиться сюда: я скажу, что покупаю «поляну», и пообещаю лесу безденежно, – увидишь, с радостью согласятся!
Пошли, предложили, но, видно, результат был не совсем по вкусу Грачова, потому что он очень скоро оставил собравшуюся около них толпу преимущественно баб, стариков и ребятишек, говоря своему приятелю:
– Что с бабами да стариками толковать, они уж почти из ума выжили; вот, жаль, нет мужиков здесь (имение Грачово было оброчное, и все мужики ушли на заработки на Волгу, тогда как имение господина <Стычинского> состояло на запашке и всё население его деревни было налицо). Уж я доказал бы тебе! Да тут, право, и доказывать нечего! – прибавил он, усмехнувшись презрительно. – Дело и так ясно как день божий! Я не узнаю тебя. Ты бог знает что такое говоришь! Да если бы тебя послушали наши петербургские приятели… Ведь Ильменев умный человек… ты сам согласишься.
– Конечно, умный, поумней нас с тобой…
– Ну и Горновский и Лодкин… ну вот ежели б им сказать, да они бы расхохотались. И я непременно скажу им, как приедем…
Это был решительный и последний аргумент Грачева, к которому он прибегал в самые критические минуты споров с своим приятелем и которым теперь думал положить его в лоск.
Надо сказать правду, истощив свои особые доказательства, добродушный и пылкий Грачов в критические минуты употреблял его в дело не совсем добросовестно, пуская его в ход не только как доказательство, но как Некоторого рода угрозу. Но в настоящем случае он торжествовал – грозить ему было не для чего, и он только хотел показать своему приятелю бездну, в которую тот так безрассудно стремится, упорно настаивая на нелепости. Это иногда называется – танцевать над провалившимся приятелем – выражение, уже употребленное мною выше.
К удивлению Грачова, Тростников спокойно сказал:
– Ты прав: они точно расхохотались бы… но что же в том?
– Как что? Как что? – с удивлением, даже с испугом воскликнул Грачов, не допускавший возможности идти против таких авторитетов. Названные им общие их приятели были, точно, люди или, вернее сказать, говоруны умные, блистательно образованные и начитанные, и Тростников сам уважал их мнение не менее Грачова, однако ж он остался при своих мыслях о предмете спора, несмотря даже на угрозу Грачова, – так, по крайней мере, можно было заключить из того, что он ни теперь, ни впоследствии не сознался приятелю в своем заблуждении, а он обладал этим достоинством, столь редким в спорщиках и в людях вообще. Спор тем и кончился, но в течение всего дня Грачов возвращался к нему, неутомимо танцуя над своим приятелем, так что Тростников наконец потерял терпение и, может быть, пожалел, что вовсе не потанцевал над грачовским помещиком по поводу благополучного распоряжения природы, промывающей сельские жилища.
– Танцуй! танцуй! – сказал он ему, сдерживая досаду. – Я сам виноват, что заговорил с тобой о том, чего тебе не втолкуешь, хоть сто лет толкуй…
– Я думаю, я в состоянии судить, по крайней мере, в такой нелепости.
– Знаешь, любезный, часто, чем вещь кажется нелепее…
– Тем она блинке к истине? – добавил Грачов. – Уж не думаешь ли ты, что громадность нелепости, которую ты утверждаешь, и есть доказательство истины твоего мнения?
– Именно так я и думал и только не сказал…
– По скромности?
– Конечно.
– Ну, я согласен, – иронически произнес Грачов. – Согласен, согласен…
И он повторял «согласен, согласен» сначала обыкновенным своим голосом, потом с легким припевом,
Тростников ушел, походил с полчаса и, возвращаясь, еще на крыльце услышал нежное и меланхолическое пение: «Согласен, согласен…»
– Ты бы хоть без меня перестал петь, а то грудь надорвешь! – сказал он, входя в комнату,
С великодушием победителя, – что, очевидно, стоило ему величайших усилий, – сдерживая торжественную улыбку, Грачов скромнопосмотрел на приятеля и пропел: «Согласен, согласен!» Разбирая свои сундуки и покуривая сигару, он предавался этому невинному занятию до самого вечера и наконец так рассмешил Тростникова, что тот во всё продолжение чаю и ужина не мог видеть без хохота его притворно-смиренную и обиженную физиономию…
Таким образом, первый оседлый день прошел в осмотре местности, в разборке чемоданов и частию в спорах, которых образчик мы привели. Затем вся следующая неделя посвящена была неизбежным хозяйственным хлопотам, о которых мы представим только кратчайшее сведение:
1) Приведены были к окончанию переговоры с управляющим Стычинского, вследствие которых приятели наши допущены пользоваться его домом до личного позволения самого помещика.
2) Прибывший из Мурома управляющий Ефим Рюмкин спрошен о цели и результате поездки его в город, причем оказалось: а) он купил большую и удобную лодку, на которой и подошел благополучно – по Оке и частию разливом – почти вплоть под самое Грачово; б) отыскал и привез вещи, посланные из Петербурга Грачевым и задержанные разливом в Муроме; в) зашел на почту и получил несколько писем на имя Грачова, из чего догадался, что барин его уже в дороге, почему и поспешил домой; г) дорогой напился мертвецки пьян и в кровь разбил левый висок, каковое несчастие приписывал неумеренному радению о «барском добре», ибо, говорил он, желая уложить как можно удобнее барские вещи, не оставил удобного места для сидения самому и, задремав, свалился с телеги.
3) Осмотрен грачовский барский дом (до которого добрались о помощью ботников, въехав на них почти в самые покои), причем оказалось, что даже и по слитии воды в нем не вдруг можно будет поселиться, так как печи в доме размыло, пол подняло, а кухню всю расшатало. Рамы в доме оказались неимоверной ветхости, ни Одна дверь не затворялась, не имея ни замка, ни задвижки (то же, впрочем, было и в доме Стычинского, который заняли путешественники).
4) Отыскана, обласкана и переведена в софоновский дом Матренушка, оказавшаяся большой мастерицей мыть и гладить тонкое белье.
5) Сделано распоряжение о приобретении опытного, неутомимого и хорошо знающего местность мужика, для сопровождения путешественников на охоте, и, наконец:
6) Совершена Грачевым многотрудная поездка в Муром в сопровождении управляющего и повара, результаты которой составят остальные четыре пункта нашего перечня.
7) Произошло свидание с господином Стычинским (к счастию, не уехавшим еще в Петербург), который принял его изумительно вежливо, объявив, что не только месяц, но даже всё лето, и не только одно лето, а хоть каждый год Грачов может жить в его деревенском доме, причем с благородной интонацией в голосе отказался взять предложенную ему Грачовым плату, сказав, что здесь не Петербург: взять деньги за песок и голые (он мог бы еще прибавить – дырявые) стены бог знает в каком захолустье значило бы выстричь наряду с овцами забежавшую на двор собаку (что было совершенно справедливо).
В заключение он дал Грачову письмо к своему приказчику, в котором предписывал последнему не только оказывать Грачову всякое угождение, но даже не сметь ступить шагу без его приказания.
Это было уже слишком, но Стычинский так хотел, и Грачов не противоречил.
8) Так как дом Стычинского уподоблялся его же прекрасной конюшне, в которой зимой замерзла лошадь, а летом утонул козел, то к починке дома приглашено несколько мастеровых и куплены, по указанию их, необходимые материалы.
9) Куплены все необходимые хозяйственные мелочи, которых в доме Стычинского и признаку не было, как будто там люди не варили и не пекли и даже воды не пили, – во всем доме не оказалось ведра (многого необходимого по своей части не нашел в Муроме повар Грачова, о чем будет сказано подробнее), и, наконец, ух! Грачов потом говаривал, что во всю жизнь не сделал столько, как в эти два дни, проведенные в Муроме.
10) Приняты надежные меры к правильному и скорому движению корреспонденции наших друзей, причем случайно открыты следы остальных обозов Грачова: они находились в Гороховце, как показывал почтальон, недавно прибывший с шоссе, и радость Грачова была неописанна, когда, послав в Гороховец Евсеева, он действительно получил свои вещи, доставленные в совершенной целости! Только один ящик с вином неизвестно отчего… расшатало, что ли, в дороге – был вскрыт и в нем недоставало трех бутылок мадеры да нос Евсеева был неестественно красен… но Грачов в радости не заметил ни того, ни другого и подарил еще своему верному управляющему бутылку портвейну.
В тот день не один Евсеев лег спать в не совершенно нормальном состоянии…
Прошло еще несколько дней, и печальных развалин нельзя было узнать: грязь, вонь, лужи дождя, лившего сквозь худой потолок, скрипение ставень, хлопание рам, сквозной ветер, клопы, тараканы – всё исчезло, уступив место чистоте, благообразию и даже изяществу, гнусна по-прежнему осталась только наружность дома.
Таким образом, благодаря своей щедрости и усиленной деятельности, приятели наши с небольшим в неделю устроились весьма удобно и, вздохнув наконец свободно, начали помышлять об охоте, которая составляла главную цель их путешествия…
Часть II
Глава II– Говорят, в селе Холуе, верст сорок за Вязниками, ярманка; не поехать ли нам туда? – сказал Грачов своему приятелю утром 14 мая. – Я никогда не видал сельской ярманки, да и ты тоже, я думаю. Любопытно будет посмотреть. Погода стоит порядочная, и мы доедем шутя. Я полагаю ехать на своих; куда нам торопиться? Дорогой будем охотиться; сегодня доберемся до Вязников; там переночуем, отдохнем, выкормим лошадей и утром отправимся в село Мстеру – двадцать пять верст от Вязников. Мстера, на Клязьме, золотое дно красной дичи, по крайней мере по уверению нашего Жегла, который говорит, что в тамошних болотах проживает сам дупелиный атаман и всё их начальство; таковы эти болота! Мы приноровим так, чтобы попасть в Мстеру тотчас после полудня, и до вечера будем охотиться, а там, смотря по обстоятельствам, или в ту же ночь, или рано утром сделаем остальные двадцать верст до Холуя. В Холуе опять можно будет охотиться, а обратно проедем другим трактом на село Мугреево – это опять другое золотое дно дичи… Все эти подробности и самую мысль путешествия почерпнул я у нашего всезнающего Жегла и предлагаю на твое усмотрение и соображение.
– Чего тут соображать, разумеется, едем! – сказал Тростников.
И поехали. Господа с двумя собачками поместились внутри тарантаса, Ефим на заднем сиденье, Жегол на козлах, притискав между ногами свою кудластую собачонку и приладив за плечами свое нитками связанное ружьишко и походную суму.
Всем этим поездом управлял дюжий и коренастый парень Флегонт, недавно крестьянин деревни Грачева, а ныне господский кучер и отчасти егерь.
Неохотно, даже не без вою, покидал Флегонт родную избу и привычную соху. Он был так угрюм и безнадежно туп, что хоть отступись, но прошло пять дней, и он разом сбросил с себя маску непроходимой глупости и вахлацкой неповоротливости! Откуда взялись и расторопность, и понятливость, и находчивость! Полюбились ему барские щи с говядиной, всегда готовые в известный час, затрапезные беседы с столичным лакейством, а всего пуще расшевелила его в тупом унынии дремавшую душу лихая гармония повара, который вывез ее из столицы и откалывал на ней под вечерок такие фокусные коленцы, каких не отколешь без столичного образования.
Это образование начало очень скоро прививаться к Флегонту, и он даже стал стыдиться своего прежнего быта. Оно не прибавило ему ума, которого маловато отпущено было Флегонту природой, но развило в нем самоуверенность, скептицизм и наклонность к иронии.
Надо сказать, что быстрому и счастливому развитию Флегонта помогло его исключительное положение. Он был дворовый и в то же время имел дом, скот, всё заведение крестьянина, быть может, небольшие деньжонки, – и вот почему столичное лакейство скоро сбросило с ним маску высокомерия и надменности, которую оно упорно и справедливо носит перед всякой деревенщиной, лишенной образования.
И повар и лакеи, что называется, дневали и ночевали в деревне, в доме Флегонта, куда собирался цвет местного прекрасного пола и где время проходило необыкновенно весело, благодаря близости питейного дома, гармонике повара, хорошо составленному компанству и дознанной снисходительности господ.
Таким образом Флегонт легко и скоро прошел ту дорогу, которая для многих усеяна непроходимым тернием и которая ведет к невозмутимой лакейской наглости, с обретением которой дворовому остается только одно: наслаждаться жизнью – барин себе хоть тресни, а уж он возьмет свое! Флегонт всё это понял и отчасти уже успел усвоить; он еще не видел определительно степени доброты своего барина, но по действиям повара и камердинера смекнул, что она, должно быть, простирается до значительной степени. И в перспективе ему предстояло испытать ее меру. Полюбив дворовую жизнь, он полюбил и все атрибуты ее – подбривание затылка, густо намасленные волосы и каждый день напоминания барина, что та или другая часть его костюма требует дополнения.
– Что город, то норов, что деревня, то обычай. Всякий образ жизни имеет свои условия, – говорил Грачов Тростникову. – В столице я держусь характера самой безукоризненной простоты… почему? Во-первых, так люблю, во-вторых, там так принято. В деревне другие требования, другие вкусы, и я не хочу ходить в чужой монастырь с своим уставом, – так говорил Грачов своему приятелю, как будто оправдываясь перед ним, почему на этом основании беспрекословно выполнил требования своего кучера, по совету которого сбруя лошадей увешалась медными бляхами, куплен колокольчик и бубенчики-воркуны, расписная дуга, а сам Флегонт по одеянию представлял смесь посланнического кучера с почтовым ямщиком: золотой кушак, позумент по плечам, поярковая шляпа, плотно утыканная павлиньими перьями, с большой серебряной пряжкой напереди. Точно так снаряжена была тройка и в настоящем случае, двинувшаяся в дальнюю дорогу.
– Я каждый раз любуюсь удовольствием этого глупого малого, которое ощущает он, видя всеобщий эффект, производимый нашим появлением в деревне, – заметил Грачов при въезде в первую лежавшую на пути их деревню.
– Не разделяешь ли и ты сам отчасти этого удовольствия? – не преминул заметить Тростников. – О, дружба, это ты, – и не потому ли так охотно исполнил требования своего Флегонта?
– Ну если и потому, что ж тут худого?
– Ничего, но к чему вечные тонкости?
– Чтобы доставить тебе удовольствие подмечать их.
– Всё боязнь быть смешным, смотри, Грачов, ты с ней сделаешься в самом деле смешным; впрочем, надо сказать правду, твой расчет верен. Ведь коляска с английской упряжью никогда бы не произвела здесь такого эффекта, как эти бубенчики и эта дуга.
– Надо знать, мой милый, кому какого пуншу подать, – отвечал смиренно Грачов, – мужику – бубенчики, пряжки, зоилу – повод к удачному сарказму…
– Ну полно, полно, посмотри лучше вперед!
Выехав из оврага, в котором, по русскому обыкновению, стояла деревня, они круто поднялись на высокий бугор, и глазам их открылась вся низменная, идущая вплоть до самой Оки, резко обозначенной гористым правым берегом, местность. Это были почти сплошь поемные луга, местами ровные, как ковер, местами кочковатые, уже зеленевшие теперь первыми побегами молодой травы. Славная картина, и какой свежий, ласкающий колорит! Молодо-зелено, куда ни кинь глазами… Только кое-где К горе перемежались они полями, подходившими вплоть до самой дороги, по которой ехали наши приятели; кусты, Небольшие перелески, одинокие деревья или группы деревьев, отдельно стоящие, по обыкновению, разнообразили пейзаж, представляя оригинальное зрелище: нижняя половина их была обнажена и темна, как в глубокую осень, тогда как верхнюю распустившийся лист успел уже округлить и одеть чистым бледно-зеленым цветом, этим чудным цветом, к которому так идет слово девственный и который природа храпит только несколько первых весенних дней. Нужно стеречь и ловить эти немногие дни, когда всё в природе облечено этим младенчески ясным, прозрачным, смеющимся цветом, когда нет сил удержать душевного волнения и невольно лепечет язык в самом грациозном и нежном их смысле эти два прекрасные слова: молодо-зелено! Недаром на веки вечные породнила их поговорка.
«Молодо-зелено»! Куда рвется душа за этими словами, какой ряд картин проносят они перед ней? Не из тех ли они, которым «без волненья внимать невозможно»? Дай бог чаще и дольше слышать их хоть в насмешливом смысле поговорки! Молодо-зелено! Оглянись кругом – в этих словах вся поэтическая картина весны.
Всего поразительнее была на всем пространстве, открывшемся с горы глазам путешественников, резкость и правильность линии, разграничивавшей темную и светлую половины деревьев, – ее провела смелая и верная рука. Ее провел разлив, обозначивший на стволах деревьев крайнюю высоту свою. Как недавно еще вода убралась с лугов, доказывали бесчисленные озера всевозможных форм, пестрившие равнину подобно зеркалам и изливавшиеся в Оку, которая широкой-широкой лентой окаймляла луг справа и прекрасно заканчивала картину с своим высоким обрывистым берегом. Неисчислимы были нежные оттенки зелени на этом берегу, прямо, почти отвесно стоявшем перед глазами путешественников. Такова была картина сверху вниз. Но вот тарантас постепенно спустился с высоты, дорога круто повернула вправо и пошла лугами. Началась картина снизу вверх. Теперь на первый план выступили поля, начинавшиеся высоко на горке и сбегавшие к подножию лугов. Эти поля хранили еще в своем цвете следы прошлогодних засевов: еще можно отличать желтеющие почти сплошной массой ржаные нивы; вот неровные полосатые покосы картофельника с почерневшей тусклой листвиной, – не краше их и бедные покосы гороху. Много и мальчишек и взрослых парней перебывало на них по ночам прошлой осенью и не уходили домой без хорошей добычи, не один прохожий лакомился мимоходом их вкусными стрючками… а теперь! Припала сплошь к земле перепутанная, почерневшая листва, и нива словно оплакивает настоящее свое жалкое положение, зато разбросанные там и сям между ржаными нивами покосы гречихи резко кидаются в глаза своим красноватым цветом и, бойко выбегая на гору, как будто щеголяют яркими остатками своего осеннего убора.
Погодите и горевать и чваниться, нивы! Скоро соха земледельца сравняет вас в доле – всем вам положит он одинакую долю, и потом его же воля решит, какой полосе в какой цвет убраться на красное лето, чему дать жизнь, цветенье и зрелость к осени. И не всё вам ли равно, золотая ли пшеница поднимет над вами свои красивые кисти, или зеленый горох опутает вас своим фантастическим, прихотливым узором? Малорослый ли, коренастый ячмень станет прямо и бойко и весь ощетинится, словно войско с поднятыми штыками, на лоне вашем, или будет тихо шуметь и склоняться высокий ржаной стебель с тучным колосом? Равно любит мужичок каждую свою полосу и за всё равное скажет вам спасибо, лишь бы господь бог осенил вас плодородием!
Вот уже начал он трудное свое дело, от которого теперь уже не оторваться ему ни на минуту вплоть до глубокой осени, и то дай поспеть и управиться! Поля усеяны работающими крестьянами – одни пашут, другие уже начали сеять яровое. И за каждым мужичком своя свита: чуть проведет сохой, как уже на свежую, только что взрытую землю садятся стаи ворон и всяких птиц, жадных до червяка. Передвинулся мужичок с своей лошадкой, и птицы подались вперед – и так целый день; птицы иногда садятся на его соху, на хребет лошади, даже ему на плечо, – и он ничего, только дружелюбно усмехается. Ему, кажется, и в голову не приходит, что, кроме своей семьи, он работает еще на всю эту вольную птицу, кружащуюся в воздухе, таящуюся в кустарниках и болотах, и на всякого видимого и невидимого зверька.
Жадная ворона ловко похищает его добро, чуть не под ногами у него склевывая лучшее зерно из бросаемых им в землю семян. Робкая куропатка осторожно выводит вечерком свой многочисленный выводок на его овсяные поля; прожорливый тетерев жрет и вытаптывает гречиху, В Которой иногда основывает даже свое постоянное местопребывание на всё лето и часть осени; целые летние дни проводит на овсах дупель до той поры, пока, ожирев и обленившись, не поселится в болоте или лугах, куда сначала вылетает только по вечерам жировать и где бывает ему ранний или поздний капут; в хлебе заяц стелет свою мягкую и безопасную лежку. Нечего уж и говорить о других меньшего размера зверках и пташках, живмя живущих в хлебах.







