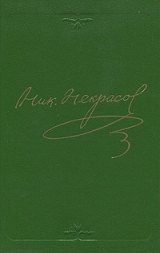
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
– Пятнадцать рублей.
– Как! Только пятнадцать рублей такие чудесные сапоги… Не может быть, моншер!
– Точно, – отвечал чиновник наш нерешительно.
– Да я за свои двадцать три рубля плачу, а всё не то; нет этого, знаешь, чтоб в ноге красота была; чтоб, знаешь, нога свободна была, как без сапога… Кто же тебе делал, моншер?
Казалось, герой наш пришел в затруднительное положение, как бы не знал, что сказать…
– Хоть убей, не помню! – наконец отвечал он.
– Вспомни, вспомни, моншер… Да я сейчас же к нему побегу… Пожалуйста! Ты должен непременно вспомнить, иначе я от тебя не отойду!
Такая решительная настойчивость, казалось, испугала нашего чиновника.
– По крайней мере не помнишь ли, где живет…
Но чиновник наш объявил, что забыл не только дом, Но и улицу, где живет.
– Подумай, братец, подумай, – сказал Побегушкин жалобно-умоляющим голосом.
И чиновник наш несколько минут старался или показывал, что старается вспомнить адрес, и наконец отвечал решительно:
– Хоть убей, не вспомню!
На лице молодого человека выразилось страдание.
– Эх, братец! – воскликнул он с горечью. <…>
Как только он сходил с Невского, он тотчас бережно снимал с рук перчатки и бережно клал их в карман… Когда же, повернув в Литейную или в другую улицу, вдруг замечал карету, тотчас надевал их снова, охорашивался и бежал безумно навстречу карете.
– Ну, брат, сколько хорошеньких видел сегодня! Хоть ты век себе по Невскому ходи, таких не увидишь. Нет, брат, аристократочки-то, брат, пешком не гуляют. На то у них экипаж, четверка, братец, форейтор кричит «пади! пади!», а я, братец, знай иду себе шаг за шагом; «кричи, кричи!» – думаю, а я шагу не прибавлю, а душа-то у меня вся в глазах…
– Уж раздавят тебя когда-нибудь, – заметил дрожащим голосом Иванов.
– Как бы не так, раздавят… Да что у меня, глаз нету, что ли? А кучер-то, да попробуй-ка он меня зацепить… Да разве он не знает, что у нас полиция есть.
В нем почему-то жило убеждение, что наконец какая-нибудь аристократочка (как говорил он) заметит его, сделает ему знак рукой, что он возьмет отличного извозчика не торгуясь, велит скакать за каретой; остановится в нескольких шагах там, где остановится карета, даст ейзаметить себя, когда она будет выходить из кареты, вздохнет, положит руку на сердце и долго будет молчаливо бродить мимо ее окон; наконец выйдет служанка, молча, осторожным движением заставит его идти за собою, и вот он идет, сердце у него сильно бьется; он занят мыслью, что ей сказать, а между тем вот они прошли уже великолепную лестницу, швейцар в желтой ливрее вежливо привстал перед ним, и вот они уже входят в дверь; вот они проходят комнату, другую, третью, а бронза, фарфор, великолепные зеркала так и кидаются ему в глаза, вот они вошли <в> комнату, уютную, чудно убранную и… «Подождите здесь», – говорит служанка и уходит. Он ждет, и вот является она… и проч. и пр. Он падает пред нею на колени. Таким образом он еще надеялся освободиться от чиновничества, в которое еще не втянулся и о котором не думал и не говорил с важностью, потому что получал только семьсот рублей жалованья и не имел никаких от него доходов. И он, заткнув руки в карманы своего коротенького пальто, бежал, словно возбужденный каким-нибудь сильным внутренним движением, опрометью, сам не зная куда, как бегают люди, занятые сильно какою-нибудь мыслью…
Он так был занят своею мыслью, что ему даже казалось иногда, что вот такая-то дама пристально на него взглянула… Раз ему показалось даже, что одна сделала ему ручкой (сомнительно, чтоб аристократки наши прибегали к таким способам изъявления своего внимания, но мечтатель наш имел свое понятие об аристократках)… Что с ним сделалось, странно поверить; сердце его так забилось, что он чуть не упал, коленки подогнулись; он весь замер, и только дикий, отчаянный крик: «Извозчик! извозчик!» – свидетельствовал, что он жив… И он обскакал несколько улиц, несколько магазинов, наконец карета остановилась у подъезда великолепного дома.
– Чья карета? – спросил он задыхающимся голосом у кучера с толстым брюхом и черной бородой.
– Чья?.. А тебе на что… чья?.. Господская!
– Да ты мне скажи, братец, чья?
– Проваливай, – закричал ему высокой гайдук, и карета въехала в ворота…
Он целые три часа до самого вечера ходил взад и вперед около дома; но никто не вышел позвать его… «Видно, муж дома!..» – подумал он и грустно ушел. А на другой день он уже с утра был тут, и, несмотря на то что и этот день и другие был тот же успех, он ходил, как накануне, праздно, гордо держал голову: ему всё мечталось о любви, о деньгах, которые она ему предложит, и о том, как он от них будет после отказываться, и он ел у Излера, не снимал перчаток даже и на Мещанской, которую глубоко презир<ал>, и после, когда год проходил, принужден был закладывать последние вещи на скудный обед.
Он знал наизусть несколько стихотворений гр. Ростопчиной, читал Одоев<ского> и Солл<огуба>… о прочих отзывался с презрением.
Читатели назовут его смешным и отчасти смешным, но пусть они заглянут в себя. Я знаю, что не один он. В нем только резко отразилась болезнь, общая всем петербуржцам… И вы, молодой человек <…>
И он погиб, бедная жертва хорошего тона, аристократ<ки> бы<ли> <…>
И Петербург будет равнодушно смеяться над ним за то, что резче других отразилась на нем страсть, волнующая все петербургские души, страсть невинная, но достигшая степени, на которой и самые невинные страсти становятся гибельны!
Разные бывают судьбы людские, и разные бывают несчастия. Иной глядит, как будто только что проглотил тухлую устрицу.
Странным образом приобрел он себе друга. Раз как-<то>, гуляя на Крестовском, он зашел в трактир. Из всего, что тут происходило, он мог только заметить, что тут били какого-то маленького человечка в коричневом фраке с металлическими пуговицами, который, совершенно растерявшись и не зная куда кинуться от сыпавшихся на него со всех сторон ударов, петушился уже из последних сил, но всё еще повторял с каким-то жалким задором: «Вы меня не смеете бить! Не смеете! Эй, говорю, худо будет… Завтра же, вот увидите, завтра же вас всех заберут… Я… я… вы не знаете, что ли, кто я!» Но высокорослые господа продолжали свое дело, не обращая внимания на жалкие угрозы маленького человечка. Приятель наш с большим любопытством и даже с некоторым увлечением, потому что редкий русский человек не отдаст должной справедливости ловко данной затрещине, даже если б оно пришлось по его собственному затылку, – приятель наш с большим любопытством смотрел на происходившую картину, и только мысль, что ему неприлично было бы вмешиваться в такую грязную сцену, удерживала его от восклицаний, которые испускаются в таких случаях. Он уже хотел уйти, подвигнутый этой мыслью, как вдруг высокорослый господин, долго не обращавший внимания на угрозы маленького человечка, закричал ему:
– Благородный человек! Много вашего брата, благородных-то, по бильярдным шары воруют!.. А ты вот деньги-то заплати… Играешь на бильярде, да не платишь денег!.. А еще называешься князь!
Откуда взялась в приятеле нашем и храбрость и сила…
– Стой! – закричал он, ворвавшись в толпу. – Что здесь происходит… Драка! Как вы смеете драться здесь… бездельники!
Может быть, сам того не зная, он употребил прекрасную меру, самую решительную, которая оказывалась действительною и в случаях более важных. Никто не спросил, кто он и имеет ли право сам ввязываться к делу, но толпа тотчас боязливо расступилась, а высокорослые господа даже подобострастно потупили глаза…
– Не ушибены ли вы, князь? – спросил он с участием, – Не нужно ли вам чего?.. Сделайте одолжение, князь, я весь к вашим услугам.
– Ничего-с, – отвечал князь. – А ушибен ли я, знают мои бока да спина…
– Не нужно ли вам будет к доктору? Сделайте одолжение, князь, я весь к вашим услугам.
– Нет-с, к доктору не нужно-с… А вот если ваша милость будет, прикажите мне дать стакан ромашки-с!
Такое требование несколько смутило нашего приятеля.
Пора уже познакомить читателя с князем, о котором так часто говорит Побегушкин. Уже одно слово «князь» пугает читателя, предубежденного против повестей с князьями и графами теми господами сочинителями, которые любят изображать большой свет и всяких аристократов, у которых им не удавалось быть и в прихожей. Но опасение читателя напрасно: мы совсем не наморены подражать тем господам сочинителям; скажем больше: если б приятель Побегушкина принадлежал к большому свету, почему-либо мог назваться аристократом, то мы не решились бы даже сделать его действующим лицом нашей повести. У нас на то есть свои причины, смеем уверить читателя, весьма уважительные. Но приятель Побегушкина только и имел в себе особенного, что родился князем, а во всем остальном совершенно, как две капли, походил на тех мелкотравчатых господ, с которыми суждено нам еще много раз встретиться в продолжение нашей повести. Он происходил от тех родителей, которые с званием однодворцев соединяли древнее княжеское звание, мешавшее им посвятить себя какому-нибудь ремеслу или промыслу (ибо такие занятия почитаются у нас предосудительными для всякого принадлежащего к высшему сословию и даже для имеющего чин). Отец и шесть дядей нашего князя сносили судьбу свою довольно терпеливо (ибо, к счастию, хорошо были приготовлены к тому воспитанием), и только одного не могла переносить их княжеская гордость <<…>
Ух! Легче стало на душе, и слово ложится свободнее на бумагу. К несчастию, у нас еще так много читателей, ищущих в книге того, что они называют полезным для ума и приятным для сердца, и возмущающихся всем, что сколько-нибудь представляет жизнь действительную, нисколько не подрумяненную, что подобные оговорки необходимы. Не оговорись – иной охотник почитать схватился бы за мою статью, прочел бы несколько страниц, зачитав, не захотел бы не дочитать (по привычке многих читателей), а дочитав, приобрел бы себе полное право бранить вас. Ясно, что, оговорившись, вы избавили бы читателя от нескольких часов скуки, а себя от хулителя, может быть, беспощадного. Способ прекрасный и необходимый, и я вперед обещаюсь уведомлять читателя в начале каждой будущей повести <…>
Побегушкин употребил все усилия, чтобы снискать дружеское расположение князя, что вообще не стоило большого труда, ибо князь был сам радехонек человеку, на счет которого можно было хоть изредка попить и поесть, и чему способствовало при том одно особенно счастливое обстоятельство. Надобно знать, что квартиры своей князь не нанимал, может быть, потому, что нанимать ее было не на что, а жил у своих пансионских товарищей, которые любили его за то, что он играл между ними роль шута и позволял щелкать себя по носу (слабость, к которой сильно наклонны очень многие петербургские молодые люди). Но князь имел свои слабости, и к числу их принадлежала слабость носить чужое платье. Не то чтоб он любил щеголять; нет! если б он мог иметь много собственного платья, он, быть может, надевал бы его без особенного удовольствия, но при виде хорошего жилета, сюртука или шарфа в нем тотчас возникало неотразимое желание надеть его, и он часто достигал цели особенным образом. Он никогда не выходил со двора раньше приятеля, у которого жил, но как только тот уходил, он тотчас надевал вещь, которая ему особенно нравилась или которой недоставало в его гардеробе, и пускался франтить по городу.
Приятель сначала не замечал, потом терпел, пока хватало терпения, но наконец, несмотря на всю его любезность, дело кончалось-таки тем, что приятель выгонял его с квартиры, замечая ему: «Ты, братец, свинья!»
– Ты бы давно сказал, братец, что я тебе в тягость, что тебе жаль стакана чаю… я бы давно с радостью… что мне, жить, что ли, негде?.. Я никому в тягость быть не намерен!..
И князь уходил с достоинством, насвистывая польку.
«А еще князь!» – кричит вслед ему с злобной радостью угрюмый лакей, питающий, как и все его собратья, какую-то безотчетную злобу к нахлебникам и всяким голодным приятелям своего барина.
Он уходил к другому, крепился, сколько хватало сил, но и здесь как-нибудь красивый жилет, коричневый фрак с стальными пуговицами (князь любил цвета яркие) или какая-нибудь голландская рубашка с кружевами на манер пены (князь не щадил даже и рубашек своих приятелей) повергали его в искушение, которому он не всостоянии был противиться. Случилось так, что именно около времени встречи с Побегушкиным он рассорился с последним своим приятелем и решительно не знал, где жить. Потому нетрудно догадаться, как рад был князь вниманию Побегушкина и готовности его на угождения. В тот же вечер он поехал к нему ночевать, а через два дня уже щеголял в его старом сюртуке (ибо эта часть одежды князя, как более других пострадавшая во время битвы в Крестовском трактире, совершенно не годилась к употреблению). Болезненно сжалось сердце Побегушкина, когда он, возвращаясь однажды из департамента, встретил князя на Невском проспекте в собственном своем жилете, который он только что сшил и на эффект которого много рассчи<тывал>. Однако ж он ничего не сказал князю, потому что они в тот день только что начали говорить друг другу «ты» (вожделенное обстоятельство, которого робко желал Побегушкин и не смел надеяться).
Но, прежде чем я приступлю к рассказу, я должен предупредить читателя, что я поведу его по грязной лестнице, в грязные комнаты, к грязным людям. Я ставлю здесь слово «грязный» в том смысле, в каком понимают его многие читатели. Не великие страсти, не возвышенные порывы и не аристократические страдания намерен я изобразить здесь, но я хочу ввести читателя <в мир людей> обыкновенных и бедных, каких всего больше на свете и которые всегда останутся такими, если мы будем пробегать мимо них, зажав нос и отвернувши лицо; я хочу ввести их в интересы тех желтых и костлявых старух, которые целый день просиживают над десятком гнилых яблоков, чтоб взять на них грош барыша; посвятить их в тайны их сетований, их радостных осклаблений, которые даже нельзя назвать улыбками; в страдания и радости тех увечных и сгорбленных, убогих и морщинистых стариков, которых глубокие и частые вздохи наполняют воздух неблаговониями простой водки, которых радости грубы, страсти дики, но в которых также <…>; тех оборванных и отвратительных женщин, которые сначала с подавленными слезами украдкой протягивают к вам руку и краснеют, потом хохочут и пьянствуют, потом пьянствуют и воруют; тех бледных и болезненных мальчиков, которые с протянутыми ручонками дрожат на улице от холода, но боятся идти домой, потому что там ждут их побои голодной и пьяной старухи, увечного, ожесточенно-то нищетою отца. Словом, я поведу вас в мир людей, которых страдания мелки и темны, радости грубы, песни простонародны и полны подавляющей, камнем на душу налегающей грусти, стремления дики, рубища отвратительны, но которые также люди, в которых также закинута искра божественная, может быть, не совсем погасшая. Если вы принадлежите к тем, которые торжественно объявляют таких людей не стоящими внимания, такие картины грязными, возбуждающими отвращение, – бог с вами! Не для тех я пишу, кто, завидев несчастного, умирающего от смрадных ран, зажав нос, торопятся пробежать мимо, но кто спешит к нему с помощью и утешением, тот поймет мою цель. К ним <…>
1853–1855
Тонкий человек, его приключения и наблюдения *
Часть I
Глава I,в которой тонкий человек говорит, а друг его спит
23 марта 18** года, очень рано, часу в одиннадцатом, к Тростникову пришел приятель его Грачов и сказал с своей всегдашней важностью:
– Любезный Тростников, можешь ли ты уделить мне несколько часов времени?
– Изволь, сколько угодно. Но что такое особенное случилось?
– Мне нужно поговорить с тобою. Тростников вдруг рассмеялся.
– Чему ты смеешься?
– Да как же не смеяться? Ты посмотри на себя. Так и Манфред не часто смотрел, я думаю!
– Перестань шутить. Я пришел сообщить тебе намерение, которое глубоко созрело в моей душе и должно иметь влияние на всю мою жизнь.
– В чем же оно состоит?
– Прежде чем я скажу его, я желал бы рассказать многое – дать тебе, так сказать, ключ к моему внутреннему миру.
– Как торжественно! Извини, не могу не смеяться. Впрочем, готов слушать.
– Послушай, – таинственно сказал Грачов, нисколько не обидясь смехом своего приятеля. – Послушай, и ты перестанешь смеяться, ты, может быть, даже…
– Пролью слезу сострадания? Может быть; говори!
– Того, что я решаюсь доверить твоей дружбе (я знаю: ты умеешь уважать тайны друзей, и надеюсь, что могу назвать другом человека, с которым короток с самого детства), нельзя передать в двух словах, и потому если ты не расположен слушать теперь, то лучше скажи…
– Ничего, любезный друг, говори. Ты увидишь, что я не только уважаю тайны друзей, но даже умею выслушивать их. Итак, начинай!
Грачов начал:
– Чтоб сказать всё, я должен коснуться моего детства…
Но рассказ Грачова длился несколько часов, и как мы не принадлежим к числу друзей рассказчика, то не лучше ли нам сократить его? Благо у нас под рукою верное средство: опыт научил нас, что, как только торжественное «я» уступит место скромному «он», многие подробности, казавшиеся чрезвычайно важными, вылетают сами собою. Например: «Принужденный сам заботиться о долговечности моих сапогов, я приискал какой-то дрянной черепок, пошел на рынок, купил дегтю, увы! на последний гривенник, и, возвратясь домой, тщательно вымазал мои сапоги, не щадя рук и подвергая невыносимой пытке мое бедное обоняние». Отбросьте «я», и останется: «Он купил дегтю и вымазал свои сапоги». Если вам мало одного примера, то можете делать опыты сами: теперь только и пишутся, что записки, признания, воспоминания, автобиографии. И вы увидите иногда результаты неожиданные. Эта невинная замена имеет действие лопаты, с помощью которой очищают – веют – только что вымолоченный хлеб: зерно остается на гумне, а шелуху и пыль уносит ветер… И нет ничего легче, как веять. Если вы живали в деревне осенью, то, верно, заметили, что этим делом занимаются даже малые ребятишки. Дружно предаются они своей работе; зачерпнув зерен, высоко взбрасывают они лопаты свои – и как, образовав на минуту темную бровь в воздухе, весело и хлестко падают тучные зерна на твердое, гладко укатанное гумно! Славный звук и вообще хорошая картина. Но жалкое зрелище представляет шелуха: как подбитая моль, вяло покружась в воздухе, она апатически оседает на траву или на болото и пропадает там. Но что до шелухи? О пей никто не думает. Дело в том, что очищаемый таким образом хлеб дает сытную и здоровую пищу, и да научатся «веять» все те, до кого ото может относиться.
И мы попробовали веять. И опыт наш превзошел ожидания: рассказ Грачова разлетелся весь так, что уцелело только несколько отрывочных громких слов с приличным числом восклицательных знаков: «Скука, тоска, разочарование!..» Грачов жаловался на пустоту своей жизни и в подтверждение приводил свою биографию, точно не богатую ничем особенным. Итак, передавать читателю нечего, и приходится начать новую главу. Однако ж, если пересказывать нечего, то Тростникову пришлось много слушать. Как же он слушал? Сначала он брился, пил кофей, курил сигару, а потом стал зевать, закрываясь газетой, и наконец уснул. Проснувшись на эпизоде о какой-то панне Сабине, которую Грачов почитал чудом женских совершенств и которая провела его самым грубым образом, – проснувшись, Тростников взглянул на часы и внезапно озлился, должно быть от мысли, что нашелся человек, считающий его способным выслушивать такие длинные признания, чьи бы то ни было. Одновременно с озлоблением, как это часто бывает, он почувствовал голод, позвонил человека и велел подавать обед тотчас, как будет готов.
– Вели и на мою долю, – прибавил Грачов. – Я не ел больше суток и сегодня буду иметь аппетит волчий.
Окончание признаний своего приятеля Тростников дослушал так мрачно, что, будь Грачов хоть немного менее погружен в свой рассказ, он, верно, сделал бы одно не тех тонких замечаний, которые любил делать при всяком удобном случае, придавая им свою любимую форму вопросов и ответов, именно:
Вопрос: Когда человек находится в самом глупом положении?
Ответ: Когда поверяет свои душевные тайны голодному приятелю.
Или что-нибудь подобное.
Глава II,в которой тонкий человек спит, а друг его говорит
– Итак, ты видишь теперь, – сказал Грачов, окончив свои признания, – ты видишь, что я не фразирую, отзываясь несколько желчно о жизни, о людях, о женщинах и приняв твердое намерение…
– Вижу, – перебил Тростников. – Всё вижу и всё понимаю! И ты убежден, что жизнь тяжкое бремя? Что женщины, например, уже не могут занимать ни твоего сердца, ни даже глаз?
– Убежден, – отвечал Грачов.
– Скромное общество нескольких избранных друзей, с которыми сблизиться – помнишь? – ты так добивался, также, говоришь ты, потеряло в глазах твоих всю прелесть?
– Да, – со вздохом сказал Грачов.
– Карты, в которые ты играл не столь счастливо, как охотно, карты тоже?
– Тоже.
– Театр, опера, в которой ты хоть мало понимал, но много шумел, опера тоже?
– Тоже.
– И ты говоришь, тебе осталось одно: уехать в деревню?
– И навсегда! – с эффектом сказал Грачов.
– Навсегда? Ну, едва ли! Извини, любезный друг, слишком сильно сказано! И откуда вдруг такое решение? Еще третьего дня играл ты до рассвета в карты, гулял по Невскому с полным самонаслаждением – и вдруг…
– Но ты знаешь, что часто самые скорые решения бывают и самые решительные… Они зреют в тишине, подобно… подобно…
Грачов не прибрал сравнения и продолжал:
– Я пришел вчера домой пере<о>деться, чтоб ехать обедать к С*, как вдруг вопрос… нот, множество вопросов: что я там буду делать? и к чему еду? и к чему ездил прежде? и что я вообще делаю? и не есть ли вся моя жизнь пошлое повторение одних и тех же пошлостей? Эти вопросы сами собою пришли мне в голову. Или, может быть, их вогнал в нее порыв теплого весеннего ветерка, который ворвался в открытую форточку. И я подумал…
– Не лучше ли съездить в деревню?..
– И я подумал: не лучше ли уехать навсегда в деревню! – с ударением произнес Грачов. – Эта мысль не оставляла меня за обедом и потом целый вечер. Я с ней сегодня проснулся и нетерпеливо побежал к тебе, чтобы сообщить ее.
– Ну, видишь, как всё просто!
– Да; но дорогой мысль о пошлости моей жизни и о том, как в самом деле мало занимает меня всё то, чему я предаюсь с утра до ночи…
– А иногда и по ночам…
– Дорогой эта мысль представилась моему уму с поразительной ясностью, и мне стало стыдно, я почувствовал даже отвращение к той жизни, которую вел… и мое давнее презрение, мое горьким опытом купленное знание людей, весь яд желчи и ненависти, – как огонь, таившийся под пеплом, всё вспыхнуло…
– И в таком прекрасном духе ты пришел ко мне, и, вместо того чтобы сказать просто: «Я вздумал ехать в деревню отдохнуть и поохотиться; не хочешь ли ехать со мной?», ты вот уже пять часов сряду… (как долго не дают есть!..) изливаешься перед приятелем в красноречивых и мрачных признаниях, бранишь всё и всех, словом, употребляешь отчаянные усилия вогнать и его в тоску… Очень великодушно! Прекрасная привычка: как только дрянь какая заведется на душе, тотчас бежать к приятелю. И всё под предлогом дружбы: ищу участия, совета! Изволь, я буду советовать. Только, смотри, не пенять. Теперь моя очередь, и я тоже начну издалека. Прежде всего позволь предложить тебе вопрос: не проигрался ли ты вчера?
– Сделай одолжение, говори, спрашивай сколько угодно! Ты хочешь знать, – апатически сказал Грачов, – не проигрался ли я вчера?.. Проиграл! Ну, теперь продолжай и можешь быть уверен: ты найдешь самого терпеливого слушателя, если вздумаешь говорить хоть до завтра, – чем дольше, тем лучше…
И тонкий человек зевнул, и по круглому лицу его пробежала ядовитая улыбка.
– Проиграл! Ну, вот видишь, ты проиграл вчера да и вообще в зиму попроигрался, приятели дали несколько щелчков твоему самолюбию, и дали поделом: всё твоя глупая страсть к тонкостям; вот и оказалось: карты и приятели – вещь негодная. Кстати припомнил ты историю с панной Сабиной. Ну, и женщины тоже! Наконец певица, по правде сказать преплохая, которую ты один поддерживал, беснуясь и бросая ей букеты, тогда как другие шикали, любимая твоя певица окончательно срезалась. Ну, и опера никуда не годится. Таким образом и очутилось в самом конце то, с чего следовало начать и в чем всё дело: «Едем в деревню». Сознайся, ведь так?
Тростников приостановился. Но вместо ответа послышалось тихое и мерное храпение.
– Ты спишь? Так скоро? О, тонкий человек! Да не притворяешься ли ты?
Ответа не было.
– Смотри, Грачов, если ты вздумал выкинуть новую тонкость, то предупреждаю: она не удастся, ты будешь жестоко раскаиваться в ней. Лучше признайся. Молчишь? Ну смотри: я буду неумолим!
И он продолжал, наблюдая спящее лицо своего приятеля:
– Сказать просто «еду в деревню» не в твоем вкусе. Я знаю тебя: ты ничего не любишь делать просто. Каждое самое естественное желание, мимо простых и очевидных причин, ты считаешь долгом облечь флером таинственности, особенной важности или траурной торжественности. Никогда не забуду твоих разглагольствий перед отъездом за границу. Боже мой! каких глубоких, важных, возвышенных причин не насказал ты, хитрый педант! А ты ехал просто потому, что шевелились лишние деньжонки в кармане и что при рассказах о парижских женщинах у тебя глаза наливались кровью, как у этого тупоумного индейца Джальмы, которым ты тогда восхищался вместе с парижскими дворниками. Спишь, Грачов? Спит – значит, я могу продолжать. А твоя глупая страсть к тонкостям? Ха-ха-ха, как ты всегда с ней срезывался! Помнишь, раз на охоте мы в поте лица месили грязь по болоту, а ты, тонкий человек, засел в куст и зло посмеивался, стреляя сгоняемых нами бекасов и уток; но только ты не рассчитал одного, что, сберегая ноги, можешь поплатиться лбом. И твой же собственный егерь, не заметив в кусте твоей важной особы, влепил в нее ползаряда… Ха-ха-ха… Правда, лоб твой устоял против бекасиной дроби; но смотри: не все части твоего тела, может быть, так крепки, как лоб, и не всегда ружье заряжается бекасинником! Ты тонил еще в детстве, и тонкость уже тогда резала тебя. Помнишь, в пансионе у Курнана: какой славный день был и как чудесно солнце светило в раскрытые окна нашего класса! Тогда еще голубь влетел в окно и ужасно перепугал учителя. Ждали нового инспектора, всё было вымыто, вычищено; m
Или помнишь другую школьную сцену, с книгой, в которую вписывались наши проказы; учитель арифметики, человек русский, долго и горячо допытывался: кто вырвал из нее несколько листов? Виновного не нашлось; тогда он прибегнул к старой сказочной хитрости: роздал мальчикам по ровной соломинке и сказал, что у виновного через час на вершок соломинка вырастет длиннее, – и ты ровно на вершок откусил свою соломинку, и тебя опять высекли, а виноват был не один ты, и ты даже меньше других! Так кончались твои тонкости в детстве, того же заслуживают они и теперь; да и чем твои новейшие тонкости умнее детских? (Черт возьми, как долго не дают обедать, пять часов!) Например, теперешняя твоя тонкость (если только ты не спишь действительно, а, право, я сильно подозреваю, что ты притворяешься) – что в ней умного? Ты вздумал срезать приятеля, которому пришла охота сказать тебе горькую правду, и прикинулся спящим (я так предполагаю), но приятель подметил твою тонкость и выскажет даже больше, чем хотел, может даже обругать хитреца, и ты ничего не вправе будешь сделать: ведь ты спишь. Спишь, Грачов? – возвысив голос, спросил Тростников. (Ответа не было.)
– Смотри, – продолжал Тростников, – лучше откликнись и признайся, а то хуже будет, ты рискуешь услышать неприятные вещи… Слышишь? Я теперь перестаю говорить с тобой, а буду рассуждать о тебе с самим собой; право, не лучше ли откликнуться?.. Но ты молчишь, и я начинаю: что такое Грачов? Начнем с наружности. Грачов – плотный детина двадцати семи лет. Он еще не толст, но принадлежит к людям, которые должны потолстеть неизбежно. И он будет толст, хотя и принимает дознанные меры, чтоб не потолстеть. Но характера у него поменьше, чем у Байрона, и, потерпев два-три дня, на четвертый он так наедается, что глаза его готовы выскочить. Каблуки его сапогов не выше обыкновенных, но они непременно прежде всего бросятся вам в глаза, может быть, вследствие особенности его походки: он не идет, а как будто козыряет, показывая свои маленькие ноги, ставя одну за другой с грацией и некоторой торжественностию, причем весь корпус его слегка колеблется. Вообще он не любит скрывать того, чем наделила его природа, и заказывает себе платье (у лучшего портного – он большой франт) в обтяжку; грудь его и так неумеренно высока, но он еще имеет привычку пялить ее, втягивая живот. Еще два-три года, и талия его будет переваливаться, а лет через пять он начнет ходить с солидной тростью. Он мастер повязывать галстук, и когда кланяется или танцует, то закругляет руки и нагибает голову с медленной грацией. В этом он несколько похож на Павла Иваныча Чичикова… Спишь, Грачов? Спит! (А повар тоже, видно, спать лег!) Теперь пойдем далее.
Что такое Грачов?
Грачов – добрый малый, не слишком умный и не дурак, но добрый малый, уже утративший первобытную форму и несколько испорченный новейшими примесями, и вот по какому случаю: Грачов имел счастие или несчастие, что решить довольно трудно, попасть в круг, где любят-таки поговорить о существенных вопросах науки, жизни, современности и проч. В этом кругу мужчины очень умны, а дамы очень дурны собой – это его характеристика. Этот кружок, между прочим, имеет свойство быстро развивать самолюбие каждого, кто прикоснется к нему, да иначе и не может быть там, где роль каждого определяется его личным значением, а значение – личным достоинством и заслугой. Следствия такого свойства для умных членов кружка часто бывали благодетельны: возбужденные соревнованием, эти счастливцы вырабатывали из себя всё, что могли, и делались светилами если не общества, то своего кружка. Но что делалось с остальными, с людьми обыкновенными? Бывало, что они кончали даже трагически. Оторванные от полусознательного существования, которое так весело влачит большинство добрых малых, они гибнут жертвою неумеренно развитого самолюбия. Вы тотчас их узнаете, вступив в такой круг (по преимуществу литературный); они желты и зелены, сидят, вечно надувшись, говорят мало: не смеют или думают, что не найдут слушателей. Самолюбие гложет их, и постоянное напряжение придумать что-нибудь оригинальное умерщвляет в них последний остаток ума; они кажутся совершенными дуракам… Кто бы подумал, что величавый друг наш Грачов хоть одну минуту мог находиться в таком положении? Правда, не совсем в таком; он богат и давал хорошие обеды; его вздор выслушивали, от него не отходили прочь при первом его слове, но всё же гордость его часто получала неизбежные щелчки: он тайно мучился, и пот скудоумия нередко капал с его высокого чела при напрасных усилиях сказать что-нибудь умное. Но не такова была его натура, чтобы запутаться и засесть в паутине, сплетаемой смертельно уязвленным самолюбием. Его самолюбие не было смертельно уязвимо. Он скоро примирился с своим положением, перестал пыхтеть и надуваться и поднял голову. И с той поры он уже не опускал ее: он понял свою роль в умном кружке, нашел еще другой круг, в котором отдыхало его самолюбие, и славно повел свои дела. В умном кружке он жаловался на пустоту своего светского общества, а в светском – на педантство и ученую скуку умного кружка, сношения с которым облекал он должною таинственностию, намекая, будто сам принимал участие в его деятельности. Он брал у кружка умников их суждения, их взгляды, их мудреные слова и фразы (всего чаще слова и фразы) и приносил их в светский круг свой, а умникам платил светскими сплетнями, до которых так падки литературные затворники. Наконец, окончательное удовлетворение своему самолюбию нашел он в том, в чем я вижу одно доказательство его тупости: если один отличается ученостью, другой написал умную книгу, третий мастер говорить, то и я также имею свое – я человек необыкновенно тонким, – думает наш друг Грачов, который теперь сладко спит или, может быть, уже проснулся. Спишь, Грачов? Спит, и я еще успею разобрать, что такое тонкий человек. (А каков повар! Я умираю с голоду.) Что такое тонкий человек? – Глупец, так много думающий о своей особе, что не хочется даже признать в нем и тех достоинств, которые он действительно имеет…







