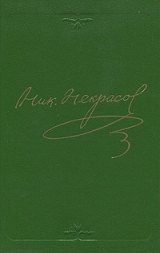
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
Клим стал прислушиваться…
– Так что же? – спросил генеральский племянник.
– Как что! Я полгода ухаживал за нею, да не слыхал от нее такой похвалы… Я бы дорого дал за нее… А он, выскочка!
– И тут еще большой беды нет. Похвала ничего не значит.
Ничего! Да я готов обрубить ему уши, если она когда скажет опять на его счет что-нибудь подобное.
Клим вспыхнул, задрожал, переменился в лице; он хотел выскочить из своего угла, хотел наговорить дерзостей, вызвать на дуэль адъютанта… Но вспомнил, что сам не совсем прав, потому что случай привел его подслушать чужой разговор, чего, по его понятиям, не должно делать… Он удержался…
– Мало того, – продолжал адъютант, – она, кажется, просто влюбилась в него, вдруг стала со мной холодна: отвечает не по-людски, смотрит в лес.
Последние слова адъютанта чуть не свели с ума нашего героя.
Загремела музыка; молодые люди ушли. Клим остался один и долго предавался со всем жаром юношеского увлечения самым чудным, самым упоительным мечтам, которых автор не приводит из опасения насмешить читателей… Когда Клим возвратился в залу, мазурка уже приходила к концу; по невозможности пробраться на место, он стал у двери и начал, как говорится, «пожирать глазами» «предмет своей страсти», который танцевал по-прежнему с адъютантом.
К Климу опять подскочил экзекутор.
– Что, – спросил он, – решились?
– Но что думает она? Ее мысли, ее мысли! Если б я был уверен… Я не согласен ни на какое принуждение… Мне нужно прежде всего ее личное согласие…
– Только-то? Так и хлопотать не о чем! Завтра же к генералу… увидитесь, поговорите – и кончено… а?
Клим схватил руку экзекутора и крепко пожал ее…
– Ну, слава богу… теперь и мне любо… И какое место мы бережем для вас… А о приданом…
– Ничего не нужно…
– Как ничего… девять тысяч назначено… довольно?
– Очень благодарю…
– Дайте слово, что больше не будете требовать, хоть бы и можно…
– Извольте…
Экзекутор потер руки от удовольствия и стал пробираться к дивану, на котором сидела хозяйка…
Клим опять принялся созерцать свою красавицу. Вдруг он заметил, что лицо ее побледнело, глаза помутились; она пошатнулась.
– Вам дурно? – спросил адъютант.
– Воды, – прошептала она едва внятно и почти повисла на руке адъютанта; глаза ее закрылись…
– Обморок! – сказала стоявшая в соседней паре девица весьма некрасивой наружности и приняла ее на руки от адъютанта.
– Воды! – закричал встревоженный адъютант, опрометью бросаясь к двери…
Клим, пользуясь расстройством танцев, в то время пробирался во внутренность залы…
– Воды! – повторил адъютант, обращаясь прямо к нему.
Клим посмотрел на него с изумлением.
– Что же ты стоишь, болван! – сердито закричал адъютант. – Что вытаращил бельмы!.. Слышишь ли, подай стакан воды!
Клим замахнулся; вдруг откуда пи взялся экзекутор; крепко схватил за руку нашего героя. Адъютант отскочил. Клим, уходя, шепнул ему что-то на ухо…
– Эх, что вы наделали! – говорил Климу экзекутор, догнавший его в коридоре. – Стоило затевать историю… Он просто принял вас за лакея: ошибка, больше ничего. И за что было сердиться… Посмотрите, как вы одеты! Последний официант его превосходительства наряднее вас… Фрак вытертый, на лацканах заштопан, рукава засалены…
– Замолчите, пожалуйста!
Но экзекутор не унимался и продолжал бежать за ним, крича громко:
– Жилет! Срам посмотреть – кашемировый! Хоть бы у меня давеча взяли плисовый… Может быть, обошлось бы без всякой истории… Нет ничего невозможного!
– Да ведь сами вы сказали – нужды нет!..
– Я думал, что вы будете сидеть смирно… А вы всё испортили… Что вам стоило сказать: «Я не лакей!» Ему можно бы и спустить, он свой в доме генерала, он погорячился, он ее любит…
– Что?
– Послушайте, не деритесь с ним.
– Невозможно!
– Ну, как хотите; генерал вас и на глаза не пустит к себе… Да и мне, право, охоты нет мешаться в такое дело… Кончите сами, как знаете… Прощайте… Надо бежать успокоить генерала, генеральшу, да и бедная Марья Сергеевна, я думаю, в страхе.
– Марья Ивановна! – поправил Клим, но экзекутора уже не было, он бежал в обратный путь и торговался с извозчиком.
IV
Эту главу следовало бы начать так: «Часу в осьмом утра за *** заставой из мрака утренних туманов показалась карета; за нею ехала невдалеке другая. Наконец оба экипажа остановились; из первого ловко выскочил…» и пр. Еще приличнее было бы поговорить сначала о суете мира, о близком родстве жизни со смертью, где бы можно было разбросать множество глубоких истин. Хорошо бы задать читателю несколько психологических вопросов: что такое честь, что такое жизнь, что такое пощечина? Посудить бы, потолковать обо всем, а потом уже приступить к описанию дуэли… Нет, сперва бы рассказать еще, что делается в душе соперников пред роковым часом, как они встретились, как поклонились друг другу (соперники в романах всегда обходятся между собою очень почтительно), как шибко бились сердца их и отчего и для чего и почему. Тут по обыкновению очертить бы характеры секундантов, одного сделать воинственным и непреклонным, с геройством в душе, с солдатскими остротами двенадцатого года на языке; другого с миролюбивыми наклонностями и поговорками для контраста… Заставить бы, для усиления страха в читателях, первого острить, а второго трусить. Наконец уж поставить на барьер героев, подать бы им пистолеты, скомандовать – раз, два, три! «Раздались два выстрела. Клим упал, кровь хлынула из его плеча; адъютант с зверским восторгом смотрел на страдания соперника.
– Можете ли вы еще стреляться? – спросил он, улыбаясь, как крокодил над замученной жертвой.
– Вы живы, вы не ранены? – радостно спросил умирающий слабым голосом.
– Жив, не ранен! – отвечал торжествующий адъютант насмешливо.
– Слава богу! – простонал несчастный, вздохнул, поднял глаза к небу, трижды произнес: „Мария!“, протянул руку в ту сторону, где жила она, и испустил дух».
Постойте! Кто вам сказал! Ничего подобного не было… Клим точно ранен. Но он и не думал «испускать дух», даже не произнес ни одной пошлой фразы, какие говорят романические герои пред смертию… Мы скоро с ним увидимся…
В Петербурге есть особливый класс промышленников, который живет доходами от квартир, не имея своих домов. Какой-нибудь промотавшийся купец, чаще проторговавшийся мещанин снимает на год по контракту деревянный флигель, верхний этаж или подвал, разделяет его по отделениям и отдает их помесячно бедным чиновникам, старым вдовам, поэтам, кому попало… Лучшее отделение оставляет для своего семейства и квартирует себе даром на счет своих жильцов… Вот для образца дрянной флигель на дворе, одноэтажный. Окна кривые и маленькие, без ставен, вместо стекол наполовину заклеены бумагой; сени темные; в них чан воды, связка дров и кадка из-под капусты, от которой кругом разливается необыкновенное благовоние. Весь флигель состоит из двух комнат, перегороженных пополам; из первой составилась кухня и спальня – жилище хозяев; из второй, в которую ход через кухню, – две небольшие конурки – обитель постояльцев… Но остановимся покуда в первом отделении…
Около белого деревянного стола с работой в руках сидят три пожилые женщины: хозяйка и две ее компаньонки – постоялки. Одна из них – девица, другая – вдова. Как они попали сюда – объяснить нетрудно… У вдовы умер муж, бедный ремесленник; что было, она прожила и теперь кормится работой и живет за пустую плату у хозяйки деревянного флигеля. Судьба пожилой девы гораздо сложнее и запутаннее… Она любит рассказывать о каком-то старом «счастливом» времени, о каретах, богатстве, о «нем», который так любил ее, так лелеял… Но он уехал… Она ждала его, ждала – не дождалась и переехала к той же доброй хозяйке, которая берет так дешево и у которой всегда такая приличная компания… Все три – старые особы, суровые, безвыразительные физиономии, на которых господствовало постоянно выражение досады и злости… Вдова, впрочем, иногда улыбалась, девица вздыхала. Все они беспрестанно между собой разговаривали, перебивая одна другую… Поодаль у окошка сидела племянница хозяина, молодая девушка милой и скромной наружности, которая составляла совершенный контраст с сухими лицами старух. Она, прилежно занятая работой, вовсе не вмешивалась в разговор, даже не слушая его. Нужно еще упомянуть о пятом лице, которого присутствие доказывавалось храпением, по временам выходившим из-за перегородки…
Из первой комнаты второго отделения раздался болезненный стон…
– Опять застонал! – сказала с неудовольствием хозяйка.
– Я не могу слушать его воплей без содрогания, – жеманно произнесла дева, которая в счастливую эпоху своей жизни читывала Поль де Кока…
– И я! – прибавила вдова. – Как заслышу, так покойничек мой сейчас передо мной и стоит, и стоит, как живой… Свет ты мой, Лукьян Силуяныч, на кого ты покинул меня, вдову горемычную!
И она готова была залиться слезами.
– Ох! мне всех тошней! – сказала хозяйка. – Вам что, вам он чужой…
– А вам-то!.. Что вы, матушка Аксинья Федоровна! Какой же он вам родной, голь забубённая, онуча истрепанная, прости господи!
– Тем-то и хуже, – отвечала хозяйка. – Уж пусть бы родной, пропадай добро, да хоть бы совесть не мучила! Всё бы спокойнее: совесть не ела бы… А то подумаю: живет у нас человек, как в своем доме, за квартиру не платит, уход за ним… А что он нам? Добро-то в кого? А черт знает!.. На пришпехте нашли… с улицы подняли… ни брат ни сват; ни брат ни сват… кузнец двоюродный нашему слесарю! Ека их совесть, совесть замучила!
– Но он в несчастии, а несчастные достойны сострадания; на кого же и надеяться им, как не на добрых людей! Бог вам заплатит! – с чувством сказала дева, третий месяц уже не платившая за квартиру.
– Бог вам заплатит! – повторила вдова, находившаяся в таком же положении, и обе они взглянули на хозяйку взором, вызывавшим на сострадание…
– Заплатится сторицею, – продолжала дева, – потому что добродетель никогда не остается без награждения!
– Добро – так и есть добро… Уж человек без добра, – начала вдова, но дева, которая была покрасноречивее и вообще сильней обладала способностью убеждения, перебила ее:
– Вот намедни умерла Власьевна-то – сказала она, – и у нее нашли в сундуке сто тридцать восемь рублей да билет… Кто бы мог ожидать?.. Старушонка оборванная… Христа ради, можно сказать, приютили… Ведь это вам за добродетели ваши, Аксинья Федоровна!
– А известно, за добродетели! – подхватила вдова.
– Власьевна была мне должна, да и похороны стали в копейку! – сказала хозяйка с неудовольствием. – Нечего тут и толковать про билет!.. Конечно, – продолясала она смягчаясь, – отчего и не потерпеть, да вот что: первого числа нам срок платить за треть по контракту домовому хозяину, а в деньгах нехватка…
Вдова и дева переменились в лице.
– Потому, – продолжала хозяйка, посмотрев на них значительно, – я думала поступить иначе… Уж полно нам совеститься с ним, когда сам не знает совести…
– А что и в самом деле, – с живостью перебила вдова…
– И точно, – подхватила дева.
– Но он болен; он в таком положении, – робко заметила молодая девушка, в лице которой с самого начала разговора обнаружилось какое-то тревожное беспокойство.
Хозяйку явно удивило и раздражило такое дерзкое вмешательство.
– Болен?.. – закричала она сердито. – Так не подождать ли, покуда умрет…
– Тише, тише! – невольно воскликнула Фекла, дрожа и бледнея. – Он может услышать!
– А пускай его слушает! Не твое дело!
Фекла потупила глаза в свою работу…
– Так я думала, – продолжала хозяйка, обращаясь к своим собеседницам, – поговорить с ним наотрез. Не отдаст ли хоть вещи, какие у него есть, – всё чего-нибудь стоят.
– Конечно, конечно! – отвечали вдова и дева в один голос…
– Помедлишь, и того лиши<шь>ся! Он сам все выпродаст да пропьет на поганых лекарствах. То и дело пристает к Федотычу: рубашку продай, книгу продай, – ну, книги, черт с ними! – сапоги, то, другое…
Из второго отделения снова раздался болезненный стон.
– На! уж не кончается ли? – воскликнула хозяйка изменившимся голосом. – Хрипи! хрипи! – злобно закричала она через минуту, овладев своим ужасом. – Слыхали уж мы от тебя такую песенку! Вот что-то ты завтра запоешь!..
– У меня все кишки перевернулись от его стона, – заметила дева.
Вдова только перекрестилась.
– Хоть бы записочку, – продолжала хозяйка, – дал, что всё какое у него есть имение оставляет нам за долг… А то угораздит его нелегкая умереть – не поверят…
– А что у него есть? – с беспокойством спросила дева. – Останется ли хоть на уплату вам да на похороны?
– Ради бога, тише… – сорвалось у молодой девушки, на которую передаваемый нами разговор производил, казалось, впечатление беспокойства, ежеминутно возраставшего. – Он, кажется, проснулся!
И она, сама не зная, что делала, подбежала к столу и устремила умоляющий взор на тетку.
Тетка со всего размаха толкнула ее рукой в грудь, топнув ногою и прикрикнув, как на собаку:
– На место!
Девушка села… На глазах ее были слезы.
– Куда! на уплату, на похороны! – начала хозяйка, успокоившись. – Хоть бы половину… Что у него? – какая-то старая шинелишка, кажись…
– Сюртук, – продолжала вдова, – суконный, да уж куда стар!..
– Фрак, жилет и штаны, – докончила дева, в которой надежда выпутаться из затруднительного положения совершенно подавила на сей раз врожденную чопорность и претензию на хороший тон, составлявший лучшую мечту ее жизни.
– Штаны-то обтрепанные! – заметила вдова.
– Всё тряпье, дрянь, ветошь, грошовая амуниция? Грош заплочено да пять раз ворочено! – воскликнула хозяйка. – Вынести на базар – четвертак дадут да полтинник сдачи попросят… Ну, шинелька-то туда и сюда. Шинель я, пожалуй, сама в деньгах возьму. Верх-то на чуйку Федотычу изгодится, ему таковское носить да носить! Не по гостям ходить.
– А подкладку мне уступите, – подхватила вдова. – Что она – кажись, шелковая?
– Как же, шелковая, – отвечала хозяйка. – Ведь вот дрянь голоногая, а туда же – шелковая подкладка!
– Я сошью из нее капот. А с вами сочтемся, матушка. – Разумеется.
– А мне шарф, мне шарф! – кричала дева. – Он такой длинный: я буду носить его вместо хвостов!
– Хорошо, хорошо! – отвечала хозяйка. – Да всё это пустяки… этим квартиры не окупишь…
– У него я намедни мельком в дверь видела какую-то шкатулку, – заметила дева. – В ней нет ничего?
– И не то! Что там взять… Верно, пусто… Да вот Федотыч знает: он каждый день при нем… Федотыч, а Федотыч!
За перегородкой раздался густой, продолжительный зевок и потом вопрос:
– Что, голубушка?
– Спишь, голубчик?
– Сплю, матушка, сплю…
– Проснись на минуту… Скажи-ка нам, что в шкатулке-то у него?
– У кого?
– Да вот у жильца-то. Ты, чай, видел…
– Как же… Не раз заставал: сидит перед ней дурак дураком и плачет, а она открыта…
– Что же в ней?
– Бумажки, – отвечал впросонках хозяин.
– Бумажки! – повторили в один голос супруга, вдова и дева… Но заблуждение было непродолжительно.
– Какие? – недоверчиво спросила хозяйка.
– Вестимо, не ассигнации; вздор: письма! Да что вам за охота пришла спрашивать? То-то бабье неразумное! Об чем ни толкует, а время-то идет да идет… Ей-богу, ей-богу, давно пора спать!..
– Ну и спи себе с богом…
Слышно было, как счастливый хозяин перевернулся на другой бок…
– И больше ничего! – сказала дева со вздохом. – Плохо!
– Плохо! – повторила вдова.
– Нет, не совсем еще плохо, – отвечала хозяйка таинственно…
– А что?
– Видели вы образок, что лежит около него на столе?
– Тетушка, тетушка! – начала молодая девушка укорительно. Но так грозно взглянула Дурандиха и такое сделала движение рукою, нагнувшись к ней в то же время всем корпусом, что ужас отнял у нее язык. Она замерла неподвижно с открытым ртом, и в глазах ее выражение страданья совершенно подавил страх.
– Видела!
– Видела!
– Как жар горит, – заключила хозяйка, давая вес каждому слову. – Оправа-то, должно быть, не ме-дна-я…
У вдовы и девы глаза засверкали; хозяйка смотрела на них с торжеством, которому глубокое удивление к ее проницательности, может быть не без умысла отразившееся на лицах двух слушательниц, доставило обильную пищу. С минуту длилось молчание.
– А портрет видели? – спросила она еще торжественней…
[Старая вдова сделала вопросительную гримасу, старая дева хотела что-то отвечать; вдруг дверь из комнаты второго отделения отворилась, и страшный призрак, похожий более на скелет, чем на человека, неподвижно остановился в дверях…
Лицо его было бледно и безжизненно, глаза мутны. Дико и грозно смотрел он на злых сплетниц…
Как ни уверены были старые ведьмы, что призрак – не кто иной, как их больной постоялец, однако нечаянное его появление заставило их вздрогнуть… Они смутились, уткнули головы в свои работы и хранили молчание…]
– Что ж вы остановились! – сказал больной. – Продолжайте ваш а<у>кционный осмотр… Или вы думаете, что пересмотрели, рассортировали, оценили всё мое имущество?.. Ошибаетесь, у меня еще есть крест на шее, вы, верно, об нем забыли… Оцените уж и его, решите, кому он должен достаться, а то чтоб после моей смерти не поссориться… Долго ли: наследство такое завидное!
И больной, окончив напыщенную речь свою трагическим хохотом, устремил на сплетниц взгляд, который, казалось, говорил им: «Казнитесь! казнитесь! Вы заслужили свою казнь, и я не вправе щадить вас!» Те молчали по-прежнему и, казалось, смутились сильнее. Молодая девушка уже не могла владеть собою и плакала громко. Такой успех, очевидно, ободрил больного: торжественно протянув одну руку вперед, а на другую, локтем которой упирался он в косяк двери, положив голову, он готовился продолжать и, без сомнения, наговорил бы много прекрасных и сильных вещей, но прошла минута – хозяйка успела овладеть своим безотчетным смущением, глаза ее налились кровью, в которой кипела и сверкала злость. Она грохнула кулаком по столу и закричала нагло:
– А что ж, батюшка, третий месяц даром живешь, храним и холим тебя, да уж и слова не скажи! Не по деньгам спесь! Больно заважничал! И что такое мы говорили?
– Я всё слышал, – отвечал больной.
– А хоть бы и всё! – воскликнула хозяйка. – Беда не велика: рта никому не зажмешь… Правду всегда скажу, отцу родному скажу…
– Я еще жив, – продолжал больной, – а вы уже делите мое достояние… в судорогах страданья перемог я силу пожиравшей меня болезни, и какое было первое слово, коснувшееся моего слуха, моего только что воротившегося сознания?.. Не задушаемый радостными рыданьями голос матери, не нежный лепет обрадованной сестры, друга, – но… боже мой! боже мой! За что столько страданий на одного меня, на одного? Нет! моя бедная природа не в силах снести так много! Нужды нет… вы правы… вы бедные люди…
– Так о чем же тут и толковать, коли сам согласен…
– Не за себя, не за свое имущество больно мне: хороните меня заживо, делите мои вещи; я стерплю, но…
– Что, батюшка?
– Ради бога, не говорите вперед, по крайней мере громко, о том, что дорого моему сердцу… Вы меня напугали, моему больному воображению представилось, что вы уже входите ко мне, хотите разлучить меня с образом, которым благословила меня мать, с портретом второго моего отца. Нет, нет! Я не отдам их вам; я хотел бы унесть их с собою в могилу.
Больной весь дрожал, произнося последние слова, и заключил пламенную речь свою трагическим жестом, который чуть не стоил ему падения. С трудом удержался он на ногах, ухватившись за дверь, и долго, обессиленный напряжением, стоял неподвижно, собираясь с силами. Наконец возвратился он в свою комнату шагом нетвердым и медленным, но всё сохраняя ту особого рода торжественность, которая не покидает иных людей и тогда, когда они повязывают галстук.
– Вот новости! – сказала злобно хозяйка, захлопывая за ним дверь. – Федотыч, а Федотыч!
– Что, матушка?
– Встань, старый хрыч!
– Иду.
– Слышишь ли, чтобы его, – закричала она тоном, предупреждающим возражения, указывая на дверь, куда скрылся больной, – чтоб его завтра же не было!
– Да помилуйте, матушка, что же мне… как же я с ним… На улицу, что ли, я его выкину? ходить не может!
– Ну, уж как знаешь.
– Нельзя, совсем нельзя… Вот кабы ему полегче… начал бы выходить, прогуляться, что ли, бы вздумал – тогда… ну тогда… сами видели, матушка, – знаю уж как, не в первый раз!
Он улыбнулся слабо, но в глупо самодовольной улыбке его было столько уверенности, что молодую девушку, не перестававшую следить за разговором, кинуло в дрожь.
– Болен! болен! а сегодня так горланил, – сказала хозяйка, – что куды твой здоровый. Видно, выздоравливает… Смотри же, как только поправится… Надо будет взять и записочку…
– Ну уж еще говоришь – не бывало, что ли! Уж знаю я как – небось, не останется долго на месте… Не в первый раз!
– А уж, ей-богу, и спать пора… – продолжал он. – Ей-богу, пора! Чай, уж не рано…
– Час первый.
– Вот как. До двенадцати! Ох, ох-оох! что мы за господа такие, чтоб сидеть до двенадцати! – сказал старик, зевая протяжно…
Улеглись.
– Вы, батюшка, вчера изволили поругаться с женой. Осмелюсь вам доложить: баба глупая, ничего не понимает. Плюньте на нее, дуру! Извините за ее простоту!
– Ничего, не беспокойтесь…
– Вот, слава богу, здоровье ваше поправляется… Уж как я рад, как я рад за вас. А то, право, – дело прошлое – недалеко было и до того… Лица на вас не было: осмелюсь вам доложить – изволили выть, метаться как угорелым, даже раз песню изволили затянуть, а голос у вас такой странный, точно, осмелюсь вам доложить, порют вас или гонят сквозь строй… Уж что я принял с вами страды: верите ли богу, спать не спал, лежу да только и думаю: «Ну, угодить ему сердечному к Волкову в гости». [1]1
На Волково кладбище.
[Закрыть]Только засну, глядь – Феклушка бежит: «Дядюшка, а дядюшка! поди к жильцу-то. Слышишь, как стонет? Голубчик, поди!» – «Да, дура ты, легче, что ли, будет ему, что я пойлу, чем я ему пособлю?» Таки нет, она всё свое: «Поди да поди! Голубчик, такой, сякой», плачет, ластится, целует меня, старика, и ведь не отстанет, пока не пойдешь… Просто глупость такая – так жаль ее станет, что пе можешь ей отказать… Да вот, слава богу, теперь вам хорошо. Вы, осмелюсь вам доложить, долго еще изволите прожить на квартире?
– Покуда куплю свой дом, всё буду жить на квартирах…
– Так-с… Отчего же… Оно конечно… человеку надо где-нибудь жить. Только… осмелюсь вам доложить, у нас вашу квартиру берут.
– Хорошо, пожалуй, я хоть сейчас перееду. Только не знаю, выгодно ли вам будет: денег я теперь отдать не могу.
– Ничего-с, ничего-с, помилуйте, время терпит…
– Вы честнее своей жены…
– Что она! Осмелюсь доложить – баба… в ней, сказать, чувства никакого нет… Когда будут, тогда и отдадите.
– Я не хочу пользоваться вашим великодушием! Я отдам завтра же, а если не получу денег, у вас останутся в обеспечение долга мои вещи и мебель: добра хоть не много, а сорока рублей ваших оно стоит!
– Точно-с. Один стол письменный – пару целковых дадут. Так оставите?
– Ну да…
– Безо всего-с?
– А что еще надо?
– Вы уж пожалуйте и записочку, что вот де я, нижеподписавшийся, должен такому-то отставному ундер-офицеру Егору Федотову Дурандину столько-то и в обеспечение предоставляю мебель и вещи… Да, ваше благородие, не поленитесь: черкните теперь же – успокойте глупую бабу, оно и мне и вам лучше: не ворчит окаянная!
Поэт по диктовке хозяина написал требуемую записку и ушел со двора. Где он был и что делал, мы объяснять не будем, потому что все такие подробности нейдут к нашему рассказу, довольно знать читателю, что было уже довольно поздно, когда он направил шаги к своей квартире, Там ждал его новый удар.
– Что вам надо? – грубо спросил дворник, загородив фигурой своей отпертую калитку, как скоро узнал нашего героя.
– Здесь моя квартира.
– Квартира! Будто?.. Убирайся, любезный, подобру-поздорову. Теперь ночь. Нечего по чужим домам шататься: как раз угодишь в будку! У нас все жильцы дома.
И дворник хотел захлопнуть калитку. Но поэт, оттолкнув его, вскочил на двор и скорыми шагами пошел к флигелю…
– Напрасно изволите беспокоиться, – кричал вслед ему дворник… – Отставка!
С ловкостью, которую сообщает привычка, взбежал поэт наш по темной лестнице, ощупал дверь и начал стучаться.
– Кто там? – спросил женский голос.
– Я, отворите.
– Федотыч, а Федотыч!
Нескоро ленивые шаги и тяжелое сопенье возвестили о приближении к двери нового лица.
– Что вам угодно? – спросил мужской голос.
– Отоприте, я здешний жилец.
– Жилец! – закричал женский голос. – У нас жильцы все дома!
– Вы с ума сошли!.. Говорю вам, что я ваш жилец. Сегодня поутру оставил квартиру и теперь возвращаюсь,
– Осмелюсь вам доложить, – перебил мужской голос с необыкновенною кротостию, – вы изволите говорить справедливо. Вы точно нанимали у нас квартиру, но изволили от нее отказаться, и я отдал ее другому…
– Вздор! Я не отказывался.
– Как угодно.
– Вы не имеете права согнать меня в такую пору таким бесчестным образом с квартиры, завладеть моими вещами! Я буду жаловаться!
– Вся ваша воля! Осмелюсь вам доложить: вы сами изволили дать записочку, что вещи оставляете под залог, а квартире не стоять же пустой… Дело мое чистое: уж и надзиратель известен…
– Бездельник!
И юноша, полный благородного негодования, удалился быстрыми шагами, но, как ни скоро шел он, до него не мог не долететь торжествующий смех, раздавшийся во флигеле; ушел, взбешенный до крайности, и яростно пробежал мимо предусмотрительного дворника, который поджидал его с ключами у ворот и, запирая за ним калитку, пустил вслед ему замечание:
– А туда же, еще называется барин!
Так кончилась небольшая комедийка, разыгранная отставным сонным солдатом с опрометчивым нашим героем, – комедийка, доказывающая, что если Федотыч и точно был глуп, как утверждала жена его (а на такое свидетельство мы не можем не обратить внимания), то всё же обладал значительною долею того особенного плутовства, которого нет в редком русском человеке и которого не выколотишь из него никаким чубуком.
– Ну, дурак, ты сегодня отличился! – сказала Дурандиха и налила мужу стакан водки.
Он, не исторгнутый из обычной апатии своей даже удачею своего умысла, – может быть, потому, что уж не раз случалось ему откалывать такие коленца, – выпил молча и ушел спать. А Дурандиха долго еще толковала со своими компаньонками, необыкновенно повеселевшими, пила вино и на сон грядущий оттаскала за косу Феклушку за то, что она не только не принимала участия в общей радости, но даже казалась грустнее обыкновенного…
Герой наш, полубольной, полный бессильной ярости, очутился на улице в глухую осеннюю ночь без пристанища…
Тяжело человеку смотреть на пестрый, бесчисленный ряд громадных зданий, которые в состоянии вместить десятки тысяч семейств, и знать, что ни в одном из них нет для него приюта, нет тесного уголка, где бы он мог согреться, отдохнуть от забот и усталости, успокоить душу и тело… тяжело, мучительно-обидно! Клим не плакал, не роптал: судьба уже обрушила на главу его множество гораздо важнейших несчастий, так что последнее скорей можно было принять за шутку ее, чем за обиду… Но не менее того и оно было важно. Едва только несколько оправившись от болезни, еще слабый телом, растерзанный душою, Клим принужден был провесть ночь на улице; вместо спокойствия, которое так нужно было ему, мелькнула в перспективе голодная смерть, на мостовой, в виду множества добрых людей… Тут есть о чем подумать, есть о чем вздохнуть… Машинально ходил Клим из улицы в улицу, из переулка в переулок… Вдруг он остановился против одного дома. Здесь жила его прежняя хозяйка. «Зайди, – шептал ему тайный голос. – У нее, может быть, не занята еще комната подле спальни; ты беден, ты без приюта – она отогреет тебя, укроет от непогоды…»
– Нет, нет! – громко воскликнул Клим и опрометью бросился далее. «А вот дом того франта, который некогда просил тебя отбить у него любовницу. Может быть, он еще от нее не избавился; попробуй, он богат, силен и щедр!» – продолжал тайный голос, но Клим не слушал и бежал далее… «А вот здесь живет экзекутор, – заговорил опять тайный голос, когда Клим прошел несколько улиц, – согласись на женитьбу… Что нужды, что жена будет дурна, не по сердцу, за ней дают десять тысяч, а теперь у тебя нет десяти копеек…» Но добродетельный герой наш еще шибче побежал прочь от дома экзекутора, как будто чем испуганный, а дождь между тем лил ливмя, а пронзительный ветер пробирал до костей. Согласитесь, что надобно иметь большую твердость, чтоб устоять против явных искушений и остаться верным добродетели в такую дурную погоду…
Клим дрожал всем телом; глаза его горели болезненным огнем, голова была горяча, как раскаленное железо, а по всему телу пробегал судорожный холод; вследствие душевных потрясений и продолжительной прогулки на сыром воздухе недавняя болезнь, очевидно, начала возвращаться. Он уже не мог идти далее и присел на лесенке какого-то магазина. Тяжело, тяжело было ему. Видеть неминуемую погибель, близкую смерть – и от каких причин! О, вы не испытали! Вы не можете судить, как убийственно обидно для человека подобное положение. Не мучительно, не неприятно, а именно обидно!Весело погибать в честном бою с врагом, в борьбе с карающим роком – лицом к лицу, грудь с грудью… о, весело! Но погибать под гнетом каких-нибудь ничтожных обстоятельств, которых влияние мог бы разрушить первый глупец, первый бессмысленный бродяга, у которого есть в кармане несколько рублей… о, смешно, смешно!
Вдали по проспекту раздавались шаги, которые всё становились ближе и ближе. Клим поднял голову… При свете фонарей ему удалось рассмотреть двух человек, идущих к нему; один был старый, другой молодой; одежда их была почти одинакова, и у обоих одинаково бедна, с заплатами, за плечами их было что-<то> вроде походных котомок; в руках старика палка. Приближаясь к тому месту, где сидел Клим, они о чем-то очень жарко разговаривали и, казалось, были навеселе.
Вдруг молодой, заметив Клима, быстро забежал вперед, подскочил к нему, протянул руку и жалобно произнес:
– Христа ради! на бедность! грошик! барин добрый!
Герой наш захохотал дико и напыщенно, потому что так уж были построены его мысли, что он не мог пропустить столь прекрасного случая, чтоб не принять его за новую бесчеловечную насмешку судьбы.
– У меня! – воскликнул он. – Просят денег. У меня!
И он опять захохотал. А нищий еще жалобнее повторил свою просьбу. В то время, запыхавшись, нагнал его старый товарищ, кричавший ему еще издали:
– Постой! постой! Я постарше тебя!
И старый нищий, по примеру молодого, протянул руку к нашему герою и уже начал ту же беззаветную фразу, но вдруг на половине остановился и пристально посмотрел в бледное лицо продрогшего юноши.
– Ба! ба! ба! никак, нашего поля ягода! – сказал он. – Что с тобой, господин?
– Я ничего не могу вам дать, добрые люди, – отвечал наш герой. – Ступайте своей дорогой!







