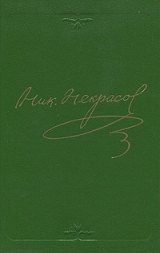
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
«Лучше, – сказал я сам себе, – буду терпеть нужду и голод, но сохраню к себе уважение», – и затем я отправился на свою прежнюю квартиру и лег. Сидеть было не на чем да и не для чего: не было ни огарочка, в комнате была глубокая тьма. Не могу, однако ж, сказать, что я скучал. На сердце у меня было довольно легко и весело… Я знал, что когда-нибудь выйду из такого положения, и никак не хотел верить очевидной и близкой истине, что могу умереть с голоду. Не имея возможности писать стихов, я складывал их в уме, громко повторял каждый придуманный стих и потом прибирал к нему другой, потом свистал, потом задумывался о своем положения и нечувствительно переходил к блестящей будущности, которая ждала меня впереди; так проходил час за часом; не имея никакого моциона, я ел очень мало; обед мой состоял из куска хлеба; два дня я лежал; на третий мне сделалось невыносимо тяжело; мне захотелось выглянуть на свет божий; думаю, что за трубку табаку я, нисколько не задумываясь, отдал бы год лучшей своей жизни. Всячески старался я преодолеть себя, с минуты на минуту мне становилось тошнее; я чуть не плакал. У меня было несколько спичек. Наскучив беспрестанною темнотою, я по временам начал зажигать их; спичка вспыхивала, озаряла на минуту бедную мою комнату, я с жадностью спешил дать пищу бесполезно дремавшему зрению – и опять погасала. Опять наступала тьма и скука. В последний раз уже зажег я трубку, набранную из окурков, дотянул два раза – ничего нет! Мочи нет, тяжело! Я схватил свои сапоги, иголку, нитку и подсел на корточки к среднему окну. Зашив сапоги, я тщательно зачистил швы чернилами; но все-таки они были крайне безобразны – стыдно идти! Надобно дождаться вечера. Наступил вечер. Я оделся и выбежал на улицу. Солнце только что село, деятельность города была еще в полном разгуле; впереди и позади меня шли люди веселые, беззаботные; навстречу мне бежала босая девочка с корзинкою, наполненною сухарями: видно, господам к чаю!.. «Как давно уже не пил я чая! Впрочем, чай мне вреден; у меня грудь от чая болит!» За нею шел мужик, таща за собою ручную тележку… Боже мой! на тележке всё сапоги… Сколько пар сапогов!.. А у меня нет и одних… Я вздохнул и поднял голову вверх… В окне большого каменного дома, во втором этаже, сидит господин и курит трубку… «Как бы я теперь затянулся!» Думаю, что я тогда без размышления отдал <бы> год жизни за трубку табаку. Я бежал из улицы в улицу, вдыхая в себя полным ртом свежий воздух и по временам заботливо взглядывая на сапоги: один шов лопнул, другой начал уж распарываться. Я добежал до бульвара, около Зимнего дворца, сел на железную скамейку. По бульвару ходило множество народу; все одеты так щегольски, иные с крестами, должно быть важные, богатые люди. Мне стало ужасно грустно, я заплакал и закрыл глаза платком. Мне пришло на мысль, что какая-нибудь из этих дам увидит меня, подойдет и расспросит с участием. Я откровенно расскажу ей мое положение и перелью ей в сердце мое горе, которое так меня мучит. Но дамы ходили вокруг меня, весело разговаривали с своими кавалерами, улыбались, и ни одна не подходила ко мне. Я ушел с бульвара последний. Пришел домой и бросился, не раздеваясь, на ковер, только пощупал руками сапоги: они были опять худехоньки. Я вздохнул ужасно глубоко. Наутро срок моей квартире; завтра я лишусь и этих четырех стен, в которых прикрывал свой позор, свою нищету! Боже мой, не побежать ли мне завтра к книгопродавцу, не продать ли ему своих стихов с псевдонимом, который он сам назначит?.. Нет! Лучше умереть с голоду! Или не отдать ли их за шесть карбованцев?.. Но что я с ними буду делать… надолго ли мне будет их?..
В таких мыслях я заснул. Поутру пришел хозяин и объявил, что решительно не хочет, чтоб я жил в его доме. «Мне, – сказал он, – и так довольно досталось. Как это вы целые два месяца живете и окна у вас всё заперты? Беспрестанно ходит народ, спрашивают: не отдается ли комната внаем?» Хозяин наговорил мне много грубостей, я простил ему всё, потому что в жару разговора мне удалось нечаянно взять у него из рук трубку и затянуться. Я обещал ему к вечеру переехать; он ушел.
Переехать? Куда же я перееду? На улицу, на площадь… Боже мой!.. Я опять схватил сапоги и начал их зашивать, потом я начал укладывать вещи и шнуровать чемодан, всё еще не зная, что буду делать. Вдруг слышу под моими окошками хриплый, подозрительный голос: «Старого меху, старого платья продать!» Счастливая мысль озарила меня. В одном халате, без сапогов и без шапки я выбежал на улицу и зазвал к себе торгаша.
У меня было очень много белья. Белья всегда бывает много у провинциалов, приезжающих в Петербург, потому что в деревне это очень мало стоит; был у меня также ковер, без которого я легко мог обойтись; был мех, который предусмотрительный отец отпустил со мною, чтоб я подложил им шинель на зиму. На что мне мех!.. Обойдусь и без меха! Бедному человеку тепло и в шинели. Разживусь – енотовую шубу куплю!
Я продал торгашу всё, что считал лишним, и получил от него около сорока рублей. Сорок рублей! Как давно у меня не было такой суммы! Теперь я опять воскрес! Только как я выберусь из квартиры?.. Как куплю сапоги?.. Вдруг… опять счастие… неожиданное счастие… Торгаш вывалил из своего мешка разную мелкую рухлядь, чтоб удобнее уложить вместе с нею новоприобретенные вещи. Чего тут нет! Обломки меди, старые и новые ножи, чанные ложечки, манишки, гвозди, чулки, сапоги… Я схватился за сапоги и начал их рассматривать! Сапоги, совсем еще крепкие, только подошвы немножко подпоролись… да у одного нос прошиблен. Ничего! Всё лучше моих! Я выменял у торгаша сапоги и придал два двугривенных…
Торгаш ушел, довольный своею покупкой, и опять затянул: «Старого меху, старого платья продать!» Кричи, кричи, любезный! Может быть, в Петербурге найдется еще не один бедняк, которому голос твой покажется голосом свыше…
Я принялся укладывать свои вещи в чемодан. Потом оделся, вычистив сапоги, и пошел искать себе квартиру. Нужда научила меня осторожности: я рассудил, что мне нужно жить как можно экономнее, и решился на все неудобства и неприятности, только бы выгадать цену. Пройдя несколько улиц, я остановился у огромного каменного дома, очень ветхого, весьма неопрятной наружности, и прочел следующий ярлык, написанный очень плохим почерком: «Атдаеца внаймы угал, а цене спрасившя у фатерной хозяйки, войдя навадвор во вторые вороты, впадвали».
Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах у меня запестрели отрывочные надписи вывесок, которыми был улеплен дом изнутри с такою же тщательностию, как и снаружи: делают троур и гробы и на прокат отпускают; медную и лудят; из иностранцев Трофимов; русская привилегированная экзаменованная повивальная бабка Катерина Брагадини; пансион; Александров, в приватности Куприянов.При каждой вывеске изображена была рука, указующая на вход в лавку или квартиру, и что-нибудь, поясняющее самую вывеску: сапог, ножницы, колбаса, окорок в лаврах, диван красный, самовар с изломанной ручкой, мундир. Способ пояснять текст рисунками выдуман гораздо прежде, чем мы думаем: он перешел в литературу прямо с вывесок. Но уважение к исторической истине заставляет сказать, что при вывеске повивальной бабки изображения никакого не было. Наконец, в угловом окне четвертого этажа торчала докрасна нарумяненная женская фигура лет тридцати, которую я сначала принял тоже за вывеску; может быть, я и не ошибся. На дворе была еще ужасная грязь; в самых воротах стояла лужа, которая, вливаясь на двор, принимала в себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом уже с шумом и журчанием величественно впадала в помойную яму; в окраинах ямы копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко распевавшие:
Полно, барыня, не сердись,
Вымой рожу, не ленись!
Но то, что я видел здесь, было ничтожно пред тем, что ожидало меня впереди. Угол, как уведомляла записка, отдавался на заднем дворе: нужно было войти во вторые ворота. Я вошел и увидел опять двор, немного поменьше первого, но в тысячу раз неопрятнее; целые моря открывались передо мною; с ужасом взглянул я на свои сапоги в хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина земли, на который можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, потому что окраины двора были значительно выше средины; но то была обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; ступив туда, нога вязла по колено, и в то же время в нос кидался неприятный и резкий запах. Я смекнул, что лучше последовать известной пословице, и, оставив в покое окраины двора, пошел серединою. Самоотвержение мое увенчалось полным успехом: через двадцать шагов, которые я по предчувствию направил к двери с навесом, прямо против ворот, я заметил, что нога моя с каждым шагом стала вязнуть менее, еще несколько шагов – и я очутился у двери, ведущей в подвал; поскользнулся и полетел… или, правильнее, поехал, – разумеется, вниз, – в положении весельчаков, катающихся с гор на масленице: сапоги по ступеням лестницы застучали, как барабан. Я летел очень недолго; ударился обо что-то ногой; вскочил, осмотрелся: темно, пахнет гнилой водой и капустой; дело ясное: сени. Ищу двери. Наткнулся на лоханку – пролил; наткнулся на связку дров – чуть опять не упал. Что-то скрипнуло, чем-то ударило меня по лбу – ив сенях стало светлей. В полурастворившейся двери я увидел женскую фигуру. Кривая и старая баба гневно спросила, что я тут делаю, потом, не дождавшись ответа, объявила мне, что много видала таких мазуриков, да у ней нечего взять, и что она сама бы украла, если б не грех да не стыдно.
Вы меня покуда еще не знаете, но, узнав хорошенько, увидите, что я человек щекотливый: принять меня за вора значило нанесть смертельную обиду моему костюму и моей физиономии. Я не выдержал и назвал старуху дурой. Есть много людей, которые равнодушнее перенесут название мошенника, чем дурака; старуха, вероятно, была из таких: при слове «дура» она как-то страшно содрогнулась и взвизгнула; ямки рябых щек ее налились кровью.
– Дура? – вскричала она запальчиво. – Я дура? Нет, молод еще, чтоб я была дура… Когда я жила в Данилове… весь Даниловский уезд знает, что я не дура… Пономарица ко мне в гости хаживала… Дура, я дура!
Старуха принялась доказывать, что она не дура, не забывая называть меня дураком и мазуриком. Из уст ее летели брызги мне на лицо и на платье. Вообразить положение, в котором она находилась, может только тот, кто видал бешеную собаку.
Я сначала хотел усмирить старуху, но, сообразив, что мне время дорого, а между тем она, верно, пойдет жаловаться квартальному надзирателю, и нужно будет дожидаться в конторе, а может быть до окончания дела и в арестантской, рассудил за лучшее поскорей уйти подобру-поздорову. Я уже прошел больше половины первого двора, как вдруг долетели до меня следующие слова, которые заставили меня воротиться:
– Ну… зачем ты пришел?.. Коли ты не вор, докажи, зачем ты ко мне, дуре,пришел?.. В гости, что ли, пришел? Я тебя не звала… Ну, скажи, зачем ты пришел?
Я объяснил старухе причину моего прихода, и она вдруг смягчилась. Нет, она сделала больше: вынула из кармана медный пятак и советовала мне потереть им ушибленное место на лбу. Я не противился – из благодарности. Сердце мое таково, почтенные читатели, что оно не может долго питать ненависти: я простил старухе ее минутную запальчивость и отправился с нею смотреть квартиру, в которую вход был через дверь, противоположную ударившей меня по лбу.
Старуха ввела меня в довольно большую комнату, в которой царствовал матовый полусвет, какой любят художники; полусвет выходил из пяти низких окошек, которые снаружи казались стоящими на земле, а внутри были неестественно далеки от пола. Комната была вышиною аршина в три с половиной и имела свой особенный воздух, подобный которому можно встретить только в винных погребах и могильных склепах. Налево от двери огромная русская печка с вывалившимися кирпичами; остальное пространство до двери было завалено разным хламом; пол комнаты дрожал и гнулся под ногами; щели огромные; концы некоторых досок совсем перегнили, так что, когда ступишь на один конец доски, другой поднимается. Стены комнаты были когда-то оштукатурены: кой-где сохранились крестообразно расположенные дранки, какие обыкновенно приготовляются под штукатурку; некоторые из сохранившихся дранок, переломившись, торчали перпендикулярно; но главное украшение стен состояло не в дранках и не в остатках штукатурки: его составляли продолговатые кровавые, впрочем невинные, пятна, носившие на себе следы пальцев и оканчивавшиеся тощими остовами погибших жертв, да густые слои расположенной по углам и под окошками, в виде гирлянд и гардин, паутины, которая тонкими нитями в разных направлениях пересекала комнату, попадая в рот и опутывая лицо. Одна из досок потолка, черного и усеянного мухами, выскочила одним концом из-под среднего поперечного бруса и торчала наклонно, чему, казалось, обитатели подвала были очень рады, ибо вешали на ней полотенца свои и рубахи; с тою же целию через всю комнату проведена была веревка, укрепленная одним концом за крюк, находившийся над дверью, а другим – за верхнюю петлю шкафа: так называю я продолговатое углубление, с полочками, без дверей, в задней стене комнаты; впрочем, говорила мне хозяйка, были когда-то и двери, но один из жильцов оторвал их и, положив в своем углу на два полена, сделал таким образом искусственную кровать. Старуха была очень недовольна самоуправством жильца, но вообще отзывалась о нем весьма хорошо.
– А кто он такой? – спросил я.
– А кто его знает, кто он такой. Хороший человек: с паспортом. У меня без паспорта никого; я уж такая: хоть два целковых давай. Мало ли? Пожалуй, есть всякие… у иной кто хочет за гривну ночуй… а наутро ушел, глядь: у кого сапоги, у кого рубашку, голицы… в баню идти – мыло пропало… Хороший жилец. Дома почитай никогда не живет, а домой придет – спит либо пауков я: учит. «Что, – скажешь, – Кирьяныч… охота тебе… с этакой дрянью… да еще и в руки берешь!..» – «А что, – говорит, – я душеньке враг, что ли, своей, – говорит, – жука увижу да не раздавлю». – «Ну дело, дело, Кирьяныч, коли не мерзит: и душе во спасенье, и жильцам хорошо, и дом простоит дольше». Уж как я ему благодарна: всех пауков перевел; скажи на лекарство – за рубль не шйдешъ! Словно в палатах княжеских… Да вот одним нехорош: за эту дрянь не люблю.
Старуха указала на небольшую, пепельного цвета, полуобритую собачонку, которая в то время вылезла из-под нар, расположенных в правом углу от двери, и, перехватывая зубами с места на место с неистовой быстротою, безжалостно кусала свои грязные ноги.
– Добро бы одну держал, – продолжала старуха, – а то в иной раз вдруг пяток соберется… поднимут вой; известно: есть хотят. Кормить не кормит, а любит; жить, говорит, не могу без собак… Шутишь! Ну да что говорить! я уж такая… Из избы сору не выношу. Вот сами увидите: у меня… я ничего не знаю… ничего не вижу….
Старуха сделала рукою выразительный знак, на который я счел нужным отвечать ей уверением, что я не занимаюсь собачьей промышленностью, и продолжала:
– А что до чего дойдет – всякий за себя, бог за всех. Паспорт есть – я не ответчица. Махнула рукой… пусть, говорю, будут собаки; мне из-за них хорошему жильцу не отказывать. Да и что худого в собаке? Такая же, прости, господи, мое прегрешение, тварь, как и человек. Еще человек иной хуже: греха на нем больше; сами изволите знать: язык… А на собаке какой грех… Ученые собаки бывают: поноску подаст, ползает, ей-богу… всё совершенно как человек; веселей с ними. Вот вы не изволите брезговать (я гладил серую собачонку), а иные… право, разуму, что ли, в них нет?.. Просто дрянь, механик какой-нибудь, выжига забубённая, а туда же: стану я, говорит, вместе с собаками в собачьей конуре жить… Собачья конура!.. Известно, иной фанфарон: на грош амуниции, на рубль амбиции… Квартирка чем не квартирка; летом прохладно, а зимой уж такое тепло, такое тепло, что можно даже чиновнику жить, и простор…
– А почем вы берете?
Началась ряда и состоялась по четыре рубля в месяц. Старуха божилась, что никто гак дешево не живет, и просила не сказывать остальным жильцам настоящей цены.
– Всякое вам уважение сделаю. У вас ничего… Где! Молодой еще человек: верно, уж ничего…
Я хорошенько не понимал, к чему относились слова старухи, но смело отвечал: «Ничего».
– А нельзя и без мебельки; на полу уж какое спанье; разве от бедности. Кроватку поставлю… кипятком выварю… широкая – хоть вдвоем… (старуха усмехнулась) покойно, очень покойно; только подальше от стены… ну да уж я сама и поставлю…
Я дал задатку и отправился за вещами. Перевозка стала мне в гривенник.
Когда, сопровождаемый извозчиком, я вошел с узелком и чубуками, в шинели, надетой в рукава, в мое новое жилище, кровать уже была на своем место: в левом углу, образуемом стеною, противуположною окнам, и тою, в которой находился известный шкаф. Старуха немного прихвастнула насчет ее удобства, ибо постель была такова, что на ней двое могли спать разве по очереди; зато перед нею стоял небольшой только что выскобленный стол с отверстием в боку, доказывавшим, что в столе был когда-то и ящик. Подвал, которому поутру как будто чего-то недоставало, представлял полную, совершенно оконченную картину.
Есть обстоятельства, невольно располагающие к задумчивости при всей лени ума и беспечности характера; Новый год, день рождения, нечаянно встреченные похороны, день переезда на новую квартиру – я знаю, что в таких случаях задумываются даже головы, которые в остальное время ни о чем совершенно не думают. Было часов около девяти; начинались светлые петербургские летние сумерки, а в подвале становилось темно. Мухи, сбираясь роями, словно добрые пчелы, с шумом и визгливым жужжанием отправлялись к потолку для ночлега. Сверчок пел за печкой; что-то ползало у меня по лицу, что-то иголкой кололо в руку, – я сидел неподвижно на голых досках кровати…
Дверь скрипнула, и в комнате раздались звуки, подобные звукам кастаньет.
Я вздрогнул и поднял голову.
Серая фигура медленно шла в правый угол и, продолжая прищелкивать пальцем об палец и языком, с видом совершенной беспечности кивала мне головой.
Я молчал. Серая фигура прошла к своим нарам, села и, положив левую ногу на бедро правой, долго рассматривала сапог, говоря с расстановкой:
– Дратва скверная… ну да и ходьбы много… а толку хоть бы на грош… даже, кажется, мозоли натер… А что вы, то есть, здешние?
– Здешний.
– Тэк-с! А чья фамилия?
– Тростников.
– Знаю. Он меня бивал. С нашим барином, бывало, каждый день на охоту… промаха ли по зайцу дашь, собак опоздаешь со своры спустить – подскачет да так прямо с лошади. А заехал сюда – здесь и побывшился… после смерти, говорят, сердяга и часу не жил!.. Поделом!.. Не дерись с чужими людьми. Естафий Фомич Тростников… как не знать. Задорный такой. От него, чай, и вам доставалось?
– Я не знаю никакого Тростникова, я сам Тростников.
– Тэк-с!.. Извинтите-с…а я думал, что и вы тоже господский человек… просто с глупости… Я три недели только еще из деревни… Не бывать бы и век здесь, кабы не молодая барыня… «Собаки и люди, – говорит, – душенька, нас разоряют; не ждите любви от меня, душенька, – говорит, – покуда будут у нас в доме собаки». Спорили, спорили, да наконец и вышло решение: собак перевешать, а нас распустить по оброку… фффить (дворовый человек засвистал), катай-валяй в разные города и селения Расейской империи от нижеписанного числа сроком на один год… Вот я сюда и махнул… водой на сомине… осьмнадцать дён плыли… всё пели… впеременку гребли… Да вот что станешь делать! – и сел здесь как рак на мели: нет как нет места! Проедаюсь на своих харчах, за кватеру плачу… сапоги новые истаскал; левый совсем худехонек.
Дворовый человек, отпущенный по оброку, зажег светильню, укрепленную в помадной банке, наполненной салом; вытащил хранившийся в изголовье небольшой деревянный ящик, вынул оттуда дратву, шило и молоток; снял сапог с левой ноги и принялся за работу, напевая что-то про барыню. Русский человек любит петь про барыню.
Через полчаса дверь опять отворилась; вошел с собачонкой в руках рослый плечистый мужик лет пятидесяти, одетый в дубленый полушубок, с мрачным выражением лица, с окладистой бородой. Взгляд его, походка, телодвижения – всё обличало в нем человека рассерженного или от природы сердитого. Он прошел прямо к своим нарам (вправо от двери), гневно бросил на них собачонку, которая тотчас начала выть; перекрестился на образок, висевший над нарами; сел, потянулся, зевнул; закричал на собаку: «Молчи, пришибу!» Потом хотел погладить ее, она оцарапала ему руку, соскочила с нар и начала скребстись в дверь. Бородач бросил ей кусок хлеба; она только понюхала; он начал кликать ее к себе, давая попеременно разные собачьи названия, уродливо исковерканные, при каждой кличке останавливался и пристально смотрел на собаку; но собака не унималась. Тогда бородач, выведенный из терпения, топнул ногой и с полчаса ругал собаку, решительно не соблюдая никакого приличия в выражении своего негодования. Наконец собака смолкла и забилась под нары. Бородач разлегся и принялся страшно зевать, приговаривая протяжно за каждым зевком: «Господи, помилуй! господи, по…ми…милуй!»
– Да денег дай! – сказал дворовый человек, отпущенный по оброку.
– Денег у черта просить, – проворчал сердито бородач. Разговор прекратился.
– А что, Кирьяныч, – сказал дворовый человек, отпущенный по оброку, – кабы этак тебе вдруг тысяч десять… а… что бы ты стал делать?
– Ну а ты что?
– Десять тысяч! Много десять тысяч. Опьешься! Нашему брату, дворовому человеку, коли сыт да пьян да глаза подбиты, и важно… хоть трава не расти! да еще целовальники бы в долг без отдачи верили.
– Ну а барин-от?
– Барин, что барин? Оброк отдал, да я и знать-то его по хоту… а и не отдал, бог с ним… Побьет, побьет, да не воз навьет… Десять тысяч! Горячо хватил – десять тысяч. Нечего попусту бобы разводить… четвертачок бы теперь – и то знатно… ух! как бы знатно! На полштофчика, разогнать грусть-тоску…
– Ку…а…а…а… Господи, пом…ми…луй… купи.
– Купи? Да где куплево-то? В одном кармане пусто, в другом нет ничего… Есть, правда, полтинничек… одий, словно сиротинка, прижался, да ведь, знаешь сам, голова, надо и на харчи. С голоду умереть неохота. Иное дело, кабы место найти… А то вот и сегодня у пятерых попусту был… ну уж только и господа, с самого с испода! Одна вышел худенькой, тощенькой… и на говядину не годится; в комнате три стула стоит, халатишко дыра на дыре… «У меня, милейший мой, – говорит, – главное дело, что человек честен был, аккуратен, учлив, не пил бы, не воровал…» – «Зачем, – говорю, – воровать… хорошее ли дело воровать, сударь? дай господи своего не обозрить, кто чужому не рад.А много ли, – говорю, – жалованья изволите положить?» – «Пятнадцать рублев», – говорит. Меня инда злость пробрала… пятнадцать рублев! «Тэк-с», – говорю… (А туда же, «не пей, пе воруй»… да что у тебя украсть-то, голь саратовская?) Шапку в охапку: «Много довольны… мы не из таких, чтобы грабить нагих»… поклон да и вон… К другому пришел… толстый, рожа лопнуть хочет, красная… «Мне самому, – говорит, – почитай что и человека не нужно… поутру фрак да водки подать приду из должности – к кухмистеру сбегать, халат да водки подать, спать стану ложиться – сапоги снять да водки подать – вот и всё. Да вот, – говорит, – у меня, видишь?» – и показывает черта такого… человек не человек, черт не черт… глаза пялит, облизывается. «Я, братец, вот посмотри», – говорит, – и ну по комнате с пугалом прыгать, а оно ему на плечо… рожи строит, кукиш показывает… «Так уж любит меня, – говорит. – Будешь за ней хорошо ходить, будет и тебе хорошо; а захворает, убьется как-нибудь… и жалованья тебе ни гроша, да еще, – говорит, – и того: у меня частный знакомый и надзиратели приятели есть». – «Покорнейше благодарим, – говорю, много довольны… за господами за всякими хаживал, а за чертями, нечего сказать, не случалось». – «Это, братец, не черт, – говорит, – аблизияна». Кирьяныч страшно зевнул.
– Эх ты, ежовая голова! Спишь, а деньги есть… Далась тебе даровщинка. Развязывай мошну-то. На том свете в лазарете сочтемся.
– Толкуй, – сказал Кирьяныч и, докончив фразу, как следовало, присовокупил со вздохом: – Согрешили мы, грешные; прогневили господа бога… совсем дело дрянь! На табак гроша нет… даве на щах останную гривну в харчевне проел… совсем в носу завалило…
– Табачку-свету нигде нету! – сказал дворовый человек горестно. И потом, после некоторого молчания, прибавил: – А и то сказать, какие у нашего брата деньги. Известно наше богатство: кошля не на что сшить – по миру ходить. Иное дело у барина.
Мне показалось, что камушек был закинут в мой огород, и догадка моя оправдалась: дворовый человек Нечувствительно перешел к тому счастливому дню, когда он, полный надеждами, прибыл из деревни и до приискания места занял угол в подвале. День тот был в полной мере торжественный: на новоселье было выпито семь штофов.
– Ан пять! – сказал Кирьяныч.
– Семь, ежовая голова!
– Пять, едят те мухи с комарами! Я как теперь помню, что пять! – И между ними завязался жаркий спор о количестве штофов.
– Ну да сколько бы ни было, – заключил дворовый человек. – Я к тому только сказал, что на Руси такое уж обнаковение: последнюю копейку ребром, а новоселье чтоб было справлено, иначе и счастья на новой квартире не будет.
– И господь того человека не забудет, кто должное исполняет;– заметил Кирьяныч.
– Послушай, брат, – сказал я.
Дворовый человек вскочил и почтительно вытянулся передо мною.
– Чего изволите, сударь?
– На вот, братец, – купите себе вина.
– Слушаю-с. Штоф, что ли, брать прикажете?
– Бери штоф.
Дворовый человек обмотал дратву вокруг недочиненного сапога, надел его на левую ногу, схватил мою фуражку и побежал. Через пять минут вино было на столе пере? моею кроватью вместе с двумя селедками, пятком огурцов, тремя фунтами черного хлеба и четверкой нюхального табаку. Дворовый человек, отдавая мне сдачу, почтительно извинился, что сделал некоторые излишние издержки. Кирьяныч между тем сходил к хозяйке за стаканом.
– Начин с хозяина, – сказал дворовый человек наливая.
Я отказался.
– Вона! – воскликнул дворовый человек в каком-то странном испуге. – Гусь, и тот нынче пьет… И пословица говорит: ходи в кабак, кури табак, вино пей и нищих бей – прямо в царство немецкое попадешь! Что ж вы душе своей, что ли, добра не желаете?
– Да вы бы в самом деле протащили немножко, – прибавил флегматически Кирьяныч. – У вас лицо такое словно обожженный кирпич.
Но я опять отказался.
– Нечего делать, – сказал дворовый человек, хитрс усмехаясь, – и не хотел бы, да надо пить. – Выпил, подержал с минуту стакан над лбом и произнес протяжно: – Пошла душа в рай на самый на край! Ну, Кирьяныч!
Но Кирьяныч ничего не слыхал. Он глядел в пол, топал ногою, перескакивая с места на место, и кричал: «Посвети! посвети!» Наконец он в последний раз страшно топнул ногою, восторженно крякнул и возвратился к столу. Лицо его сияло торжественно.
– Полно тебе пауков-то губить. Лучше бы вон что по стенам-то ползают; спать не дают… Пей, пока не простыло!
– Не грех и выпить теперь, – сказал Кирьяныч самодовольно. – Прибавь, господи, веку доброму человеку!
Перекрестился и выпил.
Когда было выпито по другому стакану, дворовый человек взял балалайку, заиграл трепака и запел:
В понедельник
Савка мольник,
А во вторник
Савка шорник.
С середы до четверга
Савка в комнате слуга,
Савка в тот же четверток
Дровосек и хлебопек,
Чешет в пятницу собак,
Свищет с голоду в кулак,
В день субботний всё скребет
И под розгами ревет;
В воскресенье Савка пан —
Целый день как стелька пьян.
Послышался страшный стук в двери, сопровождаемый странным мурныканьем.
– Ну, барин! – воскликнул дворовый человек. – Будет потеха: учитель идет!
– Что за учитель?
Дверь отворилась настежь и, ударившись об стену, оглушительно стукнула. Покачиваясь из стороны в сторону, в комнату вошел полуштоф, заткнутый человеческою головой вместо пробки; так называю я на первый случай господина в светло-зеленой, в рукава надетой шинели, без воротника: воротник, понадобившийся на починку остальных частей одеяния, отрезан еще в 1819 году. Между людьми, которых зовут пьющими, и настоящими пьяницами – огромная разница. От первых несет вином только в известных случаях, и запах бывает сносный, даже для некоторых не чуждый приятности: такие люди, будучи большею частию тонкими политиками, знают испытанные средства к отвращению смрадной резкости винного духа и не забывают ими пользоваться. Употребительнейшие из таких средств: гвоздика, чай (в нормальном состоянии), Гофмановы капли, пеперменты, фиалковый корень, наконец, лук, чеснок. От вторых несет постоянно, хоть бы они неделю не брали в рот капли вина, и запах бывает особенный, даже, если хотите, не запах – как будто вам под нос подставят бочку из-под вина, которая долго была заткнута, и вдруг ототкнут. Такой запах распространился при появлении зеленого господина – я понял, что он принадлежит ко второму разряду. Всматриваясь пристально в лицо его, я даже вспомнил, что оно не вовсе мне незнакомо. Раз как-то я проходил мимо здания с надписью «Богоявленский питейный дом». У входа, растянувшись во всю длину, навзничь лежал человек в ветхом фраке с белыми пуговицами; глаза его были закрыты; он спал; горячее летнее солнце жгло его прямо в голову и вырисовывало на лоснящемся страшно измятом лице фантастические узоры; тысячи мух разгуливали по лицу, кучей теснились на губах, и еще тысячи вились над головой с непрерывным жужжанием, выжидая очереди… Долго с тяжким чувством (вы уж знаете, что у меня чувствительное сердце) смотрел я на измятое лицо, и оно глубоко врезалось в мою память. Теперь он был одет несколько иначе и казался немного старее. Кроме шинели, разодранной сзади по середнему шву четверти на три, одежду его составляли рыжие сапоги с заплатами в три яруса, и что-то грязно-серое выглядывало из-под шинели, когда она случайно распахивалась. Ему было, по-видимому, лет шестьдесят. Лицо его не имело ничего особенного: желто, стекловидно, морщинисто; на подбородке несколько бородавок, которые в медицине называются мышевидными, с рыжими завившимися в кольцо волосами, какие отпускают на бородавках для счастья дьячки и квартальные; на носу небольшой шрам; глаза мутные, серые; волосы (странная вещь!) черные, густые, почти без седин; так что их можно было бы назвать даже очень красивыми, если б но две-три небольшие, в грош величиною, плешинки, виною которых, очевидно, были не природа и не добрая воля. Но вообще вся фигура зеленого господина резко кидалась в глаза. В нем было что-то такое, что уносит с собой актер в жизнь от любимой, хорошо затверженной роли, которую он долго играл на сцене. В самых смешных и карикатурных движениях, неизбежных у человека нетвердого на ногах, замечалось что-то степенное, что-то вроде чувства собственного достоинства, и, говоря с вами даже о совершенных пустяках, он постоянно держал себя в положении человека, готового произнести во всеуслышание, что добродетель похвальна, а порок гнусен. От этих резких противоречий он был чрезвычайно смешон и возбуждал в дворовом человеке страшную охоту над ним посмеяться.







