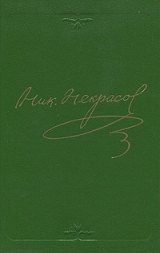
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Анна Ивановна нагнулась и достала водку. Выпив рюмку, студент убедительно просил хозяйку последовать его примеру: «Лучше, матушка, – говорил он, – головную боль вашу разгонит. Икотки тоже не опасайтесь… возьмите сахарку кусочек да пососите… У вас, должно быть, что-нибудь такое на желудке… Правда?.. Видите, я сейчас угадал! Завтра я принесу вам лекарства– у нас в казенной аптеке даром отпустят – выпишу на себя… Всё как рукой снимет… Только вы уж дайте мне волю: лошадиный прием закачу! Ха! ха! ха! Ей-богу, закачу лошадиный!»
Студент залился страшным хохотом; успокоившись, он хотел запить свою остроумную шутку водкой, но прилив смеха возвратился к нему в ту самую минуту, когда он нагнул рюмку, поднесенную ко рту; брызги полетели во все стороны, и часть их попала мне в лицо и на платье Матильды, несмотря на то что мы сидели довольно далеко: в стороне у окошка. Студент сильно закашлялся и кашлял около пяти минут так громко и пронзительно, что окна нашей комнаты тряслись и звенели.
«Преловкий молодой человек! – сказала Матильда, обтирая свое платье. – Вечно чего-нибудь наделает! Фыркает, как лошадь! Точно сейчас из конюшни! Замарал мне всё платье… Ах, да и на вас попало!» – воскликнула она, заметив на моем лице капли красноватой жидкости, и тотчас же, приблизившись ко мне, начала вытирать мое лицо своим белым платочком. «Бедненький!» – продолжала она, смотря прямо мне в глаза и ударив в заключение легонько по моей щеке оконечностями своих пальчиков. – «Вы не хотите пить водки, так они вас обливают!» Я был как в лихорадке; огонь пробегал по моим жилам.
Благодетельное действие, произведенное надо мною историею с грибами, которую я рассказал выше, еще более усилилось после истории с кашлем: я сделался необыкновенно смел. В то время как достойный представитель скотоврачебной науки, выпивая рюмку за рюмкой, рассказывал своей собеседнице, – щеки которой горели алым румянцем, доказывавшим, что она строго держится советов своего доктора, – разные удачные эпизоды из своей практики, где главными действующими лицами были большею частию коровы и лошади, – между нами происходил совершенно другой разговор, хотя столь же бессвязный, но имевший тогда для меня неизъяснимую ценность. Не знаю, который разговор сильнее заинтересовал бы постороннего слушателя, но твердо уверен, что я не взял бы тогда тысячи анекдотов о лошадях, коровах, собаках, на которые почтенный «доктор» был большой мастер, за десятую долю того, что мы говорили в тот вечер. А между тем, как теперь припоминаю, мы говорили сущие пустяки!..
Но полное торжество мое было еще впереди. После чая, к которому куплен был полуштоф французской водки, мы сели играть в вист. Мне досталось место против Матильды; сначала мы сидели довольно спокойно, вдруг нога Матильды случайно коснулась моей ноги; я весь вспыхнул и спешил отодвинуться назад, устремив на Матильду взор, умоляющий о пощаде за невольную дерзость. Но, к изумлению и радости, не заметил в лице ее ни малейших признаков гнева: оно, казалось, сияло необыкновенным счастием. Ободренный, я протянул ноги несколько вперед; спустя четверть часа я снова почувствовал толчок в правую ногу и вслед за тем нажатие в левую; я осмелился отвечать тем же, протянув ноги как можно далее, – и таким образом между нами завязался живой и красноречивый разговор, от которого меня бросало то в жар, то в холод. С час пробыл я в таком мучительно-сладком положении; наконец я не мог долее терпеть; нужна была хоть капля на взрыв пожара, который кипел в моем сердце: я умышленно уронил карту под стол, нагнулся за ней и поцеловал одну из маленьких ножек Матильды. Усевшись, я взглянул на нее, всё еще с некоторым страхом. Она сложила свои розовые губки в поцелуй и улыбнулась…
Я обезумел от радости. В бедной низкой комнате, тускло освещенной сальным огарком, озарявшим картину подгулявшей бедности, – старые карты, полуштоф с зеленой печатью и пестрой виньеткой, закапанной сургучом, четверть фунта икры и кусок хлеба на лоскутке грязной бумаги, щипцы, из которых поминутно дымилось смрадное испарение свечного нагара, да испещренную мухами рюмку с выбитым краем, – среди жалкой и бледной действительности, окружавшей меня, я был счастлив так, как не бывал счастлив уже никогда впоследствии.
Целую ночь я не спал. Любовь моя, в один день достигшая полного своего развития самыми простыми и естественными путями (грибы, водка, сальные карты), отсюда приняла характер чисто романический: в голове моей закружилось множество планов безумных и несбыточных или до того ребячески простодушных, что впоследствии при одном воспоминании об них я краснел и горько сам над собою смеялся; вздохам и воззваниям к ней не было конца и умолку; к утру явились даже стихи. Я их не приведу здесь, потому что они очень глупы.
Каждый день начал я посещать тетушку. Заметив, что у нее не всегда доставало денег на водку, которую она очень любила, я однажды без церемонии предложил ей свой кошелек; с тех пор она начала очень исправно им пользоваться. В то время как она распивала с неизменным спутником своим, долгоносым студентом, вино, купленное на мои деньги, мы болтали с Матильдой в уединенном углу или уходили гулять. Прогулки наши были очень забавны: осмотревшись кругом, через каждые десять минут мы останавливались, пожимали друг другу руки, целовались и продолжительно обнимались. Иногда заходили в кондитерскую (самую уединенную), ели мороженое, пили кофе, читали журналы (Матильда была большая охотница до стихов); Матильда играла моими волосами, приговаривая «плутик», «душка» и другие нежные имена; потом она брала афишку и хвалила пиесы, назначенные на следующие представления; на другой день я спешил к ней с билетом. Иногда, проходя мимо женского магазина, Матильда засматривалась на какую-нибудь безделку, которую я спешил тотчас купить. Когда погода не позволяла ходить, мы брали извозчика и разъезжали по улицам без всякой цели.
Во время наших прогулок Матильда очень часто спрашивала меня, был ли я влюблен прежде. Сначала я молчал, но наконец однажды откровенно рассказал ей все мои детские шалости и порывания, имевшие отношение к предмету ее вопроса. Матильда бросилась обнимать и целовать меня с необыкновенным жаром и говорила смеясь: «Только-то? И больше ничего, Тиша, ничего? Признайся!» – «Ничего», – отвечал я и был совершенно прав, ибо до встречи с нею короткость моя с женщинами действительно не заходила далее пожатия руки, поцелуя или невинного объятия…
Однажды, когда мы были в кондитерской, Матильда шепнула мне, что ей хочется шампанского. «Так, что-то страшно! – прибавила она. – Я никогда не пью, а сегодня бы выпила». Я велел подать полубутылку. Матильда выпила четыре бокала, я только два. Потом мы сели в карету (Матильда проговорилась, что она давно не езжала в карете). «Куда же теперь?» – спросила Матильда. Я понимал, что следовало отвечать: «Ко мне», но язык мой не двигался: на меня напала ужасная робость. Матильда прижалась лицом к моему плечу и засунула горящую руку свою мне под жилет. «Куда же?» – повторила она шепотом над самым моим ухом, на котором в то же время отразился горячий след ее поцелуя. Я сделал усилие над собою, и уста мои произнесли невнятный звук, который Матильда перевела очень удачно. «К тебе, душенька?» – сказала она с живостью. «Да!» – отвечал я протяжным шепотом. Робость моя наконец уступила место другому чувству, более сильному, которое она доселе заглушала. С каждой минутой нетерпение мое увеличивалось; во всем теле я чувствовал боль и дрожь.
Выскочив из кареты, я прямо бросился к колокольчику и начал звонить изо всей силы; когда калитка была отворена, я взял Матильду за руку и через темный коридор ввел в свою комнату. В то время как она переходила из угла в угол, вероятно отыскивая стул, на котором бы могла сесть, я ощупал лежавший на окне ящичек со спичками и шаркнул одну из спичек об стену. Спичка вспыхнула, разгорелась и озарила четыре голые стены желтого цвета, разостланный среди полу ковер и на нем подушку и одеяло, расшнурованный чемодан, из которого торчали разные принадлежности мужской одежды, в правом углу узел грязного белья, на котором покоилась хозяйская кошка, в левом – худые сапоги и замаранные засохшей грязью калоши; на одном окошке чайник, с поврежденным носом, без крышечки, чашку и блюдечки, бутылку, в которой торчала свеча, щепоть чаю на крышечке от чайника, обернутой кверху, и кусок сахару, выглядывавший из лоскутка синей бумаги; на другом – две банки: с помадой и ваксой, сапожную щетку, гребенку, три сальных свечки и несколько русских романов; на третьем и последнем – умывальник, коротенькую трубку и горсть табачной золы. Около ковра – единственный предмет роскоши – стоял деревянный трехногий стул, обтянутый кожею, из которой выглядывала мочала; на стуле стояла чернильница и лежал лист бумаги с недописанными стихами; подле стула на полу валялось несколько тетрадей и листков стихотворного содержания. Такова была комната, в которой я жил. Торопясь выехать из гостиницы, где за каждые сутки нужно было платить не менее двух рублей, я нанял первую попавшуюся комнатку в твердом намерении на другой же день купить несколько необходимой мебели (так как я намеревался пробыть в Петербурге, я мог бы нанять квартиру и с мебелью, но за мебель нужно было платить дороже по крайней мере пятью рублями в месяц), но русский человек предполагает, а случай располагает; на другой день мне было недосуг, на третий – я очень устал, дежуря в приемных важных людей, на четвертый – влюбился! Таким образом случилось, что я спал чуть не на голом полу, пил чай из худого хозяйского чайника и писал стихи на трехногом хозяйском стуле, подогнув под себя ноги по-турецки.
«На что же ты засветил свечу? – сказала Матильда с улыбкою, которою старалась скрыть удивление, возбужденное в ней неустройством моей квартиры. – Неужели ты спишь при огне? Или ты думаешь делать что-нибудь вместо того, чтобы спать?..»
Она задула свечу и попросила меня расстегнуть ее платье; с непривычки я очень долго копался над верхним крючком, который никак не хотел уступить моим усилиям; наконец верхний крючок был побежден; Матильда очутилась передо мной в одной белой юбочке; я припал устами к полуобнаженной груди ее в сильном порыве страсти. «Что ты со мной делаешь, Тиша? Ты хочешь погубить меня! Ах! Боже мой! Как я дрожу! Как мне страшно чего-то! – шептала она голосом невинности, которой угрожает опасность. – Отпусти меня, я уйду домой… Ах, боже мой! Я не знаю, что делаю… я так молода… так неопытна!..» Я отскочил в ужасе в противоположный угол комнаты: слова Матильды показались мне голосом, исходящим из глубины души, возвратившейся к добродетели. Роль обольстителя, которою я так часто гнушался в романах, предстала передо мною во всей черноте своей. «Клянусь, Матильда! – сказал я трагическим голосом. – Ты здесь вне опасности! Завтра рано ты уйдешь отсюда столь же чистою, как вошла сюда. Я более к тебе не приближусь…»
Но Матильда вдруг переменила тон и сказала очень весело: «Ах, боже!.. у меня есть до тебя еще просьба: ты расстегнул мне платье, а о корсете-то я и забыла! Вот Тут-то ты помучишься!»
Я действительно расстегнул корсет с большим усилием; мне было не до того. Матильда села на ковер и стала снимать с себя башмаки. «Что ж ты не раздеваешься? – сказала она. – Или ты хочешь простоять целую ночь на одном месте? Раздевайся же, Тиша! Мне холодно без тебя!» Она подбежала ко мне и начала теребить меня за рукав, приговаривая: «Раздевайся, раздевайся, раздевайся!» Через минуту я лежал рядом с нею. Через полчаса…
Около двух месяцев я был занят одною любовью; позабыл совершенно цель, для которой приехал, и не писал даже ни строчки к отцу. К счастию, одно обстоятельство меня образумило.
Однажды я пришел по обыкновению к тетушке и застал ее немного навеселе, в сильной ссоре с Матильдою. Матильда при моем появлении тотчас ушла в свою комнату, говоря, что всеми мерами постарается переменить квартиру как можно скорее. Я спросил тетушку о причине размолвки.
Анна Ивановна вместо ответа на мои слова после некоторого молчания сказала с важностию:
– Послушайте, Тихон Александрыч, вы человек молодой, неопытный, очень еще неопытный. Я хочу нас предостеречь. Матильда девушка очень хорошая и честная, но она вам не пара; поверьте мне, можно найти девушку, которая будет гораздо меньше вам стоить. Здесь, в Петербурге, такого товара не занимать стать (тетушка усмехнулась). Можно найти, пожалуй, и лучше.
Язык, которым говорила тетушка, был для меня дик и странен. Я решительно не понимал, каким образом можно найти девушку лучше той, которую любишь; однако ж удержался от возражений, нетерпеливо желая узнать, к чему поведет тетушкино вступление. Она продолжала:
– Я говорю с вами как родственница, много вас любящая и желающая вам добра. Матильда избалована богатыми любовниками, и ваших денег ей надолго не станет. (Я ведь знаю, что вы небогаты.)
– Как, тетушка? – воскликнул я с запальчивостию. – У Матильды были любовники?
– Не только были, но даже есть и теперь, мой друг.
– Не может быть, – возразил я с жаром, и глаза мои засверкали. – Вы клевещете или шутите. Не сами ли вы называли ее честною девушкою и хвалили как образец добродетели?.. Впрочем, – продолжал я, спохватившись, гораздо спокойнее, – зачем я так горячусь: ведь она мне не родственница! Право, не понимаю, с чего вам вздумалось говорить со мною об ее поведении.
Тетушка усмехнулась и сказала с упреком:
– Грех вам, Тихон Александрыч, я говорю с вами как добрая родственница, а вы от меня «скрываетесь». Как будто я не вижу, что вы и ко мне-то ходите для нее только; каждый день водите ее по гуляньям да по театрам, накупаете ей разных нарядов, водите ее по кондитерским…
Тетушка говорила целый час без умолку. Она описала мне Матильду самыми черными красками; божилась, что у нее есть два любовника: один – военный, очень хороший человек, нанимает для нее квартиру и, благодаря бога (тетушка умиленно подняла глаза кверху), каждый месяц очень аккуратно расплачивается; другой – купец, находится теперь в Нижнем на ярмарке, откуда еще недавно прислал цибик чая. «Если вы не верите, – заключила тетушка, – моим словам, то я их могу доказать. Пробудьте только у нас когда-нибудь часов до двенадцати: вы услышите за стеной в Матильдиной комнате мужской голос и стук сапогов со шпорами».
Глава
О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются
Когда отчаяние мое несколько поутихло, я взглянул на тощий свой кошелек, на голые стены квартиры, с которою сердце мое предчувствовало скорую разлуку, на сапоги, которым угрожало скорое разрушение, и крепко призадумался о своем положении. Я был один-одинехонек в огромном городе, наполненном полумиллионом людей, которым решительно не было до меня никакой нужды. Горькое раскаяние овладело мною. Я упрекал себя в беспечности, глупости и расточал себе множество неприличных названий, на которые так щедр человек, недовольный собою. «Если бы, – говорил сам себе, – у меня было побольше рассудка, я никогда бы не дошел до такого положения, потому что мог бы его предвидеть. Если б я не нахвастал тетушке своим богатством, она бы никогда не попросила у меня денег взаймы, а если б и попросила, то мне нисколько не стыдно было бы ей отказать. Матильда также была бы гораздо поумереннее в своих прихотях, да и мне не было бы никакой нужды исполнять их беспрекословно. Таким образом небольших денег, которые я привез с собою из дому, стало бы мне еще по крайней мере месяца на два, а между тем я мог бы приискать себе какой-нибудь источник доходов. Теперь мне ничего более не остается, как идти по миру или наняться к кому-нибудь в лакеи!» При этой последней мысли дрожь пробежала по моим жилам: древняя дворянская кровь заговорила в моих жилах, и я дал себе слово, что никогда не буду лакеем. Целый день лежал я среди полу на ковре, в крайней задумчивости, окруженный совершенною темнотою. Надобно знать, что квартира моя была в нижнем этаже, окнами на улицу. В первые три дня, когда ставни были отворены, прохожие останавливались и с диким любопытством продолжительно рассматривали мою комнату, совершенно пустую, в которой среди полу лежал человек. Однажды даже заметил я, что какой-то человек, по-видимому наблюдатель нравов, в коричневой шинели и небесно-голубых брюках, очень долго стоял у окошка, пристально разглядывая мою квартиру, и по временам что-то записывал. Мне сделалось стыдно: я велел запирать ставни и с тех пор их не отпирал. Наконец я вскочил с необыкновенною быстротою, достал огня и, засветив единственный бывший у меня огарок, присел, поджавши ноги по-турецки, к трехногому стулу и начал вписывать в тетрадь стихи, сочиненные в Петербурге… Я писал до тех пор, пока огарок догорел совершенно и в комнате распространилась прежняя темнота; другой свечки не было (да и купить ее было не на что), и потому я принужден был лечь спать. Ио мне не спалось: луч вспыхнувшей надежды осветил дотоле темное мое будущее; я вспомнил все прежние мечты мои и надежды на поэтическую известность и снова предался им безотчетно. Нетерпеливо ждал я наступления дня; наконец свет мелькнул в щелях ставен; я вскочил и начал одеваться; я пошел к хозяйке, выпросил у нес нитку с иголкою и начал зашивать дыру, бывшую на правом моем сапоге; потом я закрасил белые нитки шва чернилами, налил немножко чернил в крышечку коробочки, в которой находились спички, и принялся чистить сапоги (всё это я делал у довольно большой щели средней ставни), ваксы у меня не было; затем тою же щеткою я вычистил платье, причесал голову, предварительно смоченную водою, и начал одеваться. Одевшись, я взял тетрадь с своими стихотворениями и пошел на Невский проспект. Я переходил из одной книжной лавки в другую, предлагая свои стихотворения, но везде получал один и тот же ответ: «Не надо-с». Некоторые спрашивали меня, имею ли я какую-нибудь известность и к которой партии принадлежу и на покровительство какого журнала я имею надежду. Я отвечал, что решительно ее имею сношения ни с каким журналом и думаю, что моя стихи, если я не ошибаюсь, заслужат равное от всех журналов одобрение. Приказчики двусмысленно улыбались и советовали мне предварительно напечатать несколько своих стихотворений в журнале, назначая каждый своего журналиста и жестоко порицая всех остальных. Наконец я пришел в один великолепный магазин с библиотекой для чтения, занимавший целый этаж на лучшем месте Невского проспекта. Хозяин этого магазина, довольно толстый человечек невысокого роста с телячьим простодушием в физиономии, осмотрел меня с ног до головы каким-то полупрезрительным, полусожалительным взглядом, взял мою тетрадь, привесил ее на руке и сказал, что он покажет ее редактору. Я оставил ему тетрадь и через три дня явился за ответом. Но тетрадь еще была у редактора. Едва в три недели я успел вытребовать у него назад тетрадь мою, которая провалялась у него в магазине. Он с гневом бросил ее на прилавок и сказал: «И не такие литераторы у нас ждут по месяцу! У нас такого хламу валяется целая кладовая!» и пр. Я опять начал ходить с моей тетрадью по книжным лавкам, однако ж без успеха. Только один книгопродавец, торговавший в Гостином дворе, которого я сначала никак не мог застать дома, польстил меня надеждою. Это был человек среднего роста, не слишком тонкий и не слишком толстый, с вострым, как у бекаса, носом, серыми глазами, которые бегали с удивительною скоростию от предмета к предмету, с моргающими бровями и лошадиной походкой. Когда после долгих неудач я наконец застал его в лавке, он был окружен множеством посетителей, из которых каждый с нетерпением на него поглядывал, ожидая вожделенной аудиенции. Книгопродавец, подобно министру, с важностью подходил от одного посетителя к другому и расспрашивал о причинах их посещений. Некоторых он уводил с собою в задние отделения своей лавки и там продолжительно с ними беседовал, потчуя их чаем из медного чайника. На меня он, казалось, не обращал никакого внимания, и я, верно, бы прождал понапрасну, если б не одно обстоятельство. Какой-то господин очень плотно пристал к Линеву и начал требовать от него денег. Линев, не знавший, как увернуться от настоятельного кредитора, подбежал ко мне с вопросом: «Что вам угодно-с?» Я показал ему свою тетрадь и сказал, не хочет ли он купить мои стихотворения.
– Сти-хо-тво-рения, – произнес книгопродавец, принимая от меня тетрадь и прочитывая с расстановкою заглавный лист. – Сти-хо-тво-рения Тихо-Тихо-Тихона Мотовилова… Так-с… Мотовилова-с… Стало быть, вы-то и есть Мотовилов-с?
– Так точно, – отвечал я.
– У меня был знакомый-с… Мотовилов… Павел Петрович Мотовилов-с… даже немножко похож на вас, право, ей-богу-с… не роденька ли-с?..
– Нет, – отвечал я. – Отца моего зовут Антоном, а больше родных у меня нет. Должно быть, однофамилец…
– Должно быть, однофамилец-с, – повторил книгопродавец. – А прекраснейший человек-с Павел Петрович-с… Всегда книжки у меня забирал… право, ей-богу-с, званиев двадцать вдруг возьмет-с… и деньги все тут же на прилавочек выложит. «Смотри, – говорит, – Василий Абрамыч, лишние насчитаешь – пришли обратно»… ха-ха-ха! Такой шутник был, прости господи… да вот… умер… и какой здоровенный был… Все – люди, все – человеки. Сегодня, то есть, хлопочешь, горюешь, как бы рублик или полтинку достать, ну, дело житейское… а завтра растянулся, прости господи, и ничего не надо…
Книгопродавец вздохнул.
– Так вам угодно продать свои стихотворения? – сказал он, ковыряя в носу и прищуривая один глаз.
– Да. Купите и напечатайте.
– Напечатать-с. Конечно-с, долго ли напечатать-с… Тут листиков семь-с печатных, больше не будет-с… Да что толку-то-с напечатать. Стихов нынче никто-с не читает… ей-богу-с!.. Пушкин да Жуковский-с только у всякого и на уме-с! А как-с думаете напечатать, с именем или так-с?..
– Думаю на первый раз выступить под каким-нибудь псевдонимом…
– А что… страшно-с? Хи! хи-хи! псевдоним-с, конечно-с, не так опасно… А какой думаете-с псевдонимчик прибрать-с?
– Не знаю еще. Впрочем, тут думать нечего: какую-нибудь фамилию, какая первая покажется.
– Возьмите-с – Ершов… Вот недавно вышла маленькая книжоночка «Стихотворения Ершова».
Книгопродавец взял с прилавка небольшую книжку в голубой обертке и подал мне.
– Издал Свистунов… такой-с разбойник, перебил… у меня… право-с! Знатно идет-с… Экземплярчиков сотенки Три-с у меня разошлось… Хвалят да спрашивают, не будет ли еще книжечки… Так вот-с, понимаете… Вы уж не бойтесь… Я отвечаю-с…
– Помилуйте, как можно, – такой подлог…
– Ничего-с. Я и все так-с! Ей-богу-с! Какой тут подлог-с… и совсем одинаковые фамилии бывают… не только так-с… Ежов – Ершов – какое тут сходство, а я бы вам сотенки полторы отвалил.
– Нет, я не согласен на такой бессовестный поступок, да притом и цена, которую вы… слишком ничтожна.
– Можно прибавить-с. Право-с. У меня и теперь лежит с полтораста требованиев от господ иногородных – все просят стихотворения-с Ершова-с… Я бы в три дня откатал-с… У меня бы во все типографии. Возьмите-с двести рубликов…
Я решительно отказался от такого подлога и просил книгопродавца взять у меня стихи за предлагаемую цену. Он отказался.
– Сколько же вы дадите? – спросил я.
Книгопродавец поворочал мою тетрадь, рассмотрел оглавление, взвесил на руке и сказал:
– Да как-с… ей-богу, не знаю… что вам и посулить… Ведь вот-с вы совсем неизвестны-с в литературе… напечатаешь, да потом и свищи в кулак, с позволения сказать… хи! хи! хи! попадешься в такую беду, что не роди мене маты на свит…ей-богу-с! Да еще, знаете, этак немножко, то есть извините, ей-богу-с, отхлещут-с в журналах… Рубликов-с пятнадцать можно бы дать-с…
Я пришел в ужас и поспешил уйти из лавки книгопродавца…
Я решился последовать совету невысокого книгопродавца и отправился к журналисту. Я решительно не имел тогда никакого понятия о журнальных партиях, отношениях, шайках – я думал, что литература, говоря словами одного почтенного сочинителя, есть семейство избранных людей высшего сорта, движимых бескорыстным стремлением к истине и единодушно действующих на пользу родного образования; я думал, что литераторы (виноват – сочинители! – тогда еще слово «литератор» употреблялось весьма редко), как члены одного семейства, живут между собою как братья, и если возникают между ними порою споры и противоречия, то не иначе как за святость и чистоту прав науки и жизни, которым они служат в пользу. Я думал… мало ли что я думал?.. Потому, нисколько не думая, я пошел к первому журналисту, который жил ближе от моей квартиры.
Я позвонил в колокольчик. Меня встретил мальчик лет тринадцати – сын журналиста – и тотчас же проводил в кабинет отца, куда вступил я с сильно бьющимся сердцем; по телу моему пробегал трепет благоговейного умиления, и ноги мои едва ступали. Кабинет журналиста был убран очень просто: кругом трех стен в два ряда полки, загроможденные книгами и рукописями; у четвертой стены турецкий диван, обтянутый зеленым талоном; среди комнаты два письменных стола, составленные рядом вдоль и также заваленные книгами и бумагами; на столе, кроме книг и бумаг, чернильница, несколько десятков очинённых перьев, несколько корректурных листков и стакан воды. Журналист, человек среднего роста, в зеленом халате, зелено-серых чулках и старых калошах, из которых проглядывали голые пальцы (чулки были тоже худые), при моем появлении вскочил с своего места и начал низко раскланиваться, как купец из-за прилавка; при каждом поклоне он делал несколько шагов в правую сторону и на половине четвертого поклона очутился наконец подло меня. Лицо его было желто как воск и худо, как скелет крысы; волосы, средней величины, были всклокочены, а глаза сверкали, как мне тогда показалось, огнем байроновского отчаяния. «Прошу покорнейше садиться, почтеннейший!» – сказал он, снова кланяясь, когда я объяснил ему причину своего посещения. Я сел, он отправился на прежнее место. Он попросил меня садиться и продолжал начатый уже до меня разговор с чрезвычайно толстым господином, который говорил с чрезвычайным жаром, – так что из уст его летели во все стороны брызги, – размахивал руками и беспрестанно вскакивал с места, схватывал какую-нибудь книгу, развертывал и опять клал на прежнее место, переходя к другой и продолжая говорить. Разговор, сколько я мог понять, касался какого-то журналиста; они ругали его, как говорится, на чем свет стоит; рассказывали про него друг другу разные анекдоты, в которых важнейшую роль играли всякого рода подлости литературные и нелитературные. Разругав его как писателя, они принялись разбирать его частную жизнь. «Живет как барон, – говорил толстяк, – померанцы на кухне, квартира в шесть тысяч, лошади, люди, балы беспрестанно – а всё из чего?.. Обманом, происком, надувательством… Разорил несколько книгопродавцев. Вот погодите, и Стуколкин скоро будет банкротом! Вспомните мое слово – он его упечет! Лупит с него по 15 тысяч за редакцию. Сам ничего не делает, выправит чужую статью, подпишет свое имя и сдерет вдесятеро! Все у него друзья-приятели. Чтоб угодить иному, купит дрянь какую-нибудь да и напечатает в журнале. А бедный Стуколкин отдувайся!.. Дрянь хвалит, сочинения образцовые – ругает… Шут, гаер, скоморох, а не литератор!..» – «Низок, подл, самолюбив, – перебил журналист, – пишет пошлости и воображает себя гением… Я это очень хорошо знаю… Этому месяца два… вот когда мы были еще с ним приятелями… он так расхвастался, что сам себя пожаловал в русские Бальзаки, Жюль Жанены, Дюма!.. Жюль Жанен! Далеко ему до Жюль Жанена!.. Он разве только и похож на него тем, что обворовывает его в каждой статье!..» – «Проповедует, – с жаром перебил толстяк, – превратные правила, развивает ложное направление, коверкает русский язык… развращает молодое поколение, производит ересь в литературе. Да я нарочно, да я назло ему употребляю все выражения, которые он осмеивает, все слова, которые он гонит; вот увидите!» И так далее.
Я, и не подозревавший, чтоб мог существовать такой литературный злодей, слушал с большим вниманием и любопытством разговор двух ученых мужей, усмехаясь по временам остроумным выходкам журналиста, и очень жалел, когда он кончился и толстяк ушел. Журналист сказал: «Извините, почтеннейший. Я вас немножко задержал. Это человек очень хороший, известный наш; сочинитель, автор „Красной ермолки“ – чудеснейший человек! Ну-с, теперь займемся вашими стихотворениями». Журналист взял мою тетрадь, развернул наудачу и начал читать про себя. Сердце мое сильно забилось; я думал, что от приговора журналиста будет зависеть судьба всей моей будущности. «Прекрасно! прекрасно!» – сказал наконец журналист и начал читать вслух одно из моих стихотворений, где описывалась ночь, озаряемая полной луною, и пр.
– Хорошо, почтеннейший, а сколько вам лет?
– Шестнадцатый год, – отвечал я.
– Очень хорошо. Я непременно напечатаю одно из ваших стихотворений.
Ради ли одного приличия, или в самом деле из участия, журналист подробно расспросил меня об моем положении и, узнав, что я приехал в Петербург учиться, очень хвалил мое намерение. Он также вызвался помочь мне в средствах ж содержанию и предложил было мне сделать опыт перевода. Но со стыдом и сожалением отвечал я, что очень плохо знаю французский язык.
Итак, стихи мои будут напечатаны. Это несколько развеселило меня, но нисколько не улучшило моего положения. В продолжение двух недель, в которые я носился с своими стихами, обстоятельства мои сделались очень худы; в кармане моем не было ни копейки, и – что всего ужаснее – сапоги мои совсем развалились! Я мог бы похлопотать, поискать кого-нибудь из нашего города, сходить к тетушке, но сходить было не в чем! Стыдно было показаться на улицу. Три дня лежал я на ковре своем, обдумывая свое положение, и в душе моей было столь же темно, как и в комнате. Не было табаку, не было свеч, не было даже хлеба. Содержательница стола, к которой я ходил обедать с самого приезда в Петербург, однажды пришла ко мне за долгом, увидала бедность, окружавшую меня, и с тех пор отказала мне в кредите. Впрочем, прежде того случилось следующее обстоятельство: Марья Самойловна, женщина лет 45, с лицом немножко желтоватым и неприятным, однажды, когда я посетил ее, говорила со мной очень долго, сожалела о бедственном моем положении, хвалила мою скромность и наконец, поглядывая да меня с какою-то необыкновенной нежностью, сказала, что у нее есть подле спальни порожняя комната. «Переходите-ка в нее: будете у меня жить, и стол, и кофе поутру и вечером, и всё, что вам надобно, – я не скупа для того, кто мне мил». Она заключила свое приглашение таким взором, что я не мог но понять его. Однако ж не согласился… Иной читатель, пожалуй, скажет, что я сделал глупо. Что делать! Простите, по молодости!







