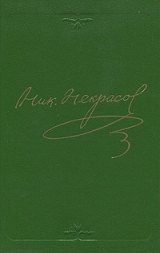
Текст книги "Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
– Не надо, я здоров. Говори же, в чем дело?
– Вот видишь, кормилец… Я давно хотела просить, да всё боялась обеспокоить тебя… Теперь, коли велишь, скажу… Напиши мне аттестат, родимый; по гроб обяжешь!
– Что такое?
– Аттестат, батюшка: я и сама грамотная… да слепа стала, не вижу, опять же тут надо по-книжному, почувствительней… где мне, старухе! Так уж побеспокой себя…
– Какой же аттестат?
– Я, видишь, хоть бедная, а из благородных. Просить на улице милостыню стыдно, да и много ли наберешь?.. четвертую неделю рубашонки не переменяла, вот как бьюсь. Так вот кабы у меня был аттестат, я бы могла господам его подавать, в домы входить. Авось бы трогались моей жалкой участью…
Клим наконец понял, что дело идет о «свидетельстве бедности и несчастия», с которым просят милостыню нищие так называемого «благородного происхождения».
– Что ж я напишу? – спросил он.
– Опиши, батюшка, мою бесталанную долю, мои несчастия.
– Я их не знаю.
– Я расскажу, кормилец… Так напишешь?..
Клим чувствовал, что всякий труд в положении его был бы жестокою пыткою; но, желая хоть чем-нибудь отблагодарить старухе за ее усердие, он взял лист бумаги и перо, намереваясь во что бы то ни стало исполнить ее просьбу…
– С чего же начать?
– Ну уж как знаешь… Только сделай милость, пожалостливей…
Климу, как, вероятно, и всякому, не раз случалось видеть подобные прокламации голодной бедности, и он начал, подражая им, четко и крупно: «Милостивейшие господа и госпожи! Великодушнейшие благотворители!»
– Так ли? – спросил он, прочтя заглавие.
– Так, точно так! – воскликнула старуха с непритворной радостью. – Ах ты, голубчик мой!
– Что же дальше?
– А вот послушай, что я скажу, да и переложи по-своему… Вот видишь, я вдова горемычная, живу без мужа вот уж больше десятка годов… понимаешь?
– Понимаю.
И Клим написал: «Воззрите на слезы злополучной вдовы, лишенной уже более десяти лет супруга, единственной опоры…»
– Есть у тебя дети? – спросил он, дописывая фразу.
– А кто знает, батюшка… был сын здесь… да пропал… вот уж четвертый месяц ничего не знаю о нем…
Клим опять написал: «оставленной единственным сыном, которого она вскормила и воспитала, без куска насущного хлеба…»
– Хорошо ли? – спросил он, прочтя вслух написанное.
– Хорошо, родимый… Да последнее-то не совсем так… Сынок-то мой воспитан не на моих руках… Добрый человек, царство ему небесное, по десятому году взял его; опять же он и не то чтобы по злобе оставил меня; нечего греха на душу брать!
– Можно поправить.
– Поправь, батюшка.
Клим переделал последнюю фразу так: «страдающей в неизвестности о судьбе единственного сына».
– Вот так по правде будет. Уж как я страдаю, только богу известно! Всё хочется увидеть его, сердечного… Да, видно, не приведет бог. Не утешусь я на старости, не обниму своего дитятка.
Старуха, растроганная воспоминаниями, горько заплакала.
– А уж как я маялась… Чего не претерпела я… сколько нужды испытала, пока добралась сюда, – продолжала она всхлипывая.
– Разве ты не здешняя?
– Нет, кормилец, я из В ***.
– Из В ***! – невольно повторил герой наш.
– Да, родной мой! Там у меня свой домишко был… остался после покойника… вот я и маялась в нем кое-как… Вдруг божья немилость: у соседа загорелся сарай, а там, глядишь, и вся улица выгорела, и мой дом сгорел… осталась я без хлеба, без пристанища… сирота горькая… Тяжело, скучно стало мне на белом свете… Дай пойду к сыну… авось дойду: не дойду – всё равно, чужие люди в землю зароют… Соседи говорили: не ходи, век не дойдешь! Не послушалась… Сердце рвалось к нему, голубчику… Кой-как добрела… Уж как я радовалась-то! Вот, думаю, найду его, вот увижу красавчика… Словно ожила, кормилец; бегом бежала по городу, ног под собой не слышала… Он, видишь, писал, где живет… Вот я туда… спрашиваю… Хозяйка говорит – съехал… – Куда? – Не знаю! – захлопнула дверь да и ушла… Сердце у меня так и обмерло… Я ну бегать по домам да спрашивать – никто не знает! Жутко стало мне, ноги подкосились… Я занемогла, думали, что уж богу душу отдам… И кормиться-то нечем и больна-то, а всё пожить хотелось: всё думала увидеть его, ненаглядного… да, видно, не приведет господь!
Старушка заплакала навзрыд; Клим в продолжение рассказа смотрел на нее как-то странно и страшно… при каждом слове ее он вздрагивал, как будто на него лили холодную воду.
– А давно ли ты рассталась с своим сыном? – спросил он.
– Одиннадцать лет не видала его сердечного, ровно одиннадцать! – отвечала старушка всхлипывая.
Клим схватил себя за голову…
– Как звали его? – спросил он голосом, который бы мог напугать самого храброго слушателя.
– Климушкой, батюшка. Да что с тобой?
– Кто же ты?
Клим дрожал как в лихорадке, в лице и голосе его отражалась новая, ужасная буря, готовая разорвать его сердце.
– Губернская секретарша, кормилец, – отвечала старуха. – Да что ты так страшно на меня смотришь? – продолжала она, изумленная его волнением…
– Как зовут тебя?
– Анна Петровна Мотовилова, родимый…
– Матушка! – закричал герой наш и упал без чувств на пол…
Есть потрясения, есть открытия, которых не в состоянии выносить душа человеческая. Клим почувствовал какое-то болезненное, мучительное содрогание в мозгу, рассудок его помутился…
– Ты лжешь, ты жестоко лжешь, старуха! – воскликнул он, вскакивая с полу. – Ты не мать мне!
Старуха долго стояла неподвижно, в совершенном оцепенении. Казалось, чувства ее умерли, тело превратилось в камень. Тупым, безвыразительным взором смотрела она на своего сына. Вдруг глаза ее заискрились, лицо оживилось, она кинулась на грудь сына. В первую минуту он по какому-то безотчетному влечению горячо обнял ее, потом отскочил, усмехнулся и закричал:
– Прочь, прочь! Ты не мать мне… Не может быть, чтоб мать моя была в таком положении!
Старуха силилась что-то сказать, но произносила только невнятные звуки, простирая руки к сыну.
– Ты хотела обмануть меня… У тебя есть какие-нибудь замыслы… Ты подслушала мою тайну во сне, в бреду.
Старуха достала из-под салопа какой-то конверт и молча положила его на стол…
Клим схватил конверт, вынул из него несколько писем, взглянул на них и задрожал всем телом.
– Мои письма! Письма, которыми я грабил тебя, мать моя! И ты бережешь их, ты не кинула их в огонь вместе с памятью о бесстыдном сыне. Матушка, матушка!
Клим зарыдал и бросился на грудь старухи… Долго судорожно сжимала она его в своих объятиях, лепеча какие-то бессвязные слова, заливаемые слезами.
Вдруг он отскочил в противную сторону, как бы отторгнутый невидимою рукою…
– И я смею называться твоим сыном! Ты плачешь, ты несчастна! Кто же виной твоего несчастия? Я отнял у тебя последние деньги, обещая тебе золотые горы в будущем; для меня покинула ты родную сторону; чрез меня ты в рубище, в позорной нищете, кормишься подаянием… Всё, всё потому, что я бесстыдно лгал, что я тебя обманывал.
– Я не виню тебя, не виню! – проговорила старушка сквозь слезы.
– Вместо того чтоб утешить тебя собою, обеспечить твою старость, я приготовил тебе нищету на всю жизнь… Да, на всю… И у меня, ты знаешь, ничего нет… Мало того, скажу тебе, матушка, больше: я чиновник, выгнанный из службы, я человек, которого умные люди называют сумасшедшим. Каков твой сын? Он умрет с голоду в главах твоих, потому что не умеет ничего делать, как надо, так говорили люди, которые отказали ему в куске хлеба… Правда, правда! И ты умрешь с голоду, умрешь, когда в какой-нибудь день ни одному прохожему не придет на мысль похвастать своею благотворительностию… Не правда ли?
Мать отвечала ему рыданиями.
– Постой! – вскрикнул он, озаренный внезапною мыслию. – Я еще могу загладить свою вину… погоди проклинать меня… Ты не умрешь в нищете. Ты будешь счастлива, ты будешь богата… клянусь тебе, матушка… Скорей, скорей, может быть, есть еще время…
И Клим опрометью побежал вон из комнаты…
– Куда же ты, куда? Постой, дитя мое! – кричала вслед ему старуха. – Я умру без тебя… Закрой мне глава… Мне тяжело, мне душно…
Но ответа не было. Старуха кой-как дотащилась до кровати и упала на нее без чувств…
Один из домов *** улицы был освещен великолепно. У подъезда беспрестанно останавливались экипажи, из которых лакеи высаживали мужчин, дам, девиц, вдов и сирот… Виноват, сирот, может быть, не было… но я так привык слышать их непосредственно следующих за вдовами, что не могу произнести одного слова без другого. Так, вспомнив какую-нибудь знаменитость, вы иногда невольно вспоминаете другое лицо, которое ставили с нею рядом современники или услужливые приятели… Привычка! Зала наполнялась народом… Таковский – надо вам знать, что мы у него в доме, – как-то необыкновенно сиял. На днях Марья Сергеевна, дочь его превосходительства, сочеталась законным браком с известным нам адъютантом, по обоюдному их согласию, как было сказано и в обыске… Ныне бал по случаю их свадьбы. Было людно и, кажется, весело. Молодые, по обыкновению, открыли бал, и танцы пошли своим порядком. За вистом сидело множество сослуживцев хозяина, начальников разных департаментов и отделений. Степан Глебыч был тут же целиком, то есть с дражайшею своею половиною. Владимир третьей степени красовался на его беспорочной манишке; играя в вист, он беспрестанно поглядывал то на него, то на свою милую супругу, которая сидела подле него и заботливо подбирала его взятки. Самое приличное занятие для супруги чиновного человека.
Сам хозяин играл также в карты; партнерами его были три генерала. Один со звездой и с лысиной; другой со звездой, без лысины; третий без звезды и без лысины. Хозяйка не сводила глаз с своих милых детей, то есть зятя и дочери; в промежутках танцев подходила к ним, целовала их в голову, в губы, в усы, во что попало.
– Ах, – говорила она со слезами, – желание мое исполнилось… Брак по любви – истинное счастье.
– Счастье, большое счастье! – говорил в то же время в другой комнате хозяин, выигравший три роббера кряду.
– Несчастная партия! Я погиб! – говорил тогда же экзекутор, которому шли дурные карты.
Вдруг все смутились, замолкли, стали прислушиваться.
– Пустите, пустите… мне непременно нужно! – кричал кто-то в прихожей нечеловечески громко, неистово… Затем послышалось какое-то отчаянное усилие, падение сбитого с ног человека и потом скорые неровные шаги в танцевальном зале…
– Сумасшедший! сумасшедший! – раздалось там во всех углах. Игроки вздрогнули и переглянулись между собою; экзекутор вскочил и бросился к двери, но в то же время в комнату, где сидели игроки, быстро вошел герой наш. Огонь дикого отчаяния горел в глазах его; он, очевидно, был в припадке безумного самозабвения…
– Сумасшедший, сумасшедший! – повторилось со всех сторон.
– Ваше превосходительство! – кричал он. – Я согласен, я женюсь… только скорее, скорее…
И он искал глазами генерала…
Экзекутор смекнул, в чем дело; он схватил его за руку с намерением вывести вон…
– Опомнитесь, опомнитесь!
Клим оттолкнул его, сделал несколько шагов вперед и обвел глазами комнату; испуганный хозяин сидел как окаменелый на своем кресле, закрыв картами лицо…
– Сударыня! – закричал Клим, увидев Марью Ивановну. – Я люблю вас, я согласен… где они? – скажите, скажите им… я согласен…
Экзекутор опять с силой схватил его за руку…
– Вы помешались! – воскликнул он. – Что вы делаете… Вы компрометируете мою жену!
– Вашу жену… а? я опоздал, опоздал…
Клим бросился вон; собравшиеся лакеи хотели остановить его, но он растискал всех и исчез.
Несколько минут длилось глубокое молчание. Первая опомнилась генеральша; она ужасно бесилась на лакеев и откомандировала Степана Глебыча в прихожую с каким-то секретным поручением. Потом подошла к мужу, шепнула ему, что он дурак, и велела опомниться. Таковский отнял карты от лица, робко взглянул кругом и сказал, будто рассуждая сам с собою:
– Сумасшедший, решительно сумасшедший!
– Кто он?.. мне кажется, я видел его где-то, – произнес генерал с звездой и лысиной…
– И мне лицо его как будто знакомо, – подхватил генерал со звездой без лысины.
– Странно, господа! и я как будто помню его, – дополнил генерал без звезды и без лысины.
– Кто же он!.. вы его знаете?
Все трое обратились с вопросительным взором к хозяину.
– Не знаю, господа, право, не знаю… Он был у меня только раз… приходил просить места.
– Ах, позвольте! вспомнил! Он и ко мне приходил за тем же!
– И ко мне!
– И ко мне!
Все трое вспомнили, что действительно видели героя нашего по одному и тому же случаю…
– Что же вы ему сказали?
– Мне, признаться, было тогда не до того… дело было перед крестинами… Я вышел к нему. Он заговорил что-то о бедности, о усердии. Я сейчас заметил, что он человек ненадежный… у него какие-то странные идеи…
– И я тоже заметил…
– И я.
– И я.
– Он и тогда уже сбивался в речах…
– Осмелюсь доложить, – смиренно произнес экзекутор, недавно возвратившийся из экспедиции. – Он еще тогда уж был не в своем уме, я сейчас догадался… Я ему предсказал – сумасшедший дом!
– Справедливо, и я заметил, что он был немножко помешан…
– Ну вот, право, и я тоже заметил.
– И я.
– И я.
– И потому я отказал ему наотрез.
– И я отказал…
Все повторили: «И я».
– И хорошо мы сделали, что все отказали ему… Что бы мы стали делать с сумасшедшим… Он бы только портил всё… и никакого толку от него не было бы… Служба бы от него ничего не выиграла, да и он от службы тоже…
– Справедливо, справедливо! – подхватили все…
Был тут человек, который думал иначе…
Клим прибежал домой…
Толпа нищих наполняла его комнату…
– Зачем вы здесь? – закричал он…
– А вот она тут – всё стонала, так мы и пришли к ней… а теперь она умерла.
– Умерла!
Клим бросился к постеле; старуха была мертва…
Невозможно вообразить вопля, который вылетел из груди несчастного сына; то был вопль, вместе с которым разум навсегда вылетел из головы его!
– Я убил мою мать! Да, я убил ее! Бегите отсюда, а то… я злодей… Я могу убить вас…
Он захохотал…
– Или нет, поспокойнее… Давайте играть в карты… Нищие смотрели на него с изумлением…
– Что же вы молчите? Чего разинули рты… Думаете, что у меня денег нет… А вот… хоть на платье покойницы… она моя мать… я докажу… я ее наследник…
– А что ж, пожалуй, – сказали некоторые.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клим в сумасшедшем доме, вы можете его видеть там ежедневно в положенные часы без всякого опасения: он не бранится и не кусается…
Когда его вели туда, он неистово рвался из рук проводников и дико кричал:
– Зачем я не украл шестидесяти тысяч у моего благодетеля, зачем не отбил любовницы у одного важного человека, зачем не женился на побочной дочери другого… зачем, зачем?
И эхо вторило: зачем, зачем?
– Может быть, я тогда был бы счастлив, не голодал бы по суткам, не шатался без дела и без имени, не довел бы до нищеты мою мать, не убил бы ее… Так?.. а?
И он с силой схватывал за плечо одного из своих проводников.
– Только иди смирней, – отвечал проводник, удерживая его, – а то всё правда, всё правда.
И эхо вторило: правда!
1843–1848
Жизнь и похождения Тихона Тростникова *
<Часть I>
Глава II
Итак, после долгих размышлений отец мой решился отправить меня в Петербург. Я был чрезвычайно рад такому намерению, но сколько можно умерял свою радость, чтобы не пробудить в Душе отца каких-либо невыгодных для меня подозрений, к которым он в последнее время сделался очень склонен. Прикидываясь равнодушным при посторонних и в особенности при отце, я наедине сам с собою смеялся и прыгал, как человек, получивший неожиданно огромное наследство. Тысячи предположений, которые были одно другого несбыточнее или, просто сказать, глупее, но в то время казались мне очень возможными и разумными, не давали мне ни днем, ни ночью покоя: поминутно я был в каком-то напряженном состоянии, в жару. В то время как отец мой, приготовлявший меня к скромной доле чиновника, рассуждал со мною о средствах попасть в какое-либо учебное заведение, которое дало бы мне права на занятие порядочного места, я, наружно соглашаясь с ним, смеялся внутренно, думая о той высокой и завидной доле, которую назначал себе. По приезде в Петербург, не более как через десять дней, я надеялся иметь кучи золота и громкое имя. Здесь время сказать, что ко всем дурным наклонностям, которые волновали мою бурную, необузданную юность, с некоторых пор присоединилась еще одна – именно страсть сочинять стихи. Чтение романов не имело на меня такого влияния, какое имеет оно над большею частию молодых, неопытных голов: я не сделался ни безотчетным мечтателем, который живет на земле только для того, что бренное тело его приковано к этой «юдоли плача». Я не сделался пламенным идеалистом, которые за множеством выспренних идей и высших взглядов забывают даже обедать; нет, романтическое настроение, к которому несколько настроило меня чтение романов, не заглушало во мне голоса жизни положительной; я всегда был более человек положительный, нежели мечтатель; фантазия моя, как бы широко и свободно ни разгулялась она, никогда не загащивалась в «туманной дали» долее того срока, который нужен человеку для сварения пищи: желудок напоминал ей очень исправно свои потребности, – и фантазировать натощак мне казалось делом до крайности неблагоразумным. Однако ж чтение романов развило во мне идеализм настолько, что одних ежедневных житейских мелочей мне казалось недостаточно для наполнения пустоты жизни, и я скоро почувствовал стремление к невещественным интересам: с детской доверчивостью к собственным силам принялся я писать стихи… и, боже мой!.. чего не писал я… и сатиры, и элегии, и поэмы… и драмы… и повести… и… и всё это, не имея понятия ни о сатире, ни об элегии, ни о повести, ни о драме. На что я ни жаловался в своих стихах: и на любовь, которой я не чувствовал и не мог по молодости лет чувствовать; и на измену друзей, которых не имел и настоящего значения их не понимал; и на холодность и жестокость «братии», которые обращали внимания на меня столько же, сколько на собаку, бессознательно лающую; и на «милую», которую подвергал проклятиям; мало того: я пел даже «деву неги», «восторги сладострастья», которых не чувствовал; я приглашал ее (милую, которой у меня сроду еще не бывало):
Прийти под сень развесистых дубов
(NB: дубов в окрестности нашей усадьбы но крайней мере на тысячу верст не было),
Где, заковав в горячие объятья,
Тебя, о дева неги, буду лобызать я
и пр.
Я пел «утраты», когда важнейшею из них во всей моей детской жизни была потеря мячика; я пел «страдания», когда самое высочайшее из них было – розги. И… увы! всё это было, как ниже увидит читатель, напечатано! Широко зеваю я и судорожно краснею, перечитывая стихотворные грехи моей юности. Я не понимал, да и не мог тогда понимать высокого и святого значения поэзии, но смело и громко говорил себе и близким приятелям: я поэт!Мячик, кубарь, поэзия – имели для меня совершенно одинаковое значение, и я играл ими совершенно с одинаковым чувством. И не было человека, который бы остановил меня от моих святотатственных порываний (учитель словесности хвалил меня), не было руки, которая бы удержала меня.
О юноши! О вы, недавние гости мира, принимающие необузданное кипение крови в молодых жилах ваших за вдохновение; сильную жажду деятельности высшей и обольстительно-увлекающей – за талант; голос слепого и еще бессознательного самолюбия, влекущий вас к избранию блестящих поприщ, – за призвание неба, за голос свыше, – упражняйте в чем вам угодно ваши молодые силы, но, ради неба, ради искусства вечного и святого, – оставьте поэзию, оставьте и не касайтесь ее до той поры, пока сознаете в себе силу понимать ее высокое и святое значение! Умоляю вас счастием и спокойствием вашей будущности, потому что я не знаю на моей совести преступления, которое казалось мне более сильным, которое сильнее бы меня мучило и чаще возмущало мои сновидения, как преступление против искусства, против поэзии! Но ничем не искупаются грехи против искусства. Человек, однажды осквернивши искусство, или навсегда лишается способности понимать его, или боится к нему приблизиться, чувствуя себя недостойным его. Раз попранное ногами, оно навсегда отвращает чело от своего осквернителя, и нет ему святых даров его, нет ему капли из вечно живого источника утешений, которые почерпают в искусстве люди, подходящие к нему с трепетом и благоговением!
Собираясь в Петербург, где должны были осуществиться мои надежды, я тщательно переписал все мои стихи в особую тетрадку, приписав к каждому из них замысловатое и самое модное заглавие. Тут было всё, что воспевали наши поэты. И «Тройка» и «Колокольчик», и «Она», и «Водопад», и «Пляска», и «Луна», и «Мечты», и «Горе». На заглавном листке надписал я крупными литерами: «Стихотворения Т. С. 18**…» Я крепко задумался, мечтая о том вожделенном дне, когда увижу имя свое крупно напечатанным. Это казалось мне высочайшим благом, какое только могло встретиться в моей жизни. Отец мой, ничего не читавший и вовсе не занимавшийся литературой, однажды застал меня за переписыванием стихов. Прочитав несколько строк: «Вздор какой-то – стихи, – заметил он. – Охота тебе заниматься такими пустяками; я думал, что ты теперь по крайней мере выкинешь эту дурь из головы, – лучше бы я советовал тебе взять печатный высочайший титул да переписывать для навыку – будешь служить, понадобится; ошибешься в титуле – как раз и вон из кармана рубль или полтина: прошения с ошибкою в высочайшем титуле возвращаются с надписью!» Переписывать, мне переписывать!.. Я чуть не захохотал невежеству моего отца; но, чтобы не рассердить его, обещал заняться после обеда титулами.
Весьма много беспокоился мой отец о том, что не имел в Петербурге никого знакомых и что я должен буду жить там один-одинехонек – без помощников и покровителей. Я уверял его, что мне никого не нужно, что сам я найду везде дорогу. Однако ж отец мой, сказав: «Попытка пе мушка, а спрос не беда», – отправился к губернатору, который его очень любил, просить рекомендательного письма. Губернатор принял такое сильное участие в сыне своего любимого чиновника, что пожелал меня видеть, и я был ему представлен. Отец мой, строго преданный подчиненности, с час учил меня, как стоять пред его превосходительством, как говорить и так далее. Губернатор обласкал меня так, что я вообразил, что приобрел в нем, подобно Горацию (такое сближение себя с древним певцом греческим нисколько не казалось мне смешным или странным), своего мецената, от щедрот которого польется на меня золотой дождь. Вследствие того я решился поднести ему свои стихотворения; в одну ночь переписал я другой экземпляр и написал вступление, в котором называл губернатора отцом города, любимцем муз и просил его дозволить посвятить первые плоды моей неопытной музы высокому имени его превосходительства, прибавив, что они оттого получат вдвое ценности.
Губернатор был в восхищении от моих стихотворений и в особенности от посвящения. Он сказал моему отцу, что даст мне такое рекомендательное письмо, которое, может быть, составит счастие всей моей жизни: нужно только, чтоб я понравился человеку, к которому оно будет адресовано. На другой день, возвратившись домой от службы, отец мой был в таком восхищении, в каком я давно уже его не видывал: он держал в руке обещанное письмо, которое адресовано было его превосходительству Игнатию Степановичу Закобякину.Прочитав столь торжественную надпись, отец мой более уже не сомневался в волшебном действии письма на мою будущность. Почитая эту особенную милость губернатора не столько наградою своей усердной службы, сколько следствием поднесенных мною его превосходительству стихов, отец мой был очень доволен мною и со слезами на глазах сказал мне: «Теперь я вижу, Тиша, что и стихи могут быть на что-нибудь пригодны; только ты не заносись там бог знает куда, не трать по-пустому таланта, данного тебе господом, а береги на важные, вот на этакие случаи, где можешь какую-нибудь получить пользу. Ваша братья сочинители (я улыбнулся от удовольствия; в первый раз услышал я от человека близкого мне, которого мнением я не мог не дорожить, такое лестное название) большею частью люди беспокойные, можно сказать, даже вредные; ты не будь таким, Тиша; иначе я – отец твой – первый отрекусь от тебя и прокляну – ей-же-ей, прокляну! – а старайся в самых стихотворениях своих выказать себя с хорошей стороны, снискать расположение начальства».
Я решительно не понимал тогда, каким образом можно снискать «стихотворениями расположение начальства», и потому не обратил на совет моего <отца> никакого внимания, хотя я обещал им воспользоваться. К чести своей, однако ж, прибавляю, что я не воспользовался этим советом и тогда, когда очень хорошо его понял: на совести моей нет ни одной патриотической драмы, ни даже небольшого стихотворения, наполненного возгласами и восклицаниями, очень хорошо известными господам, упражняющимся в изделиях такого рода.
Окончив приготовления к моему отъезду, которые были непродолжительны, отец мой взял отпуск и повез меня в деревню, отстоявшую от города в 200 верстах, проститься с матерью.
Несмотря на титул поэта, которым мысленно давно уже наделил себя, я очень мало был расположен к мечтательности, – и, однако ж, сердце мое забилось сильно и неправильно при последнем взгляде на ветхий дом наш и окрестности бедной деревеньки, в которой я родился и провел первые годы жизни. Каждый кустик, каждый клочок земли, каждое здание – всё это, знакомое мне как мои пять пальцев, останавливало надолго мое внимание и выводило ряды воспоминаний, которые, цепляясь одно за другое, представляли передо мной полную картину моего детства. Вот вправо луг, по <…>
<…> брал на палец, растирал, нюхал и даже пробовал на язык. Когда я заметил ему, что брать в рот деготь едва ли не вредно, он посмотрел на меня, как человек, сожалеющий о невежественном заблуждении ближнего, и сказал с расстановкою, обращаясь не столько ко мне, сколько к ямщикам, окружавшим телегу: «Малолеток – так и есть малолеток!» Затем он красноречиво и с большим жаром рассказал всей компании, как в 18** году был при смерти болен; долго, несмотря на пособия врача, не чувствовал никакого облегчения, наконец решился на последнее средство: выпил залпом три стакана чистого дегтя и надел рубашку, обмокнутую в лагунку, – болезнь как рукой сняло, «С тех пор, – заключил мещанин, – случится ли дрожь какая со мной, ломота ли в пояснице или в ноге, зубы ли заломит, жар ли в голову вступит – тотчас и знай, что недаром: утроба дегтю просит; выпьешь – и здоровехонек! А рубахи другой я и не ношу – у меня вечно смочена дегтем!» В доказательство своих слов почтенный мещанин расстегнул две верхние пуговицы своего сюртука и показал часть своей рубахи: она была в дегте, отчего пошла такая ужасная вонь, что я принужден был зажать нос; тогда-то мы поняли причину ужасного запаха, который преследовал нас во всю дорогу.
Путешествие наше было весьма неудобно. Надобно было проехать около 800 верст, вылезая на каждой станции из телеги и перекладываясь в другую. Из всех зданий, сооружаемых человеком, самое непрочное, бесспорно, то, которое на скорую руку громоздит себе путешественник, едущий на перекладных. Едва успеешь уложить пожитки и обжиться на них поудобнее, едва найдешь положение, в котором тряскость телеги не слишком чувствительна, – как уже пространство, отделявшее станцию от станции, исчезло: надобно опять вылезать из телеги, перекладывать вещи, платить прогоны, ссориться с смотрителем и внимательно присматривать за теплым народцем, с подозрительным любопытством осматривающим ваши пожитки. Теплый народец! Мы подвержены были всем неудобствам подобного путешествия: троим нам было невыносимо тесно в телеге, и при каждом толчке нужно было схватиться за что-нибудь и держаться изо всей силы, опасаясь упасть с высоты собственного своего достояния. К счастию, на одной станции, когда мы с поручиком, полусонные, едва могли перелезть в другую телегу, а пропитанный дегтем мещанин, при котором совершалась перекладка наших пожитков, был крепко пьян, подрезали самый большой чемодан поручика жвытащили из него всю старую рухлядь, которою он был наполнен. Это несчастное обстоятельство значительно улучшило наше положение: сиденье спустилось гораздо ниже и стало просторнее. Зато сожалениям и жалобам поручика не было конца: они раздирали мое сердце в продолжение всего следующего дня и даже не дали мне покоя ночью. Поручик бредил старыми вицмундирами, мундирами, рейтузами и темно-серой шинелью на гроденаиле: весь этот хлам он забрал было с собою, чтобы перешить из него платье своему сыну. «Иной сюртук мне узок стал, у иного вытерлись рукава либо лацканы, ну а Ванюша мой поменьше – ему бы из всякого выбрался сюртучок хоть куда: не надо бы и нового шить! Канальи! Разбойники!» – и так далее. Я показывал, что разделяю от всего сердца несчастие поручика, а внутренно, признаюсь чистосердечно, радовался и благодарил Бахуса, так кстати отуманившего голову пропитанного дегтем мещанина. Этот мещанин, не имевший ни при себе, ни на себе ничего, кроме дырявого сюртука да обмокнутой в деготь рубашки, во всем, что не касалось дегтя, был до крайности беззаботен; на козлах в сидячем положении он спал так крепко и так спокойно, что нередко я ему завидовал. Иногда он, сонный, качался в разные стороны, так каждую минуту было страшно, что он свалится и попадет в колесо. В таких случаях я имел привычку придерживать его или будить, за что поручик на меня постоянно сердился: «Стоит этот вонючий плут, чтоб вы об нем беспокоились! Стыдитесь!..» – «Да ведь он убьется!» – говорил я. «Не убьется, а и убьется, так велика беда: ведь он мужик, – и сам знает, что душонка его гроша не стоит!» Несмотря на такие увещания, мещанин во время сна так часто был в опасности, что сам я потерял способность сна, беспрестанно думая, как бы он не убился. Глаза мои невольно почти каждую минуту открывались, и я смотрел, тут ли еще мещанин. Наскучив наконец таким мучительным состоянием, я предложил мещанину условие спать поочередно: выспавшись, я уступал ему свое место и сам садился на козлы. Когда поручик узнал такой размен, он не в шутку на меня рассердился, а мещанину прочел целую лекцию о том, что спать подле своего брата мужика и подле благородного офицера большая разница и пр. Принужденный проводить половину ночи на козлах, я старался убивать время в разговорах с ямщиком.
До сей поры мы ехали сносно. Но положение наше сделалось гораздо хуже, когда, по совету мещанина, мы решились взять вольных лошадей, польстившись тем, что таким образом дорога обойдется нам несколькими рублями дешевле; По приезде в деревню, где следовало переменять лошадей, мы ждали по крайней мере по три часа: русский ямщик, занимающийся вольной гоньбою, когда ему не дашь зуботычины или гривенника, обыкновенно удивительный флегматик, – он ходит как черепаха, мажет телегу нехотя, беспрестанно останавливается, чешет затылок или зевает; помазавши телегу, – в чем пройдет, верно, не менее часа, – он уходит и не является по крайней мере полтора часа; проезжающий выходит из себя, сердится, по делать нечего: вольная гоньба – не почтовая, – нет ни смотрителя, ни жалобной книги. Наконец вдали вы видите ямщика, ведущего тройку тощих клячонок в недоуздках, без хомутов и без шлей; вы бросаетесь к нему с гневом и проклятиями, спрашиваете: где он пропадал? Он чешет за ухом и хладнокровно отвечает, что лошади были в поле. Вы бранитесь и требуете, чтоб он скорее запрягал. «Сейчас», – отвечает он и тем же медленным, выводящим из терпения шагом, ворча что-то про себя и почесываясь, ведет лошадей к колодцу – поить. Потом он опять пропадает на полчаса или более, после чего является уже с лошадьми, одетыми в хомуты и прочую сбрую. Пока он запрягает, вы смело можете отойти пять верст в противную сторону в твердой уверенности, что не представится надобность вас дожидаться. Заложив лошадей, он влезает на телегу, в которой вы приехали, и кидает оттуда без всякой осторожности ваши чемоданы и вещи на ту, в которой вы поедете. И всё это делает он один-одинехонек, несмотря на-<то> что около вас толпятся десятка два ничем не занятых его товарищей и родственников, которые с диким любопытством смотрят на вас и ваши пожитки, рассказывают друг другу сальные анекдоты, расточают самые отборные ругательства, – хотя бы в числе проезжающих были дамы, – иногда в знак особенной нежности и любезности, иногда в гневе, борются и дерутся, – и на все ваши сетования и просьбы помочь товарищу отвечают диким и глупым смехом, которого значение для вас решительно непонятно. Попробуйте бросить им четвертак или двугривенный, и вмиг картина переменяется: ленивые, неповоротливые парни превращаются в расторопных и вежлив<ых> слуг, и лошади в минуту готовы. Но здесь еще не конец. И когда только что сердце ваше после мучительных ожиданий вкусит сладость надежды вырваться наконец из проклятой деревни – вдруг раздается с противоположного конца тройка «с работой», из той станции, на которую вам должно ехать. Ямщики обступают вас и начинают просить подождать полчаса. Сопротивления не поведут ни к чему: ямщик, приготовившийся везти вас, спокойно выпрягает лошадей и уводит на свой двор, ругая вас себе под нос, как ему вздумается. Вы должны прождать еще несколько часов, пока «обратный» ямщик выкормит лошадей, после чего пожитки ваши снова перекладываются в телегу «обратного», лошадей запрягают, и вы наконец едете. Если «обратный» уже уехал, прежде чем вы приехали в деревню, где назначена перемена лошадей, то вас снаряжают и везут с чрезвычайною скоростию, чему, впрочем, вы не должны радоваться: ямщик ваш торопится нагнать «обратного», которому непременно «спихнет» вас, перекинув ваши несчастные пожитки в его телегу. Нельзя перечесть всех проделок, через которые придется пройти человеку, которому придет несчастная охота прокатиться на «вольных». Особенно памятна мне из них одна, которая не столько рассердила меня, сколько насмешила. Я спал крепким сном, так что не слышал даже, как голова моя стучала об деревянный край телеги, что, вероятно, было не без боли и отчего, проснувшись, я ощупал на голове две огромные шишки; просыпаюсь; тройка наша стоит середи дороги, напротив нее стоит другая; ямщики выпрягают лошадей; расспрашиваю, не без некоторого страха, о причине такого странного действия и узнаю, что ямщики решились разменяться своими пассажирами, находя в том большую выгоду: каждый из них, вместо того чтобы «забиваться» в чужую деревню, поедет домой. Я пожал плечами и предоставил себя и своих спящих товарищей на волю рока и ямщиков, которые очень скоро перепряглись и поехали каждый в свою сторону. Когда я рассказал поручику об этом размене, он был очень сердит и говорил, что никогда бы не позволил ямщику променять себя черт знает на кого.







