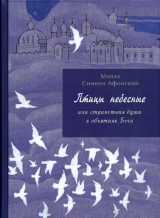
Текст книги "Птицы небесные. 1-2 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 65 страниц)
Я обнял милиционера с любовью. Мы подружились на всю жизнь.
Мятущийся человек мира сего принял облик исчадия тьмы, и имя его стало – «гибель». Принявший в сердце ядовитое желание жить без Бога принял в себя жало смерти, и пути его – бездонные пучины ада. Устремившийся к Богу раскрыл сердце свое для Христа, принял в себя Божественную благодать, и дух его стал подобием вечного света и славы Отца Небесного. Пути спасенной души – радость и любовь во Святом Духе, и навеки имя ее – «свет».
ПЕРВАЯ ЗИМОВКА
Господи, что такое мир Твой, если в нем нет человека? Что такое человек мира сего, если нет в нем души? И что такое душа человеческая, Боже, если нет в ней благодати Твоей? Без нее душа человеческая умирает, без души тело человека становится тлением, без человека весь мир становится пустотой, ибо благодатный человек – мера Твоего творения, Господи! Грешная душа, лишенная благодати, – мера пустого мира сего, а святая душа – основа и суть всего, что создано Тобой, Святый Боже!
Христос лишен всякого греха, но Его священная обитель находится в сердце человека. Его любовь к нам, грешным людям, явлена нам Его заповедями и спасительным Крестом. А наша любовь к Нему выражается в отсечении помыслов и служении ближним.
Рассказ охотника привел меня к выводу, что у медведей стоит поучиться, как нужно скрываться от преследования. Я вспомнил, что еще в Таджикистане удивлялся, как ловко прячутся медведи на высоте в скалах, наблюдая сверху за долиной и передвижениями людей. Ранним утром я вышел к каменной осыпи, за которой начинались густые кусты лавровишни. Из кустов поднимались большие каменные глыбы, скатившиеся откуда-то сверху. В дебрях лавровишни пролегали медвежьи тропы. Похоже, я попал на верный путь. Еще несколько скальных уступов – и сверху открылся удивительный вид на поляны Грибзы и на противоположный Бзыбский хребет в зелени альпийских лугов. Чуть выше меня возвышались каменные башни, словно каменный замок в лесных дебрях. Мое сердце забилось от волнения: это было именно то, что нужно.
Вскарабкавшись на темно-коричневые скалы, состоящие из нескольких массивных гранитных блоков, я обнаружил там небольшую площадку три на три с половиной метра, пригодную под строительство кельи. С трех сторон она обрывалась крутым уступом, со стороны склона переходила в пихтовый лес, пригодный для заготовки нужных бревен. Я достал четки и уселся под сосной. Вид во все стороны открывался захватывающий – словно с крыла самолета. Первая молитва на новом месте окрылила меня благодарностью к Богу. Счастливый и умиротворенный, я медленно спустился со склона, когда красный диск солнца начал закатываться за зубцы темнеющего хребта.
Но еще нужно было найти воду. Носить ее с родника, бегущего внизу, возле кельи, представлялось чрезвычайно обременительным: и далеко и слишком круто. Но в крайнем случае я был согласен и на этот вариант. Поиски в восточном направлении по скалам, покрытым скользкой травой и голубым лишайником, не дал никаких результатов: воды там не оказалось. Я двинулся на запад, ловя ухом все звуки: не услышу ли плеск ручья? Метрах в ста пятидесяти от скал я нашел небольшой пересыхающий ручеек, но напиться из него не смог. Срезав стебель борщевика, я смог с помощью его полой трубочки вывести маленькую струйку, запрудив каменную ложбинку листьями лопуха. На первый случай этой воды хватало, но, чтобы в этом месте жить и работать, необходимо было найти невысыхающий ручей.
Перейдя следующее сухое ущелье, я выбрался на другой его борт. Там моих ушей коснулся самый сладостный звук на свете – шум водопада. На скальном обрыве, чтобы не сорваться, пришлось руками цепляться за ветви кизиловых кустов. Еще несколько метров – и я застыл от восторга. Сверху, рассеивая разноцветные брызги, сверкающие в солнечных лучах, низвергался роскошный водопад. Вдоволь напившись вкусной воды, я умыл лицо и руки и осмотрелся. Свежий ветер прохладой овевал лицо, стекая с верховий ущелья, заросшего луговым мятликом и высокими стеблями девясила. Его золотистые шапки качались под порывами ветра, у воды в грудах камней поднимали головки синие незабудки и розовые цикламены. Всюду порхали красивые белые бабочки-махаоны. Эту прекрасную горную долину мне захотелось посвятить святому Иоанну Крестителю.
Пробираясь через заросли красной бузины, я увидел темный вход в груде больших камней. Заинтересовавшись, я встал на колени и заглянул внутрь. Там царила полная темнота. Когда мои глаза привыкли к ней, я прополз немного вперед на четвереньках. Они встретились с двумя круглыми блестящими глазами, расширившимися от ужаса. В углу, съежившись, лежал маленький медвежонок. В полном молчании я попятился к выходу. «Господи Иисусе, спаси и помоги! – шептал я. – Только бы не встретить медведицу!» При ярком солнечном свете жуткий страх почти прошел, но желание избежать ненужных встреч сопровождало меня до самого спуска к келье.
В сентябре, как мы договаривались с послушником, я пришел в скит на уборку нашего урожая. Но никакого огорода я не увидел: не выросло ничего, кроме бурьяна по пояс. Павел растерянно разводил руками:
– Сам не знаю, как это получилось. Наверное, семена не взошли…
Пришлось питаться огородной крапивой, спаржей, щавелем и диким луком. Этих трав уродилось на удивление очень много. Выручали, как всегда, грибы и крупы. Василий Николаевич с лесничим, узнав о нашей огородной неудаче, привезли несколько мешков кукурузы, фасоль, «гуманитарный» горох и муку.
С собой в горы я взял муку для лепешек и просфор, которую засыпал в молочную флягу, а также фасоль и горох. Из них хорошо было делать подливы к каше. О фасоли и горохе я прочитал, что в прежние времена эти продукты использовались во флоте вместо зелени, поэтому я решил их сделать для себя некоторым подобием витаминов. Лущеная кукуруза не портилась, и ее не грызли мыши. Ее я тоже отложил для гор. Кукурузная мука оказалась очень сытной, но не могла храниться больше месяца. Недостатком лущеной кукурузы являлось то, что ее нужно было долго варить, и она не давала такой сытости, как кукурузная каша. Заметив свойства этих продуктов, я стал замачивать на ночь кукурузу, фасоль и горох. С середины сентября печь приходилось топить постоянно, поэтому котелок всегда стоял на плите. Снег уже ложился на вершины гор, и на поляны стекал сильный холод, особенно по ночам. Горько пахло прелой листвой осеннего леса.
Пришлось отказаться топить печь поленьями из пихты. Они сгорали, словно порох, раскаляя жестяную тонкостенную печь до красноты, а затем температура быстро падала. Пришлось придумать другой метод: вдоль стен печки я укладывал толстые мокрые буковые гнилушки, а в середину закладывал одно-два полена из пихты. Когда дрова разгорались, гнилушки медленно подсыхали, а потом давали небольшой ровный жар, которого вполне хватало на маленькую келью. Дрова я собирал каждый день. Они представляли собой большие ветки буков, сломанные снегом. Их я ставил стоя, прислонив к большому буку возле кельи. Когда снегопады заваливали поляну и прямо у порога снега накапливалось по грудь, дрова можно было относительно легко достать из-под снежного сугроба, потому что под деревьями снега всегда было поменьше.
Много хлопот и неудачных экспериментов понадобилось для выпечки лепешек, а затем и просфор. На железной раскаленной печи они горели с одного бока и оставались сырыми сверху. Если для лепешек удалось подобрать нужную температуру, то с просфорами пришлось поломать голову. Наконец пришла догадка выпекать их в крышках из-под котелков. Я положил просфору на крышку и закрывал ее другой крышкой. Тогда внутри создавался ровный жар, равномерно пропекающий нижнюю и верхнюю стороны. Если раньше они получались обугленными снизу, то в крышках выходили румяными и пропеченными. В дальнейшем удалось изловчиться печь лепешки и просфоры даже на угольях костра.
Все занесенные для зимовки продукты приходилось строго экономить, особенно муку. На день я определил себе одну лепешку размером с крышку маленького котелка – это примерно десять сантиметров диаметром и толщиной полсантиметра. Лепешка стала моим деликатесом. Так как я продолжал держаться правила не пить и не есть до трех часов, а растительное масло позволял себе лишь в субботу и воскресенье, то продукты расходовались медленно. С трудом удалось победить страсть к еде, которая грозила перейти в жадность. Чтобы не съедать весь обед сразу – миску гречневой каши, залитой фасолевой похлебкой, и лепешку, я начал делить свое блюдо на две части. Очень трудно было не приступать сразу ко второй половине порции. Из-за голода борьба шла даже за пять минут. Несколько месяцев изнурительной борьбы за экономию против чревоугодия помогли преодолеть чувство голода. Потом я уже мог спокойно доедать вторую часть обеда, не увеличивая порцию.
До снегопадов понадобилось еще несколько раз спуститься в скит и принести лопату, колуны, кувалду, соль и книги. Этот груз отнимал много сил. К тому же, поднявшись с ним в келью, невозможно было принести еду, и зачастую лепешка с водой составляла весь обед за весь день. Очень тяжелыми оказались богослужебные книги, без которых невозможно служить всенощные бдения. По весу они казались мне веригами.
Сколько желаний, намерений и пустых замыслов носит в себе человек, не задумываясь о том, что всему этому может прийти конец в один миг! Постоянные хлопоты и заботы отвлекли мое сердце совсем в другое русло от молитвенной памяти. Я позволял себе рассеиваться в молитве, увлекаясь мечтами о постройке новой кельи. Однажды, когда я поднимался к себе с тяжелым рюкзаком, меня внезапно пронзила острая боль в лодыжке. Нога подвернулась на скользком камне так сильно, что от боли я остановился, боясь поставить ступню на землю. «Неужели я сломал ногу? – обдала меня холодом ужасная мысль. – Если нога сломана, я не смогу добраться до кельи и у меня не хватит сил вернуться на Решевей…» Я осторожно опустил ногу на землю: кажется, перелома нет. «Господи, прости меня! – сами собой вырвались у меня эти слова. – Всего лишь на одно мгновение, когда Ты оставляешь меня, моя жизнь прекращается! Прости, что я забываю о Тебе, когда дышу, иду по тропе, сплю или отдыхаю, не ведая того, что Ты неустанно и безпрерывно хранишь меня… Хочу любить Тебя днем и ночью, научи меня и дай мне силы служить Тебе каждое мгновение непрестанной молитвой!»
Мне стало понятно, что каждый шаг должен быть служением Богу, так же как каждый вдох и выдох. И первое главное препятствие к этому служению – мои безпорядочные помыслы, вызывающие рассеянность. А самый близкий и лучший учитель, мудрый, заботливый и милосердный, – это Ты, Боже, не оставляющий меня ни на секунду. Как же легкомысленно трачу я свое драгоценное время одной-единственной жизни, забывая о Тебе, Господи, ибо к Тебе я уйду, когда остановится во мне дыхание. Вновь Ты учишь меня, как заботливый отец, чтобы я хранил Тебя в сердце своем, истинную жизнь мою!
Но чем уловили помыслы мой ум? Планированием безчисленных действий, которые зачастую оказывались пустой мечтой. Реальность жизненных ситуаций всегда являла мне свои незыблемые законы, ибо они исходили из Божественной мудрости, сметающей напрочь мои эгоистические мечты. Ни одна из них не опиралась на Божественный Промысл, являясь пустым созданием моего греховного воображения. Медленно, но неуклонно сердце мое приходило к постижению истинных законов бытия – законов Духа, движимого безкорыстным смирением и самоотверженной кротостью.
За этот период я несколько раз служил на Псху воскресные службы и причастил верующих, на прощание представив им нового священника. За время нашего общения с жителями Псху четверо пожилых сельчан попросили постричь их в монахи. Отец Кирилл в письме прислал благословение на постриг. Бывший инженер, чадо духовника отца Саввы, стал монахом Саввой, странник с уединенного хутора получил имя монаха Лазаря, а две его сестры стали монахинями Марфой и Марией. Для монахов я подыскал облачения из скитских запасов, а одеть монахинь помогла матушка Ольга из Сухуми.
С монахами все получилось просто, имен они себе не выбирали и были рады, что имеют теперь своими покровителями тех святых, в честь которых они были названы. А вот будущие монахини по очереди подходили ко мне, и каждая из них, отозвав меня в сторону, просила назвать ее Марией. Я обещал подумать, но во время пострижения неожиданно назвал одну из старушек Марфой, что ее сильно смутило.
Прошло два дня после пострига. Я уже собирался уходить в скит, навестив больных и причастив их. У дома Василия Николаевича ко мне подошла радостная монахиня Марфа и, сияя лицом, заявила:
– Батюшка, простите меня! Я сначала негодовала на вас, что вы назвали меня Марфой. А теперь вся душа моя ликует, когда я слышу – «монахиня Марфа»! Спаси вас Господи!
Из сельских новостей я узнал, что к пчеловоду приехал старший сын, воевавший в Афганистане и попортившийся там на наркотиках. Церкви он избегал и предпочитал молодежные компании с выпивкой. Зато порадовали мои друзья: лесничий, пчеловод и милиционер отремонтировали молитвенный дом, и он радовал глаза новой крышей и выбеленными стенами. Верующих заметно прибавилось, и с ними стало приходить много детей.
Наконец все сельские хлопоты закончились, продукты и инструменты были подняты в келью. В середине ноября я остался один. Сони-полчки перекликались по вершинам огромных буков, но к холодам угомонились и они. Помню тихий серый вечер с холодным моросящим дождем, быстро наступившую непроглядную темноту, жуть безмолвного черного окошка кельи, которое заволокло туманом, и первый помысел, который пронзил меня, как удар электрического тока. Это был безотчетный страх перед долгой нескончаемой зимой. Мне предстояло продержаться до половины апреля, когда по снежному насту можно будет пройти далеко вниз, а первый вечер казался таким долгим, что я ужаснулся. Если таким длинным и томительно долгим предстал для меня первый вечер зимовки, как же я выдержу всю зиму?
Пока я в унынии предавался этим грустным размышлениям, мне подумалось, что уже, наверное, наступила глухая ночь. Я посмотрел на часы. Прошло только пять минут, а мне показалось, что это одиночество длится уже целую вечность. Тогда впервые в душе моей открылась условность времени и нашего понимания его относительной длительности. С той поры до отъезда на Афон минуло десять лет, как один миг, но те первые пять минут одиночества запомнились мне на всю жизнь…
* * *
Во всем еще полно неясного,
Но в этой тьме, где нужно жить,
Необъяснимое прекрасное
Ясней всего, что может быть.
И, пережив усталость долгую,
Поймешь, устав от долгой тьмы:
Лишь только в Нем есть то немногое,
Что так безплодно ищем мы!
Сердце теряется в безпрестанном кружении среди вещей, обстоятельств и безпорядочных мыслей. Это и есть мир суеты, создающий длительную и закоренелую привычку похоти очей, ума и плоти. И если их лишить привычной суеты, то эта застарелая привычка кружить среди вещей мира внешнего и помыслов мира внутреннего еще долго продолжает терзать душу, не желая оставить ее. Когда ум, с помощью благодати, отрывается от без-порядочного парения в вещах и помышлениях, он начинает утверждаться в сердечных глубинах, становясь духовным сердцем, в котором сияет Христос.
БРАНИ В УЕДИНЕНИИ
Господь и Бог мой, Иисусе Христе, приими мою первую попытку научиться истинному покаянию, так как то зло, в которое впадал я и неоднократно впадаю, причиняет мне уже здесь, на земле, муки отчаяния, ибо эти падения отлучают душу мою от Тебя. Взываю к Тебе, Боже, из тесноты моей, ибо даже то благо, которое Ты вложил в душу мою, вынуждает меня страдать из опасения утратить его и стать вдвойне грешным. Потому Ты и есть мой Исцелитель и Спаситель, ибо лишь в блаженном покое Твоем уставшее сердце мое находит отдохновение от тягот и забот этого мира и от удручающих обременительных помышлений.
Суть заповедей Христа – совершенная чистота сердца и полное внимание к нему. Плод сердечной чистоты – вечное спасение, а плод внимания к сердцу – Божественная благодать.
Различные блюда и яства, овощи и фрукты, сладости и деликатесы – безчисленные их образы стали всплывать в уме, заставляя желудок судорожно сокращаться. Есть снова и снова – эта мысль овладела моим умом, не давая ему покоя. Один вид фасоли или гороха вызывал отвращение. Пища казалась безвкусной и отвратительной, а голод мучил все сильнее и сильнее. Единственным утешением в питании оставалась лепешка. Но ее нужно было разламывать пополам, чтобы вечером, вымочив в воде, не торопясь и растягивая этот процесс, съесть хлеб уже в темноте.
Опасение, что продуктов может не хватить до весны, начало преследовать меня. Первое время мне казалось, что нужно уменьшить порции круп, и я урезал себя до горсти крупы и горсти гороха на день. По моим расчетам выходило, что запасов должно хватить. Но периодически я вновь и вновь пересчитывал содержимое баков, чтобы успокоить себя. Однообразное питание раз в день давало мало физических сил, чтобы двуручной пилой пилить дрова, расчищать в снегу дорожку к бревнам и сучьям, которые периодически заваливало снегом. С большим трудом я вытаскивал каждый корявый сук из смерзшегося сугроба.
Ощущение голода неослабно караулило душу, и если я впадал в рассеянность, то помыслы о еде наваливались на меня, пытаясь сбить с установленного распорядка. Случалось, сильнейшие брани с помыслами приходилось претерпевать за несколько минут перед обедом, соблазнявшими меня начать есть раньше назначенного срока. Другой вид брани за еду начался в конце скудного обеда за вторую половину моей скудной порции, которую я откладывал, чтобы съесть ее чуть позже, таким образом стараясь избегать прожорливости и переедания. Помыслы тучей носились вокруг, соблазняя съесть все немедленно. Чтобы отвязаться от них, я принимался за молитву или читал жития святых.
Еще более тяжелая война началась за ночную молитву. Сонливость предстала сильнейшим орудием диавола, чтобы не дать мне молиться ночью. Как только приближалось время к одиннадцати ночи, глаза тяжелели так, словно их кто-то сдавливал. Голову невозможно было поднять, и крепкий, безпробудный сон наваливался на меня, даже не сон, а какое-то оцепенение всех чувств. Пытаясь не уснуть, я прислонялся спиной к стене кельи, смачивая голову холодной водой, открывал настежь окошко, чтобы морозным воздухом освежить себя, но все было безрезультатно – я засыпал мертвым сном, словно отравленный каким-то ядом.
Прилагая все силы в борьбе со сном, я пустился на хитрость и решил отоспаться как следует. Спал я безпрерывно целые сутки, надеясь проснуться бодрым и свежим. Но как только время приближалось к одиннадцати часам ночи, вновь не оставалось никаких сил на борьбу с сонливостью и спать хотелось с невероятной силой. Видя, что подобные хитрости не помогают, я твердо намерился просыпаться ночью, чтобы молиться в ночное время. Но даже сказать всего один раз «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» не оставалось сил. Окончательным правилом для себя я выбрал следующий метод – начинать молитву с вечера так, чтобы на пять или десять минут пройти рубеж одиннадцати часов. Молитвенный опыт показал, что самый сильный натиск сонной брани начинается с одиннадцати ночи и неослабно борет примерно до двух часов. Когда случайно мне удавалось не заснуть, после двух часов ночи молиться становилось все легче и легче.
Борьба со сном хотя и была непосильно тяжелой в первую зиму, но наиболее тяжелой и суровой оказалась борьба непосредственно за саму Иисусову молитву. Если я брал в руки книги о молитве, чтобы просто почитать их, они казались свинцовыми. Четки как будто кто-то вырывал из рук, и каждый узелок, казалось, весил не меньше тонны. Даже произнести полностью молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» не было никаких сил. Голову словно обхватывал металлический обруч, который стягивался все туже, причиняя сильную боль при каждом усилии прочитать молитву. Во рту пересыхало, сердце колотилось так, словно выпрыгивало из груди. Отчаяние периодически приступало с такой силой, что я несколько раз намеревался бросить келию и бежать вниз, в скит. Но каждый раз, спрыгнув с порога, не мог пройти больше трех-четырех метров – снег лежал по грудь и ни о каком бегстве не могло быть и речи.
Сидя в уединении с четками в руках, я погружался в какое-то тупое оцепенение или в полудрему, не имея сил даже раскрыть глаза. Мне все чаще стали слышаться голоса: «Симон! Симон!» Иногда мне слышалось, как будто кто-то пришел к келье и зовет меня. Откуда здесь зимой могут быть люди? Недоумевая, я выскакивал на порог, но видел только кружащиеся хлопья снега, который мог валить неделями без перерыва. Наконец я просто перестал обращать внимание на голоса, зовущие меня, понимая, что там не может быть никого из людей.
Тогда эти голоса стали донимать меня среди ночи:
– Уходи отсюда, иначе ты погибнешь! – раздавалось почти над ухом. – Убирайся прочь, негодяй! Это наше место!
Неподъемной рукой с последним усилием воли я старался хотя бы перекреститься, и лишь тогда голоса на время умолкали. Среди ночной снежной бури они кричали:
– Прочь, прочь с нашего места! Мы развалим твою избушку!
И я не верил сам себе: келья сотрясалась так, словно ее трясли с четырех углов. Балки скрипели, бревна, казалось, ходили ходуном. В спешке, теряя спички, я зажигал свечу – но все оставалось по-прежнему. Это было только наваждение… За окошком стояла серая мгла беззвездной ночи. Тихий зеленый огонек лампады кротко светился в темноте, и на душе отлегало от безпричинных страхов. «Господи, если все эти мучения сокрушат меня, – говорил я, – при-ими их как мое покаяние…»
Спасительное напутствие старца пришло мне на помощь: «Если не сможешь молиться, пиши молитву в тетради». Благодарение братьям моим, которые принесли мне с продуктами толстые общие тетради! Мелким убористым почерком я начал записывать в них молитву за молитвой, лист за листом, и чем больше становилось исписанных листов, тем спокойнее становилось на душе. Само присутствие рядом молитвенной тетради словно излучало некий мир, покой и защиту. За зиму я исписал три общие тетради и держал их рядом с изголовьем на столике, как свою защиту и поддержку. Когда я перелистывал лист за листом, где находилась только Иисусова молитва, слова ее как будто оживали и своей благодатной силой пробуждали оцепеневшую и ослабевшую от духовных браней душу.
Тем временем декабрьское солнце стало чуть повыше подниматься в полдень над Бзыбским хребтом, а на закате садилось уже не напротив кельи, а сдвинулось немного дальше на запад. Снег периодически прихватывало твердым настом. Это позволило совершать небольшие прогулки, без опасения провалиться в снежные ямы. Заговорили и зашумели засыпанные снегом водопады, и добавилось новое искушение. Ночью их не было слышно, а днем, когда я пытался молиться, звуки водопадов стали складываться в одуряющие монотонные мелодии, подобные шаманским заклинательным ритмам, напоминая дискотеку. Как будто толпы бесов во всю мощь извлекали из каких-то непонятных инструментов жуткую музыку с воплями и плясками. Порой доносились многочасовые барабанные неистовые ритмы, словно они выстукивали их своими копытцами. Затем шаманская музыка резко менялась, и начинали звучать изумительные скрипичные концерты, пленяющие слух и ум своей красотой. Если я позволял себе рассеяться, то эта дьявольская музыка завораживала ум и я не замечал многих часов, потерянных в этом музыкальном одурении.
Понимая, что слушать эти мелодии опасно, я решительно настроился не поддаваться музыкальному гипнозу и так постепенно научился не погружаться в колдовские ритмы и мелодии. Как только это произошло, шум водопадов вновь стал обычным фоном прибывающего весеннего тепла. Едва я справился с пленением ума музыкой падающей воды, как добавилась новая напасть. Сны стали пленять ум с такой силой, что увлекали его подобно нескончаемым сериалам. Удивляло в этих снах то, что определенные лица и события могли переходить из одного сна в другой, продолжая свой фантастический сюжет. Иногда сновидения превращались в удивительное повествование из чьей-то жизни, в которой я тоже принимал участие, сознавая в то же самое время, что не имею к этим чужим приключениям никакого отношения.
Сны становились все более красочными и увлекательными, затягивая мое любопытство в невероятные истории и происшествия, переходящие из одного сна в другой. Однажды я обнаружил, что во сне свободно говорю по-английски в чужой стране с группой молодых ребят, прекрасно понимая их ответы и задавая свои вопросы. В конце беседы я неожиданно перешел на русский, и мои собеседники сразу же легко перешли на этот язык. Это вызвало во мне недоумение, и я спросил у одного из «иностранцев» из моего сна:
– А вы что, на русском языке тоже можете говорить?
И услышал ответ:
– А мы на всех языках говорим!
И с хохотом они исчезли. Такой сон заставил меня призадуматься: не хотелось бы застрять в таких сновидениях, где меня обманывают жалким образом. Собрав все силы, я твердо наказал себе спать как можно меньше, чтобы не попадать в уловки сновидений. Пришлось сделать пугающий своим реализмом вывод: сон – это сильнейшее оружие диавола, которым он удерживает душу в рабстве.
Для того чтобы решительно противостоять сну и не становиться безпомощной жертвой сновидений, я взялся подолгу читать среди ночи книги святых отцов при свете маленьких самодельных свечей, что привело со временем к ухудшению зрения. Стараясь не спать, я подолгу сидел с четками, опершись спиной о стену. Побеждаемый дремотой, я сильно застудил спину. Когда печь остывала, тонкие сквозняки из щелей по углам кельи продували меня насквозь, и я простужался так, что по утрам не мог разогнуться.
Помимо борьбы с немощами и бесовскими наваждениями добавилась сильная печаль об оставленном отце. Как он живет без меня? Возможно, он болеет и ему некому оказать помощь? Или же он голодает и у него нечего есть? А если он замерзает в доме и никто не приходит его проведать? Печальные помыслы об отце стали переходить в скорбные сновидения, в которых он жаловался мне, как ему плохо без меня. Несколько раз мне снилось, что отец уже умер, и от горя сердце мое разрывалось на части. Много раз я в раздумье выходил на порог, чтобы бросить уединение, попытаться пройти границу и добраться в Сергиев Посад, где, возможно, мой отец безпомощно умирает или, не дай Бог, уже умер. Но сильные снегопады, а затем и метели перекрывали все возможности бросить келью и устремиться на встречу с отцом.
Один навязчивый помысел принялся досаждать мне и изводить душу. Слыша во время метелей скрип пихты над своей головой, я стал впадать в дикие опасения, что буря свалит дерево и оно рухнет на мою келью. Под завывания ветра я выбегал наружу – верхушка пихты угрожающе раскачивались, а в каждом скрипе дерева мне слышался ужасающий треск его падения. Я крестил пихту снова и снова, не чая дождаться конца зимы и остаться в живых. Насколько страхи мои были безосновательны, стало понятно из того, что именно эта пихта выстояла во время страшной осенней бури, когда валились другие деревья.
В такие затяжные периоды уныния неожиданно поддерживали мой слабеющий дух стихи, когда молиться становилось совсем невмоготу. Внимание переключалось на другое – и боль уныния немного слабела, а иногда даже забывалась. Так я постепенно начал вести стихотворный дневник своих невзгод, излагая в нем то, что хотел бы сказать на исповеди, которой, к сожалению, был лишен в уединении. Но не всегда помогали и стихи, поэтому в безысходности уединенной замкнутой жизни сердце поневоле устремлялось к Богу, находя в Нем единственную опору и утешение от всех скорбей.
* * *
Отпели заливисто птицы
Мне песнь похоронную.
Вновь позолотой зарницы
Сияют исконною.
Дух мой в борении тяжком,
Словно под ветром, шатается.
Сердце железное, гордое,
Болью объятое, плавится…
К крайне отчаянному положению в борьбе за молитву и духовную жизнь добавились внешние страхи. До февральских оттепелей мне представлялось, что в зимнем лесу я живу совершенно один, а звери не могут появиться здесь из-за глубокого снега. Радуясь погожим солнечным дням, я стал совершать небольшие прогулки к скальным обрывам, откуда можно было любоваться заснеженным Кавказским хребтом. Там, вдоль обрывов, к моему крайнему удивлению, сродни удивлению Робинзона, я обнаружил длинные цепочки следов, похожих на собачьи. Они пересекали лесные поляны в двух направлениях: одни следы уходили в верховья реки, а другие шли с верховий вниз по ущелью. Собак здесь быть не могло, и я знал, что у волчьих следов, в отличие от собачьих, два средних когтя всегда выдаются вперед. Я исследовал найденные следы, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что это волки. Совершать прогулки по полянам стало опасно. Пришлось большей частью сидеть в келье, слушая по ночам заунывный волчий вой, несущий гибель всему живому.
Удручаемый безпрерывными скорбями и находясь в полном отчаянии от своей немощи, я вспомнил благословение отца Кирилла: «Когда будет трудно в уединении, служи литургию». Робко и неуверенно приступил я к своей первой литургии в Рождественский пост. Когда мерцающий свет свечей озарил скромные церковные сосуды, которые подарил мне батюшка как наследие Глинских пустынников, и благоухание ладана наполнило келью, слезы невольно полились из глаз. Невыразимое счастье служить литургию в горах под Рождество переполнило мое сердце. Заливаясь слезами благодарности к Богу и своему старцу, я причастился, не сознавая ни времени, ни зимнего заточения, ни самого себя. После нескольких литургий душа и сердце приобрели крепость и словно утвердились в стойкости. Брани и искушения перестали быть такими жестокими как прежде. Каждая литургическая молитва стала для меня лучом спасения, неожиданно осветившим мою отчаянную жизнь. Если бы не литургии, очень трудно было бы устоять перед тяжелым и изнурительным натиском зла. Этот первый опыт служения Божественной литургии в горах показал, что только с нею моя слабая душа осталась жива и смогла многими скорбями принести покаяние Богу и начать в Нем новую жизнь.
Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты дал мне ясно увидеть немощь мою и крайнее безсилие самому противостоять злобным ухищрениям диавола, ибо, пока мы не познали Бога, всякое наше знание и наш человеческий опыт пусты и безсмысленны перед Ним. Позволь же, Боже, приблизиться к Тебе и войти в смиренный и мудрый покой Твой, в котором ничто не начинается и ничто не заканчивается, ибо это и есть Твоя неразрушимая истина, в которой Ты стоишь неколебимо во веки веков.








