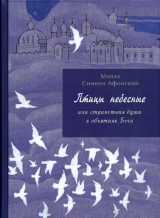
Текст книги "Птицы небесные. 1-2 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 65 страниц)
МОЛИТВА И ПОХОДЫ
Когда душа напрямую постигает значение сказанного, что человек создан по образу Божию, она мгновенно покидает клетку телесности, превосходя ограниченность тела, дабы соединиться с безмятежностью Святого Духа. Первое открытие, которое совершается в душе по милости Божией, это то, что она глубоко осознает достоверность и самоочевидность своего постижения и то, что лжезнание, создаваемое догадками и умозаключениями, полностью обманчиво и недостоверно. Не устремляясь за изменениями мира, душа учится открывать в самой себе нечто неизменное, именуемое духом, постигая, что изменчивый мир не может быть самоцелью.
Неудовлетворенная жажда познания безконечно разнообразного мира увлекала меня время от времени в далекие поездки. Мне хотелось сравнить климат Таджикистана, доводящий своей летней жарой до изнеможения, с другими прославленными местами Советского Союза. С большим интересом я бродил по берегам величественного Иссык-Куля в Киргизии, добравшись даже до Пржевальска. Несмотря на все красоты этого края, душа не откликнулась на киргизские просторы. Поездка поездом на Байкал открыла без-предельные дали Сибири, когда гудок нашего электровоза несся по таежным сопкам и распадкам на сотни километров туда, где не было ни дорог, ни жилья. Покоренный красотой Сибири, я стоял в тамбуре, открыв дверь и любуясь тайгой.
Где-то под Иркутском поезд остановился на разъезде. Я сошел со ступенек: мне приглянулись трогательные и нежные пионы с синими склоненными головками. Сорвав небольшой букетик, я поставил его в стакан с водой. Тогда мне впервые открылась красота цветов. Сердце распахнулось навстречу этой нежной чистой красоте и словно соединилось с ней. Ошеломленный, я чувствовал, как оно постигает в цветах незримую Божественную суть творения, улавливая невыразимо тонкий и неуловимо прекрасный язык этой красоты.
– Что, пионы понравились, молодой человек? – обратился ко мне пассажир напротив.
– Да, понравились… – смущенно ответил я.
– Это заметно. Даже завидно… – усмехнулся он.
Синее безмятежие байкальских горизонтов вдохновило меня на поиски жилья. В одной глухой деревне мне приглянулась рубленая изба за смехотворную цену. Местные девчата прозвали меня «парень из Баку» и всегда шутливо кричали: «Эй, парень из Баку, выходи гулять!», когда проходили мимо избы, в которой я поселился.
– Для чего вы так говорите?
Мой вопрос смешил их до слез.
– Для залетна молодца и для красного словца! Понимай как хочешь! – хохотали они.
– Я вовсе не из Баку, а из Душанбе! – поправлял я.
– Нет, из Баку! – настаивали сибирячки, подмигивая друг другу.
Но когда в колодце летом я обнаружил на стенах полуметровый слой льда, – как объяснили мне местные жители: «Ну, это вечная мерзлота, однако!», – желание поселиться на Байкале пропало совершенно. Из любопытства я доехал даже до Читы, но угрюмые нравы глухих старообрядческих деревень с высокими заборами, где, как говорят, зимой снега не выпросишь, побудили меня взять билет обратно в Душанбе.
В Забайкалье я познакомился с таким же путешественником (он был постарше) из Москвы, который искал себе более тихое место среди необъятных увалов и займищ Сибири. Устав от долгих переходов по нарзанным источникам, я издали заметил в одной из глухих деревень несколько пожилых женщин сурового вида, закутанных в темные платки по самые глаза, стоявших у калитки с высоким, выше головы, забором, и намерился купить у них какой-нибудь еды.
– Брось, Федор, безполезно! Никаких продуктов здесь не выпросишь… – вполголоса сказал мой спутник.
– Здравствуйте, бабушки! Мы вот мимо идем, устали. Нельзя ли купить у вас немного молока и хлеба? – как можно доброжелательнее сказал я.
Ответом было настороженное молчание. Во дворе рвалась с цепи собака, судя по внушительному лаю, не из маленьких. После некоторого молчания одна из старух неприязненно произнесла:
– Идёте мимо, ну и идите себе! Нечего тут…
– Пойдем, Федор, – потянул меня за руку голодный товарищ. – Ничего у них не добьешься, говорил же тебе!
И вдогонку услышали:
– Выйдут из тюрем и бродят здесь, окаянные…
«Да, Сибирь – все же сложная штука! – подвел я итог своим поискам в этом завораживающем душу крае. – Но зато такой земли нигде на свете нет!»
В долгом утомительном движении по степям Западной Сибири сердце мое так жаждало снова увидеть родные горы в мерцающем мареве горячей дымки, что сами собой сложились слова, в которые осязаемо вошла энергия внутреннего переживания.
* * *
В хоралах камня – лейтмотив высот.
На кручах пиков – взлет зубцов и башен.
И туч опаловых стремительный полет
Над необъятностью земных полей и пашен.
Им не подвластен ваш крутой изгиб
И гребней удивительные всплески.
В провалах каменных – движенье птиц иль рыб,
Рождающих причудливые фрески?
Пытаюсь удержать неудержимый дух.
Впиваюсь слухом в облачные гаммы.
И удивляюсь – Он ли или это слух
Творит в душе органные программы?
Тихие радости и открытия горной жизни выпадали на нашу долю с Авлиекулом в Пештове словно теплые майские дожди весной. Как-то в мае мы с ним попали на большую поляну цветущих нарциссов. Такого количества цветов я вообще не встречал: поляна сплошь была покрыта золотисто-белыми чашечками сладко пахнувших цветов. Густой нежный аромат плыл над землей. Под легким ветерком он становился таким сильным, что кружилась голова. Чудесный запах нарциссов то усиливался, то слегка ослабевал. Мы переглянулись с геологом и молча сели на пригорок, закрыв глаза. В этом неземном благоухании не хотелось ни говорить, ни куда-то идти. Мой друг в благоговении снял шляпу с головы и положил на землю. Прошло часа два нашего сидения и нужно было возвращаться на станцию, потому что подошло время смены сейсмолент. Мы с большой неохотой поднялись и ушли, позабыв среди цветов шляпу Авлиекула. На следующий день мы вернулись к своей поляне, чтобы забрать шляпу. Я накопал там целую корзину луковиц этих горных цветов и рассадил их на станции и у родителей в Душанбе. С тех пор нарциссы стали для меня чистым и прекрасным символом горного уединения. Еще я любил бродить по горам во время цветения дикой розы – шиповника, когда в лугах стоял тонкий аромат и все склоны были покрыты нежными цветами, как будто весенние дали открыли свои прекрасные глаза, смотрящие прямо в душу. Обычно цветение розы совпадало с цветением тамариска и все долины густо благоухали, разнося розовый дым пыльцы тамариска и белые облака лепестков дикой розы.
Весной мне удалось увидеть «поющее» дерево цветущей черешни. Цикад становилось все больше и звон их начал походить на звук работающей бензопилы, только более музыкальный. В одном углу нашего сада этот пронзительный звук был более оглушительным, особенно там, где стояла цветущая черешня. Подойдя поближе, я не поверил глазам: она вся была покрыта цикадами, каждая ветка и веточка издавали оглушительный звон. Присмотревшись, я заметил, что кора дерева полностью усеяна оставшимися хитиновыми коконами от выбравшихся из них цикад. До поры хитиновые гусеницы сидят неподвижно, уцепившись жвалами за кору растения, а когда приходит жара, эта ужасная оболочка трескается и из нее выползает удивительно красивое создание с жемчужными крылышками. Обсохнув, эти создания взрываются целым каскадом оглушительных трелей, являя нам чудесное преображение, происходящее в природе.
Когда в конце мая в горы потянулись отары пастухов, мне довелось ночевать в ущелье соловьев, куда нас с геологом привезла лесхозная машина после возвращения с водопада. У костра пастухи готовили чай, а мы с Авлиекулом прилегли на подстилку из толстого грубого войлока. Стемнело… Над хребтом, выбираясь из зарослей леса, медленно всходила полная луна, заливая горы призрачным светом. Только пастухи настроились на долгую неспешную беседу с гостями, как море соловьиных трелей обрушилось на нас со всех сторон. Тысячи или даже несколько тысяч соловьев во все свои соловьиные голоса объединились в один громадный неумолчный хор. Свист стоял такой, что не было слышно голоса собеседника. Беседа не получилась и пастухи с досадой ушли в свою палатку. У догорающего костра остались только мы вдвоем с Авлиекулом и молча, до глубокой ночи, слушали с упоением величественную симфонию леса.
Принимать гостей для Авлиекула являлось священной обязанностью. Кто бы ни постучался в наш дом, он усаживал гостя в просторной комнате, расстилал шелковые курпачи – узкие ватные коврики, обшитые шелком, и новый дастархан – цветастую скатерть, ставил лучшее угощение и развлекал приезжего до тех пор, пока того не клонило в сон. Однажды он играл на дутаре и пел до трех часов ночи. Когда гости уехали, я спросил своего друга:
– Устал, Авлиекул?
– Сильно устал, даже охрип!
– Так пошел бы спать!
– Ну что ты! Никак нельзя! Гостя оставить – это грех… Его еще нужно спать уложить!
Такое самоотверженное гостеприимство вызывало уважение. Порой Авлиекулу хотелось разобраться в религии и он спрашивал:
– Федор, я часто слышу, люди говорят – «надо спасаться, надо всем спасаться!» А от чего спасаться? Живем хорошо, не воруем, не убиваем… Не понимаю!
– От греха нужно спасаться, Авлиекул!
– Так мы особо и не грешим!
– Если мы говорим, что не грешим, то этим себя обманываем… Разве не бывает, что мы, к примеру, на девушек засматриваемся или на близких людей сердимся?
– Бывает, конечно. Ведь я еще иногда вино пью и от сала не отказываюсь…
– Значит тот, кто любит все это, тот Бога не любит, верно?
– Верно.
– Вот так нас обманывает дьявол. Поэтому от дьявола и нужно спасаться!
– Ну, это мне понятно. От шайтана, значит…
– Примерно так, Авлиекул!
– Знаешь, прошу тебя, учи моих детей, а то мне все некогда им об этом говорить.
– Так они же еще маленькие.
– Ну, когда подрастут!
– Когда подрастут, тогда посмотрим! Я сам пока еще Бога ищу… – отвечал я и задумывался: годы идут, а мне все еще не ясно, удастся ли душе моей стяжать спасение, о котором я говорю другим?
Будучи невоцерковленным, я был слепым по отношению к Церкви и усиленно искал в горах то что скрыто – святую благодать вне церковных Таинств. Я все еще больше находился вне стен Церкви, чем в ее ограде. Очарованные моими повествованиями об Оби-Хингоу Виктор и Геннадий присоединились ко мне в большом походе в верховья этой удивительной реки. К этому времени между нами, особенно между архитектором и мной, происходило все более тесное сближение. Он мне нравился своей нравственной чистотой и художественной одаренностью, как талантливый художник и прекрасный фотограф, который тонко чувствовал красоту природы. Инженер тоже подружился со мной, будучи добрым и отзывчивым парнем, но шел своими путями, закрытыми для других людей. Ценя мое тактичное отношение к его жизни и к его спортивным увлечениям, он не посягал, в свою очередь, на свободу других самим определять свою жизнь.
Мои восторги о Памирском тракте увлекли их обоих в наше совместное путешествие. Радостные и счастливые мы выехали на двух ЗИЛах, везущих груз на далекий Памир. Первая ночевка состоялась у нас возле небольшого кишлака, где дорога на Памир уходила на Хабуробадский перевал. Рядом с чьим-то плетеным забором мы устроили ночлег и только поставили на огонь котелок, как нас окружили местные ребятишки, держа поднос с миской кислого молока, лепешками и сладостями: «Это папа и мама вам прислали!» – прокричали они хором и убежали. Я сильно подосадовал на самого себя, что не догадался захватить небольшие подарки для детей. Потом мы всегда брали в любой поход «про запас» школьные авторучки, резинки, цветные карандаши и, конечно, конфеты.
К вечеру мы подошли к кишлаку, расположенному возле красивых полей, ярко выделяющихся среди долины своими желтыми цветами рапса. На них зелеными шатрами раскинулись деревья грецкого ореха. Сидя под орехом у небольшого костра, на котором закипала вода в котелке для чая, мы готовили себе в кружках детскую кашу, которую, для экономии времени, просто заливали горячей водой. Только мы приготовились к нашему горному ужину, как снова увидели бегущих к нам ребятишек с угощениями. Запыхавшись, они протянули нам поднос с кислым молоком, лепешками и медом: «Мама и папа увидели вас и просят прийти ночевать к нам домой!» Эти дети совсем смутили нас. Такое гостеприимство к незнакомым людям запоминается на всю жизнь! В другой раз, когда мы снова оказались в этом месте, мы отблагодарили подарками этих простых безхитростных людей.
Начинало темнеть. Геннадий и я легли под этим же огромным деревом, среди переплетения его корней, решив терпеть неудобства, а Виктор все ходил и искал для ночлега место получше. Наконец, он нашел подходящий участок земли, лег на него для пробы и порадовался тому, как удобно было лежать. Это было дно небольшого сухого арыка. Там он и устроился. Наступила теплая ночь с мерцающими огромными звездами и ярким Млечным путем, пересекающим небо, от которого на поля лился мягкий рассеянный свет. Среди ночи Виктор вдруг издал возглас: «Да что же это делается? Специально что ли?» Он вскочил с мокрой спиной: по дну арыка шумела вода для полива рапса. Вскоре наш друг, кряхтя, улегся между ореховых корней, рядом с нами. Мы еще немного посмеялись над этим забавным приключением, но усталость взяла свое, и все уснули.
Чем больше привыкаешь к весу рюкзака, тем меньше ощущаешь его тяжесть. Попутных машин не было, но мы бодро уходили все дальше и дальше в верховья реки. Там, где Оби-Хингоу, разделяясь, уходила влево, мы перешли клокочущую реку по длинному раскачивающемуся подвесному мосту и пошли вверх по притоку, берущему свое начало в ледниках Дарвазского хребта. Ущелье стало уже, а горные пики – более высокими, удивляя своими остроконечными вершинами, похожими на небесные золотистые знамена, стоящие на постаментах могучих горных кряжей.
На каждом привале мы доставали четки и молились, наслаждаясь горным безмолвием, нарушаемым лишь посвистом синиц. Река сделалась тихой, словно ручной, и перекатывалась по камням с ласковым плеском. Вдоль песчаных берегов, по колено в воде, стояли кусты бледно-зеленого ивняка, окуная свои длинные спутанные пряди в светлые волны реки. Я сидел с четками, прислонившись спиной к большому камню. Мои друзья сидели рядом, тихо молясь. Солнце светило из-за спины. Перед глазами огненными языками каменного пламени сияли вершины. Постепенно это прекрасное зрелище начало как будто отодвигаться и меркнуть, словно не осталось ни одного предмета, который бы привлек взор. Не было ни света, ни темноты, но только непередаваемый покой источался откуда-то из глубины души, все превращая в живое и дышащее покоем безбрежное пространство невыразимого счастья. Но даже оно отошло, и осталось нечто неведомое, не имеющее ни конца, ни начала, но в этом несказанном «нечто» была жизнь и оно само было истинной жизнью, безусловной, не требующей ничего, что могло бы дополнить ее или умалить. Теперь уже ум не желал возвращаться из этой безграничной жизни в маленькое скорчившееся у камня существо, в котором ему нужно было снова жить, двигаться и говорить.
Меня привели в чувство попытки друзей расшевелить мое тело. Они дергали меня за руки, дули в лицо, а Виктор щекотал мне нос травинкой, надеясь щекотаньем вернуть меня к действительности. Еле разомкнув губы, я с усилием произнес: «Подождите…», пытаясь сказать, что скоро я поднимусь, и мы пойдем дальше, но ум снова начал входить в безбрежность, наполненную Богом. Мои доброжелатели пытались поднять меня с земли за руки и тормошили за плечи. В конце концов их усилия увенчались успехом. Я с трудом открыл глаза и попытался встать. Они помогли подняться, и я пошел, слегка пошатываясь, следом за своими спутниками. Мы прожили на высокогорных полянах у реки два или три дня. Все это время я лежал в палатке и молился. Мои друзья молились тоже, пока наша еда не подошла к концу. Тогда мы поспешили в обратный путь.
В этом походе мы крепко сдружились с Виктором. Он сделал много отличных фотографий и было видно, что красота горной природы и величие Памирских вершин тронули его душу. Киевлянин был более сдержан, но доволен своими впечатлениями. Они спешили вернуться на свою метеостанцию, которую оставили на попечение редактора. Но этот поход с молитвой по горным тропам и ущельям настолько впечатлил Виктора, что он тут же уволился с метеостанции, чтобы иметь свободное время на путешествия по горам. Он начал сотрудничать с местным издательством как прекрасный иллюстратор детских книг. Что касается Петра, то его жена все больше становилась недовольна религиозными поисками мужа. Их скорый разрыв уже был предрешен. В несколько дней он рассчитался на работе и устроился на гидрометеостанцию, став ее безсменным начальником.
Ранней весной вместе с художником мы совершили поездку в Гарм, где он хотел сфотографировать виды хребта Петра Первого, а для меня эти места были воспоминанием о хороших людях, встречу с которыми подарила мне жизнь. Любуясь величавой панорамой огромной реки, омывающей подножие передового хребта Памира, я не смог удержаться от стихотворного вдохновения при виде бледного диска луны, выплывающего из застывшего нагромождения мощных ледников, лежащих на плечах заоблачных горных великанов.
* * *
Горечь слов на ветру прозвенит.
Станет звук их невнятен и груб.
Ты простишься, а сердце щемит,
И дыханье, сорвавшись, летит,
Повторяя движение губ.
Тебя обнял дорог поворот,
Чтоб с собою увлечь навсегда.
Та река, что в пространство течет,
В нем конец и начало берет
И уходит в него без следа.
И сквозь утра горячую плоть
Ты дороги почувствуешь дрожь.
Даль откроет глаза и вздохнет,
И безмолвно тебя позовет,
И в нее ты навеки уйдешь…
* * *
Содрогнется во сне и наклонится ветвь,
Изогнется излука, реки преломляя поток.
Час приходит, и ласковый свет,
Обезсилев, ложится у ног.
Вновь очертится круг над обличьями дня,
Безконечной дугою охватит молчанье долин.
Ночь отступит и вечность проникнет в меня
И заполнит до самых глубин.
Вновь исчезнут границы привычных вещей,
Если в них устремлю я внимательный взор.
И предстанет их суть, и душа содрогнется пред ней,
И полюбит ее с этих пор.
В Душанбе я уговорил родителей отдать мне маленький флигель во дворе, где устроил себе жизнь по Пештовинскому образцу: стал жить без всякой мебели. Постелив курпачу, тонкий азиатский коврик, я спал, молился, читал и даже печатал на пишущей машинке, сидя на полу. Мама была шокирована моим восточным аскетизмом, но для меня это было самым простым и привычным образом жизни. Сидя на полу с книгой, у раскрытого настежь окна, слыша распевающих на все голоса скворцов, я любовался нежными молодыми листьями винограда, насквозь просвеченными весенним солнцем, словно детские ладошки на свету, и мне казалось, что я чувствую биение каждой жилки на нем и каждое дыхание легкого ветра в бездонном небе, скользящем сквозь листву. Поэтому сочинять стихи не требовалось, они писались сами.
* * *
Откроем окна: жизнь ярка!
Скворец на ветке суетится!
О, в этот день наверняка
Все невозможное случится!
С душой заговорят ветра
На языке необъяснимом,
И ни сегодня, ни вчера,
И ничего неповторимо!
Растений тонкая рука
Махнет приветливо с разбега,
И сад стряхнет, как облака,
Остатки мартовского снега!
Все эти стихотворения появились в журнале «Памир», а некоторые другие стихи периодически печатались в газете «Комсомолец Таджикистана», где художественным редактором в отделе поэзии работала талантливая молодая поэтесса, уже издавшая несколько поэтических сборников. Когда я принес домой только что вышедший из печати журнал и несколько газет со стихами, мама, прочитав их, прослезилась, а отец, водрузив на нос старенькие очки, внимательно прочел все стихотворения:
– Стихи – это хорошо. Главное – сказать кратко. Пиши дальше. Мне нравится.
Этот всплеск поэтического творчества каким-то образом повлиял на нового начальника гидрометеостанции и на художника. Оба написали по несколько стихотворений, и на этом их поэтический пыл угас. Но зато у архитектора этот творческий порыв талантливо проявился в другом направлении – он создал серию интересных графических работ о горах, которые были отобраны на столичную художественную выставку в Душанбе. Пока я продолжал жить в Пештове, наблюдая как подрастает сын Авлиекула, который стал уже слишком тяжелым, чтобы носить его на руках, жена родила еще одного сына и дом наполнился детским плачем.
Как-то раз весной Авлиекул уехал в Институт и задержался на месяц на курсах переподготовки специалистов. Его жена с детьми и я остались на станции. Отношения у нас были простые и дружеские, и у меня даже в мыслях не было причинять моему другу неприятности. По-видимому, подозрение не давало бедному парню покоя, потому что когда он появился на станции, то очень внимательно посмотрел на лицо жены, потом мне прямо в глаза. Не заметив ничего подозрительного, мой друг успокоился:
– Знаешь, у нас говорят, что раз в жизни любая женщина за себя не отвечает… Спасибо тебе, что хранишь мою семью! Верно сказано – коня проверяй расстоянием, а дружбу – временем.
После этого геолог уже не посматривал на нее и на меня с тревогой.
В марте снега выпало очень много, но на солнце было очень тепло. Расчистив площадку перед крыльцом, я колол дрова. Устав от рубки поленьев, я распрямил спину и посмотрел на противоположную сторону. Там, на скалах, было заметно какое-то движение. В бинокль стало хорошо видно, как на теплых протаявших скалах лежала, греясь, медвежья семья. Огромная бурая медведица забавлялась с двумя медвежатами. Она ласково лизала их, позволяя детенышам творить с ней что угодно. Они вскарабкивались ей на голову и, кувыркаясь, съезжали с ее широкой спины. Во всех их действиях было очень много любви и ласки.
Чувство того, что все в мире движется только любовью и существует ради любви, переполняло мое сердце. Оно ощутимо жило единством со всяким существом в мире, ощущая живущую во всем любовь, и само посылало всему живому ответные волны любви. Это чувство всеобщности с природой длилось всю зиму. Мне начало казаться, что я сроднился с этим чувством навеки и никакой город не украдет никогда у меня эту любовь. Увы, приехав в Душанбе, я растерял это ощущение в первые же несколько дней так же, как терял прежде. Это заставило меня задуматься о стяжании настоящей некрадомой любви, которую ничто бы не смогло отнять. Такая любовь хранилась в Небесной Церкви, уча душу искать ее через Церковь земную, но на стяжание этой любви понадобились долгие-предолгие годы многих усилий и страданий.
Что ищешь ты в миру, сердце мое? Череду дней, превращающихся в паутину, называемую жизнью? Паутину, улавливающую соблазнами доверчивую душу? Близость людей, безполезно стареющих в безжалостных объятиях мирской суеты и в конце встречающих ледяные объятия мерзлой глины? Смех и веселость человеческую, мгновенно обращающихся в печаль и горькие слезы? Помоги мне, Боже, обрести в Божественной благодати необходимые силы и навечно отрешиться от пустого кружения в насквозь фальшивом мире, чтобы ощутить в сердечных глубинах струящуюся Твою безконечность.








