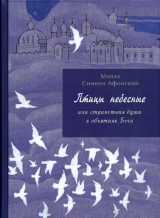
Текст книги "Птицы небесные. 1-2 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 65 страниц)
ОТКРЫТИЕ МИРА
Господи, Ты Сам заповедал мне, недостойному, любить Тебя, как сокровенную вечную жизнь. Поэтому, когда я забываю любить Тебя, то испытываю невыразимые муки оставленности, муки ада, ибо нет ничего более горшего, как остаться подобно умершему, без любви к Тебе. Позови меня тихим гласом Своей любви и нежности, ибо для меня лучше умереть, чем никогда не знать Тебя и Твоей благости. Но даже если я буду обманут наваждением смерти, я верю, что жажда любви к Тебе поднимет меня из праха, в который низвергают меня мои грехи и ошибки, ибо умереть в Тебе, живом, невозможно! Ты подтверждаешь Свою неизменную любовь и за боту о всех нас безчисленными случаями избавления от близкой смерти, о которой я постоянно забываю, увлеченный завораживающим зрелищем мира сего. Прости меня, Боже мой!
Отсверкал улыбками, лепётом и смехом праздничный фейерверк младенческих восторгов. Детские игры переросли в потребность иного приложения растущих сил души и тела. За всеми этими беззаботными радостями детства незаметно подошли обязанности помогать родителям по хозяйству: собирать картошку в огороде, заодно объедаясь душистыми черными ягодами паслена, срезать тяжелые и липкие шапки подсолнечника, с долгим лущением семян под безконечные беседы и шутки взрослых, рвать блестящие вишни синими от сока пальцами, доставать с высоких веток ароматные краснобокие яблоки и заниматься утомительной прополкой безконечной бахчи, уходящей куда-то к самому горизонту со своими медовыми арбузами и дынями.
Вскоре, хотя мне не исполнилось еще шести лет, родители купили для меня школьный портфель, пахнущий свежей краской, учебники, тетради, ручку с пером и чернильницу, которую нужно было класть в мешочек. В то время в начальных классах мальчики носили школьную форму старого покроя: длинную рубаху из серого сукна с блестящими медными пуговицами, стягивающуюся ремнем с медной бляхой, и серые брюки. Мою чудесную форму – после волнующей примерки и многочисленных предупреждений не пачкать ее и не рвать – повесили на спинке стула возле кровати. В ту ночь я долго не мог уснуть и несколько раз вставал, ступая босиком по холодному полу, чтобы в темноте погладить свою новую непривычную одежду.
Первое сентября… Это был необыкновенный день, который начался со свежего, напоенного чистотой солнечного утра. Меня одели в полюбившуюся школьную форму, помогли застегнуть ремень и вручили в руки портфель с книгами и тетрадями, который был приготовлен еще с вечера. Мы вышли на улицу: мама несла букет роз и держала меня за руку, отец шел рядом, торжественный и строгий. На улице мы были не одни – нарядные родители, с мальчиками в такой же школьной одежде, как у меня, и девочки, в белых передниках, с большими белыми бантами в косичках, с лицами взволнованными и счастливыми, шли в ту же сторону, что и наша семья, где возвышалось загадочное здание со множеством окон, называвшееся новым и таинственным словом «школа».
Школьные годы… Годы, чудесные той новизной отношений с другими детьми, разноликими и разнохарактерными, чудесные легкостью учения, благодаря накопленным сведениям из прочитанных книг, новыми знакомствами, переходящими в искреннюю дружбу и привязанность, живостью души, находящей радость в веселости и шутках, заставлявших улыбаться старую, как мне тогда казалось, учительницу. И все же, за всеми этими радостными переживаниями, исподволь, началась неспешная порча невинного детского ума, внедренная в сознание настойчивым призывом обучения, ставшим вскоре неумолимым принципом педагогики: «Думайте! Учитесь думать!» Да, мы пытались думать, пытались расшевелить дремлющее сознание. У одних детей это происходило быстрее и считалось успехом, доставляя похвалу и развивая тщеславие. У других – медленно, и такое развитие считалось недостатком и вызывало поношения и насмешки окружающих. Началось однобокое развитие не души и сердца, не хороших и добрых навыков, а развитие и умножение неконтролируемых мыслей, мечтаний, воображения, подстегнутого школьным тщеславием и соперничеством.
До этой поры накопление знаний о безконечно разнообразном мире шло большей частью безсознательно, через скрытые влечения и неосознанные желания, оседая в душе безчисленными и зачастую противоречивыми впечатлениями. Впереди меня ждало долгое и трудное открытие мира, в котором я сам был для себя первооткрывателем и первопроходцем, так же как любой ребенок в моем возрасте. Но это открытие неизведанного уже не было столь радостным как ранее, так как многие (а порой ненужные) сведения прививались душе принудительно, по бездумной традиции взрослых людей, которую они назвали «школой», когда детская душа не столько открывала мир и саму себя, сколько закрывалась и отторгалась от чистой радости живого процесса познания безжизненными сведениями и мертвыми фактами.
Скучную таблицу умножения я выучил быстро, возможно, потому, что ей мой отец придавал особое значение в жизни и внушал мне, что я должен отвечать ее без запинки, даже если он неожиданно спросит меня о таблице ночью. Каждый вечер я готовился к ночному уроку, но отец так никогда и не сделал этого, хотя иной раз днем шутливо пытался поймать меня врасплох:
– Ну-ка, сын, сколько будет семью семь? Так… А сколько будет шестью восемь? Так… молодец.
К моим книжным увлечениям он относился снисходительно:
– Таблица умножения в жизни важнее, чем Лев Толстой!
Развив в школе до некоторой степени речь, я обнаружил, что кроме познания различных предметов и обстоятельств можно скрывать речью их взаимосвязь с нами, – так появился соблазн лжи. Научившись приспосабливаться к жизни, сердце обрело способность волноваться и переживать по поводу взаимоотношений ума и вещей. Ответом на эту взаимосвязь появились безчисленные безпорядочные мысли. Чем больше их становилось, тем печальнее и обременительней являлся накапливаемый опыт – как прямое следствие познания мира и последующей неудовлетворенности этим познанием. Это повлекло за собой возникновение мечтаний, коварного изобретения мысленной лжи.
Детские переживания от прочитанных путешествий стали неожиданно входить в мою жизнь, превратившись в увлекательные далекие поездки с моими родителями. Отец, как железнодорожник, мог ездить с семьей по всей стране. Так я оказался в Мурманске, который помню очень смутно. В памяти осталась сказочно прекрасная картина: поезд медленно двигался по узкой насыпи через безкрайние синие озера Карелии, словно плыл по небу, освещенному низким незаходящим солнцем. Мурманск встретил нас серыми низкими облаками, моросящим дождем и спешащими людьми на привокзальной площади, где я сразу же потерялся. Я долго шел один, разглядывая город, как вдруг знакомый радостный голос заставил меня остановиться: «Боже мой, да вот же он!» – и меня схватили крепкие добрые руки родителей. Как они нашли беглеца, не знаю. Затем была поездка в Ташкент, где пустыня предстала перед моими глазами необъятным песчаным океаном, по которому неторопливо плыли необыкновенные создания со странным названием «верблюды». Мне сразу захотелось их нарисовать. В тот же миг откуда-то взялись тетрадь и цветные карандаши. Возможно, их купили на большой станции мои родители, и я, пока мы ехали, все время рисовал.
Впечатления от пустыни разбудили во мне жажду рисования, и в школе оно стало самым большим моим увлечением. Душа открыла в себе возможность создавать собственный мир, населяя его дорогими людьми – родителями, деревьями, реками и лесами. Птицы, населявшие мои тетради для рисования, словно становились живыми, когда их касался цветной карандаш, и меня чрезвычайно удивляло, что взрослые не видели в них трепетания настоящей жизни. Простой лист бумаги превращался в безбрежную землю, которую я мог по собственному выбору заселять диковинными животными или заполнять камышовыми хатами, засыпанными снегом, с огоньками в окошках, с тропинками у калиток, с месяцем над крышами. Этот пейзаж отчего-то сильно трогал мое сердце и я мог надолго погружаться в созерцание сокровенной жизни, созданной мной на листе тетради.
Тогда душа моя еще настолько пребывала в себе самой, что никаких других впечатлений от дальних поездок не осталось, кроме ощущения тихой спокойной радости от живого и неуловимого бытия самой души. Но после окончания первого класса произошло событие, которое сильно изменило мое представление об окружающем мире. Душа нашла для себя то, что было ей в чем-то сродни своей необозримой протяженностью, непередаваемым оттенком искрящейся зеленой синевы с безчисленными солнечными бликами, ласковыми и нежными прикосновениями, таинственной пугающей глубиной и нескончаемым веянием безбрежного счастья: все то, что взрослые называли одним коротким словом – «море». Именно море подарило мне радость плавания, мои ноги наконец-то легко оторвались от дна и я – о чудо детства! – поплыл, сам не понимая как. Расстояние до самого моря, рядом с которым я жил тем летом в детском лагере, было не более нескольких сот метров. Во время шторма голос его долетал до моего слуха нескончаемым рокотом глубин, голосом несказанно обворожительного морского простора, в который я влюбился всем сердцем.
Еще мне понравился поход в невысокие прибрежные горы, поросшие густым лесом, с их таинственными тенистыми тропами, замшелыми валунами вдоль тихих ручьев, где маленькие крабики ловко прятались под камнями, рощами ореховых деревьев с листьями, источавшими терпкий запах йода, если растереть их пальцами, лугами с горным сладким ветром, наполнявшим легкие воздухом незабываемых кавказских гор…
Маме тяжело давалась станичная жизнь. На работах в поле она надорвалась и сильные боли мучили ее все дальнейшие годы. Она выросла в семье городского служащего и тяжелый сельский труд оказался ей не по плечу. Станичный говор был ей совершенно непонятен:
– Отец, что за язык здесь? «Шо цэ такэ», да «шо цэ такэ?» – удивлялась мама казачьему наречию.
– Лида, здесь тебе не город, – успокаивал он.
– Так давай туда переедем! – просила она.
– У меня работа военная, переведут – поедем!
Отец предпочитал не спорить.
Однажды к вечеру, в конце теплого августа, к нашему дому в станице, сигналя, подъехал грузовик, и родители начали укладывать в него вещи и грузить мебель. Погрузка продолжалась долго. Солнце уже начинало закатываться в степную даль, когда, наконец, все было упаковано и перевязано. Меня посадили среди матрасов, мама укутала мои плечи одеялом, и мы, попрощавшись с бабушкой, не одобрявшей наш отъезд, и нахмуренным дедушкой, медленно выехали со двора. Рычащий и гремящий грузовик унес нас в новую жизнь, в которой впоследствии один переезд сменялся другим. К радости матери отца перевели работать на более крупную станцию и к ней-то мы и мчались по пустынному шоссе под первыми мерцающими в прозрачной высоте звездами. Вдоль дороги неумолчно шелестели под ветром высокие тополя, полные вечернего воробьиного гомона. Волнистая степь с зелеными рядами полей убегала назад, в уплывшую за поворот станицу.
Тогда впервые сердце ощутило и восприняло в себя новый опыт – опыт захватывающей дух свободы от того, что было прежней жизнью, и устремленности в неизвестное и тревожное своей новизной нарождающееся будущее. В груди, казалось, все пело от счастья, от предвкушения самых лучших и прекрасных событий, которые ожидали меня за каждым новым поворотом.
Мы поселились неподалеку от железнодорожного депо, рядом с городком военных летчиков, где жили их семьи. Мне пришлось узнать иных детей, не выросших в станице, а живших замкнутой, отгороженной от остальных людей жизнью. Но дети везде остаются детьми, и наши игры ничем не отличались от игр сельских детей, только чудо единения с природой незаметно стало отдаляться от моей души. На окраине этого поселка находилось летное училище и располагался военный аэродром, поэтому самолеты с реактивными двигателями первого поколения, с их оглушительным грохотом, стали неотъемлемым фоном тех детских лет.
С немым восторгом, раскрыв рот, мы следили за их воздушными пируэтами, поэтому ничто не препятствовало страстному желанию стать летчиком овладеть моим сердцем. Это желание перешло в тихое мечтание о том, что когда-нибудь я обязательно пролечу над родительским домом на удивительной серебристой птице.
В этом поселке родители записали меня в большую местную библиотеку, и чтение книг продолжилось с еще большим увлечением. Книги открыли мне неповторимый аромат бумаги, краски и клея. Мне нравилось вдыхать запах книги, перед тем как я начинал ее читать. Здесь впервые в мою жизнь вошел Пушкин с его несравненными стихами, сказками и изумительно написанными повестями. На долгие годы поэзия Пушкина определила развитие моей души, научила более тонко видеть красоту в простых пейзажах южной России, а его сказочные поэмы надолго вошли в мою жизнь.
Из книг, прочитанных в этой библиотеке, меня поразили кругосветные путешествия знаменитых мореплавателей, а также исследования нашего соотечественника Пржевальского на просторах Азии. Для меня открылись захватывающие дух дали азиатского материка с его пустынями и величественными горными хребтами. Пустыню я уже видел из окна вагона во время поездки в Ташкент, а горы мне еще предстояло открыть и они пока оставались для меня мечтой, будоражащей воображение. Из книг я узнал о множестве разных стран и континентов и просмотрел безчисленное количество фотографий. Ни Северная, ни Южная Америка не заинтересовали меня, лишь слегка удивила Африка невиданным разнообразием зверей и птиц. А вот Египет с его величественными пирамидами, Средняя Азия с величавым Памиром и, особенно, многоликая Индия, восхитили меня непередаваемым обаянием таинственного Востока. Арабские сказки «Тысячи и одной ночи» покорили меня своим волшебством, но остались непонятными из-за незнания чуждого для меня быта и нравов. Сказки братьев Гримм оказались более близкими и понятными. Замки и дворцы с храбрыми принцами и прекрасными принцессами поселились надолго в моем воображении рядом с их несравненными обитателями. Вместе с отважными рыцарями я совершал удивительные подвиги и освобождал зачарованных принцесс от чар злых волшебников и колдунов. Фантастические повести и романы Беляева, Казанцева и других русских писателей-фантастов зародили в душе живой интерес к выдуманным мирам и их героям.
Тогда же пришла пора чтения русских народных сказок в сборнике А.Н. Афанасьева, открывших для меня новый мир говорящей природы, волшебных превращений и чудесных подвигов и приключений, мир прекрасных человеческих характеров, подвергшихся сказочным испытаниям. Прежде, перед сном, сестра увлеченно рассказывала мне различные сказки, а там, где не помнила их окончания, придумывала сама. Она умела удивительно точно передавать интонации и речь персонажей и могла живым языком увлекательно излагать сюжеты. Эти русские сказки, пересказанные сестрой, а затем прочитанные в замечательных и полных мудрого опыта книгах, не казались мне выдуманными. Почему-то стойко верилось, что все, о чем они сообщали, вполне возможно в этой самой жизни, где нам посчастливилось жить.
Незаметно подошел я и к чтению художественной классики, сначала русской, а затем и зарубежной, испытав буквально шок от фантастики Уэллса, а Том Сойер Марка Твена стал моим лучшим другом. Судьбы, красочно описанные в этих повестях и романах, а также в рассказах Тургенева, а затем и Куприна, увлекали своей страстностью, поисками и разочарованиями. Пытаясь говорить о добром, они вынуждены были описывать также и зло, которое начинало преследовать мое воображение. Со мной произошла та же ошибка, как и со многими моими сверстниками: упиваться лживыми историями, разжигающими воображение, проливать слезы над выдуманной жизнью литературных персонажей и в то же самое время не оплакивать собственную жизнь, которая бездумно растрачивалась на пустые мечтания. Все это, в свою очередь, закладывало основы для порчи души и развития в ней дурных наклонностей.
Внутреннее мое состояние отвращало от меня чистый и святой взор Твой, Господи. Но кто помог бы мне избавиться от греховного невежества моего, так как сил моих было недостаточно познать тьму мою? Только луч света Твоего был страшен моей тьме, ибо она могла оставаться тьмой лишь до тех пор, пока не вошел в душу мою свет Твоей любви. Не хочу и не могу лгать, Господи, ни Тебе, ни самому себе, ибо Ты зришь тайное мое и ведаешь все сокрытое. Настави меня и научи не судиться с Тобою, но открыться в Тебе во всей моей неприглядности, дабы Ты очистил меня от всякой скверны и порока.
ДУРНЫЕ НАКЛОННОСТИ
Ты видишь, Боже, что детство не заканчивается в нас, оно просто переходит на другой уровень сознательности – в начало понимания и познания земного мира. Хотя для нас проходят дни, месяцы и годы, для Тебя, Господи, не проходит даже этот миг, ибо Ты содержишь в Себе все времена. Ты даже Свою вечность превращаешь в «сейчас», так как Ты – «всегда один и тот же». Горько учиться «любви» к миру, не научась любви к Богу, учиться познавать временное и не учиться постигать вечное, учиться дружить с этим преходящим миром, не учась обретению отношений с Тем, Кто был, есть и пребудет вечно. Горько слыть у учителей и родителей успевающим в том, что отнимает у души жизнь вечную и скрывает от сердца непреходящую любовь Христову.
Наследуя при рождении определенные качества души, ума и тела и начиная совершать греховные поступки, мы приходим к бурлящей желаниями юности, где, собственно, у нас не остается выбора. Мы непроизвольно склоняемся к тем условиям существования, которые отвечают нашему сложившемуся устроению. Занавес детства постепенно распахивался, открывая взгляду новых действующих лиц подростковой поры взросления, ломающей напрочь всякие преграды для дурных наклонностей.
Высокий тополь-осокорь шумом листьев, похожих с изнанки на детские ладошки, приветствовал наш приезд. Улица, на которой мы поселились, и дом, в котором начали жить, мне очень понравились. Дом мне полюбился тем, что в пристройке отец сделал столярную мастерскую, где я мог вдоволь играть с инструментами отца, за исключением рубанка, который он приказал не трогать, чтобы я его не затупил. Заодно мне было поручено выпрямлять старые ржавые гвозди на маленькой наковальне. Я увлеченно трудился над этим поручением, стараясь заслужить похвалу отца, которой я очень дорожил. Со временем он научил меня работать рубанком, и когда под руками завилась первая стружка, это привело меня в совершенный восторг. В те времена дети занимались выпиливанием лобзиком узорных полочек и подставок из фанеры; не избежал этого увлечения и я. Запах сосновых досок и стружек мне запомнился навсегда чистым смолистым ароматом. Еще помню, что я сильно сроднился с огромным тополем возле нашего дома. Мне нравилось взбираться под самую макушку дерева, где, сидя на качающихся под ветром ветвях, я громко распевал строки из песен, услышанных по радио: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет».
Учеба шла своим чередом, но интерес к занятиям начал ослабевать. Душа начала пленяться тем, что предлагал ей мир. Кино увлекло мою душу невероятным свойством потрясать ее до самых глубин отождествлением с вымышленной жизнью, сыгранной актерами. Тогда в кинотеатрах, в основном, шли фильмы о революции, гражданской или Отечественной войне. Но первый фильм, который я смотрел с родителями, оказался индийским, он с триумфом прошел по всей стране и назывался «Бродяга». Из зарубежных фильмов помню еще «Тарзана». Из наших фильмов мне запомнился фильм по сказкам Бажова «Каменный цветок», а также много раз с восторгом просмотренный «Чапаев».
Мальчикам из нашего класса нравилось мое умение рисовать, и вскоре я стал «профессиональным» рисовальщиком – изображал различные военные сцены из увиденных фильмов. На такие рисунки был большой спрос, и все эти военные эпизоды увлеченно разглядывали и комментировали заказчики и зрители.
Иногда, вполголоса, чтобы не слышали взрослые, во втором – третьем классах, мы пытались разобраться в трудных вопросах.
– Кто знает, откуда дети берутся? – задавал кто-нибудь трудный вопрос. Все затаивали дыхание.
– Говорят, что нас где-то находят!
– Вот, еще! Ерунда какая! – вступал в спор кто-нибудь постарше. – Я слышал, мы из женщин получаемся…
– Да из каких женщин? – возмущались остальные. – Мы сами по себе как-то появились.
Но не эти загадки волновали нас в ту пору. Душу неосознанно тянуло к добру, и эта тяга временами проявляла себя неожиданным образом. Находясь под большим впечатлением от одного детского фильма, я увлек местных ребят объединиться в команду, которая под прикрытием темноты делала бы добрые дела одиноким бабушкам и дедушкам на нашей улице, чьи близкие погибли на войне. Мы рьяно взялись за добрые дела, нас увлекло тайное совершение добра и удивление взрослых, получивших неожиданную помощь. Мы расчищали заросшие дорожки возле бедных домов, складывали разбросанные кирпичи, доски, убирали строительный мусор. Но потом это увлечение сошло на нет, побежденное сильной страстью к футболу.
Близкие и теплые отношения с ребятами этой тихой улицы перешли в долгую дружбу и сохранились даже после того, как наша семья переехала снова, поближе к железнодорожному вокзалу. Меня перевели в большую четырехэтажную школу в центре городка, где находилась небольшая спортивная площадка. Там моим идеалом сразу и надолго стал футбол. Эта игра настолько увлекла меня, что я готов был играть в нее с утра до вечера и, если оставалось время, играл с мячом еще у себя дома. Даже в школе кумиром всех школьных перемен был футбол. Как только звенел звонок, мы опрометью бросались вниз по лестнице, чтобы поиграть в мяч.
В наши футбольные битвы часто ввязывался переросток, худой, долговязый и нескладный, которого мы звали – «эй, дядя, достань воробышка!» Острым локтем он всегда больно толкал в бок, и этим, как ни странно, запомнился. Другого звали «костыль» – вместо мяча он больно бил по ногам. «„Костыль“ пришел, берегись ребята!» – предупреждали мы друг друга. Наибольшим уважением пользовался игрок, умевший запутывать других финтами в подражание знаменитому Пеле. Некоторым финтам обучился и я, чем немало раздражал нападающих, которые бурчали, следя за мячом, мелькавшим в ногах: «Финти, финти, дофинтишься у меня!»
Мою страсть к футболу смогло победить лишь одно увлечение – велосипед. Это был трофейный немецкий «взрослый» велосипед – необыкновенно легкий и прочный. Так как он был слишком большим для меня, мне пришлось изощриться, чтобы научиться кататься на нем, продевая ногу в раму и изгибаясь всем телом, чтобы достать педали. Этот велосипед стал моим самым большим другом на все время детства до начала юности.
Празднование Нового года в школе надолго запомнилось особым чувством душевной чистоты зимнего вечера с медленно кружащимся снегопадом и особым праздничным ощущением, непохожим на другие праздники. Изготовление и раскрашивание новогодних масок было веселым приготовлением к праздничному школьному вечеру. Мы сами вырезали из бумаги снежинки, звездочки, гирлянды и развешивали все эти украшения в школьном зале. А на центральной площади, рядом со школой, уже возвышалась городская елка, сиявшая множеством разноцветных лампочек. Из репродукторов звучала красивая мелодия: «А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет…» Светлое мерцание падающего снега, елка в праздничном убранстве, необыкновенно чистое состояние души говорили об иной, сокровенной благодати Рождества Христова, но, к сожалению, я тогда забыл эти слова, увлеченный блестящей мишурой искусственных, придуманных людьми торжеств.
Процесс учебы становился для меня все менее интересным, переходя в нудную обязанность. Гораздо интереснее было встречаться в школе с друзьями и проказничать на уроках. Часто мои шутки, сами собой слетавшие с языка, заставляли хохотать не только весь класс, но и самих учителей, что обычно заканчивалось выдворением меня за дверь.
Из школьных лет пятых – шестых классов запомнились двое моих неразлучных друзей – Алексей и Юра. Национальности для нас не существовало. Лишь повзрослев, я понял, что один из них был грек, а другой – поляк, наверное, из семьи ссыльных. В это время гремела популярная песня «Бэсамэмучо», и это прозвище, данное мне Алешей, надолго прилипло к моему имени. Алексей нравился мне живостью характера. Тогда итальянские песни входили в моду, и он задорно горланил на школьных переменах: «Марина, Марина, Марина!» Еще этот непоседа хорошо изображал военную трубу в известной песне тех лет «Солдаты, в путь…»
Юрий держался скромнее и серьезнее. Он удивлял меня умением играть на семиструнной гитаре и петь «В глубоких теснинах Дарьяла». Кроме того, он любил книгу «Туманность Андромеды», как и я, и этим сильно меня привлекал. Оба друга являлись преданными почитателями моих многочисленных рисунков на тему военных сражений.
Запуски первых спутников, а затем полет Гагарина потрясли наше воображение. Увидеть спутник в ночном небе и показать его другим считалось невероятной удачей. Иной раз, после уроков, мы углублялись в дискуссии об устройстве Вселенной.
– Вы знаете, что находится в космосе? Кто скажет? – начинал, обычно, Юра.
– Планеты, звезды и галактики. – перечислял я.
– Правильно. А космос в чем находится?
В этих словах уже звучало некоторое ехидство.
– В вакууме. – припоминал я.
– А что такое вакуум?
– Пустота.
– Так. А пустота в чем?
– Как в чем? – вступал Алеша. – Пустота – это ничего. Значит, ни в чем!
– А как же это держится ни в чем? – торжествовал Юра.
– Падает, наверное, куда-то! – заключал Алексей.
– А мне кажется, что вакуум тоже в чем-то находится… – высказывал я предположение. И мы замолкали, потрясенные тайнами мироздания.
– Да хватит вам, заладили, космос – это космос. Айда в мяч играть! – задорно потряхивал Алексей большим чубом, пиная принесенный мяч.
Родители, заметив мое чрезмерное увлечение играми, стали более строго относиться к школьным занятиям, поэтому приходилось подавлять свое нерасположение к учебе и учиться ради хороших отметок. Только на уроках литературы душа оживала и словно пробуждалась. В это время произошло мое знакомство с рассказами Чехова, который стал мне очень близок тонким проникновением в характеры людей и еще потому, что его книги были у нас в домашней библиотеке. Глубокое воздействие пьес Чехова открылось мне гораздо позже. Гоголь был еще закрыт для меня, возможно, из-за того, что приходилось заучивать отрывки из его повестей. Достоевский был изъят полностью из всех школьных программ. О нем я прочел в энциклопедии, что это «мракобес» и «ярый реакционер».
На уроках литературы моего сердца коснулась трогательная нежность и мелодичность стихов Тютчева и Фета, которые надолго остались в моей памяти. Учительница литературы предложила всем попробовать написать стихотворение для прочтения в классе. Прибежав домой, я, ради вдохновения, уселся перед окном, за которым мелкий весенний дождик затянул мокрой сеткой мокнущие кусты цветущей сирени. Даже мама удивилась моему долгому сидению у окна и встревожилась:
– Что-то случилось в школе, сынок?
– Нет, мама, это я пишу стихотворение!
– Ах, вот как! – засмеялась она. – Вот и в нашей семье родился поэт!
Множество ощущений и мыслей нахлынули на меня, но сердце еще не владело словами, они не повиновались ему и я написал совсем не то, что чувствовал.
– Хорошее у тебя стихотворение! – похвалила учительница. – Но почему оно такое печальное?
В ответ я только пожал плечами. Как-то я услышал, что сестра вполголоса разговаривает с мамой о запрещенном поэте, спрашивая, можно ли почитать томик его стихотворений, который подарили ей подруги? Мама разрешила, а я подбежал к сестре и начал умолять ее дать и мне прочесть стихи, о которых она спрашивала у мамы. Этим поэтом оказался Есенин. Он увлек меня настолько, что вся моя юность прошла в подражании его творчеству, хотя впоследствии меня потрясли замечательные стихи Блока, а затем Заболоцкого. Но милее стихотворений Есенина о природе для меня не было ничего, за исключением, конечно, поэзии Пушкина и Лермонтова. Есенинская образность стиха не только заворожила меня, но и закрыла для сердца его неглубокое знание жизни и трагичность судьбы, о чем я узнал гораздо позже.
С малых лет мой слух всюду сопровождали песни: пела мама, пела и моя сестра, но больше всего песен неслось из громкоговорителей, установленных в те годы на столбах главных улиц и площадей. Передачи главной радиостанции из Москвы транслировались с 6 часов утра до 18 часов вечера, и песни тех лет буквально вдалбливались в наше сознание и надолго отпечатались в нем. Некоторые мелодии были удивительно красивы, но это открылось мне значительно позже, как и трогательные стихи Фатьянова. Школьные обязанности и общественные дела не увлекали меня, и это в преподавательской среде называлось «неактивный ребенок», хотя преподавательница неоднократно пыталась назначить меня старостой класса.
Моего отца, после того как я нечаянно разбил стекло в классном шкафу, она стала часто вызывать в школу, чему очень удивлялась мама, хотя я больше не бил стекол и не собирался этого делать. Заподозрив неладное, ей удалось отвадить отца от хождения на школьные беседы:
– Хватит тебе в школе водить шуры-муры, достаточно и работы, где проводниц полно, только позови…
– Тогда ты ходи в школу, когда вызовут, – добродушно посмеивался он.
– Я ни за что не пойду выслушивать всяких вертихвосток! – отрезала мама. Вот таким странным образом контроль родителей за моей учебой закончился.
Школьные друзья стали главными наставниками в моей жизни. Наша активность была направлена, в основном, на простые радости детства: для некоторых сверстников рыбалка стала пожизненным увлечением, мне нравилось бродить вдоль тихих степных речушек (называемых на Дону «ериками»), когда солнечным летним утром по воде расходятся круги от выпрыгнувшей с плеском рыбы, любоваться полетом реющих над сияющей поверхностью воды огромных синих стрекоз, слышать шорохи качающегося под ветром цветущего камыша, роняющего светлый пух, наслаждаться прохладой реки и купанием в ее прозрачных глубинах. Рыба у меня ловилась плохо, возможно, не хватало ловкости и чутья настоящего рыбака, которого всецело поглощает сам процесс ловли. Еще мы ловили раков по глубоким тинистым норам в берегах мелких речушек, которые во множестве оставались от весеннего разлива Дона, так как в то время еще не строили большие водохранилища.
За этот период наша семья несколько раз выезжала в Москву и Петербург. От Москвы осталось в памяти удивление от грандиозности Кремля, страх перед огромными магазинами и усталость от безчисленных толп людей. Петербург мне понравился строгой красотой и совершенно другими людьми, непохожими на шумных москвичей. Из поездок родители привозили пластинки и мы сообща слушали их, проигрывая на патефоне.








