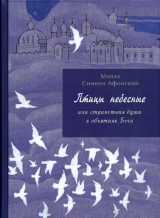
Текст книги "Птицы небесные. 1-2 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 65 страниц)
ТРУДНАЯ ОСЕНЬ
Пока мы пребываем вдалеке от Бога, мы тем не менее все же находимся к Нему ближе, чем к самим себе. Ибо дух человеческий без Бога не может постичь глубины свои и остается в неведении о самом себе, в то же самое время понимая, что Бог есть, и испытывая скорби от того, что не знает, где Его искать. Поэтому возможность познать Бога и самих себя открывается лишь тем душам, которые утвердились в свете Христовом и просветились им.
Господь заповедал нам возделывать в поте лица землю нашего сердца, тяжкими трудами искоренять на ней волчцы и тернии дурных помышлений, сеять в нее слово Христово и получать плод благодати, обильный и приносящий сторицей небесные блага нашей душе. Поистине, Господи, в поте лица своего…
Мокрый снег сыпался с низких тяжелых облаков, с колючих пихтовых лап, с веток кустов, пропитывая холодной водой наши штормовки, которые тут же начали обледеневать. На знакомой буковой поляне снега оказалось уже по щиколотку, и он продолжал валить сверху большими хлопьями. Холод становился все сильнее. Смеркалось. Мы с Адрианом дрожали и начинали замерзать.
– Адриан, разводи костер, а я буду ставить палатку! Если не сможем развести огонь, мы пропали! – сведенными от холода губами сказал я.
Мой верный помощник молча начал обламывать с пихт сухие веточки и под провисшей от снега пленкой взялся разводить костер. Времени и сил смотреть на то, разведет он костер или нет, у меня уже не было. Я замерзал, пальцы теряли последнюю чувствительность.
Полотнище палатки смерзлось, и веревки сделались ледяными и твердыми. С трудом я развернул палатку, но, когда принялся ее устанавливать, руки перестали слушаться. Зубами я распутывал смерзшиеся веревки и непослушными, окостеневшими пальцами завязывал их за камни, приваливая другими камнями, припорошенными снегом. Когда я установил палатку, силы оставили меня.
«Если Адриан не развел огонь, мне конец…» – пронеслось в голове. Я оглянулся: из-под тента вился дымок, и показались языки пламени.
– Адриан, какой ты молодец! – воскликнул я, обнимая своего друга. – Слава Богу, теперь мы останемся живы!
Мы просушились у жаркого огня и отогрелись, заодно поджаривая на костре кусочки теста, наколотые на тонкие ветки. Выпив горячего чая, мы повеселели, и даже мороз уже не пугал нас. Согрев у огня спальники, мы забрались в наш матерчатый домик и, прижавшись друг к другу спинами, заснули.
Проснулся я оттого, что палаточный тент навалился на меня, не давая дышать. Лишь спустя некоторое время, спросонок, я догадался: нас заваливает снегом. Руками я принялся сталкивать изнутри снег с палатки. Проснулся мой сосед:
– Батюшка, что случилось?
– Снег, Адриан, снег давит на палатку! Сбивай его…
В течение всей ночи до утра нам приходилось неоднократно сбивать снег. К рассвету мы оказались разбитыми и усталыми от нескончаемой борьбы со снегопадом.
И все же яркое солнце словно влило бодрость в наши сердца! Утро предстало сказочно красивым. Лес от свежевыпавшего снега переливался радужным сиянием. Небо очистилось и наполнилось трепетным светом. На вершине Чедыма развевались белые стяги снежных шлейфов, раздуваемые сильным ветром. На целомудренной, нетронутой белизне поляны под тентом вскоре запылал костер, и к нам пришло рабочее настроение. Мы расчистили от снега заготовленные бревна на пол и чердак, чтобы они обсохли, и начали тесать из них доски. Весь день мы согревались горячим чаем у костра.
Наступившая ночь устрашила нас морозным звездным небом. Палатка покрылась наледью. Пришлось с головой укрыться в спальник и согреваться своим дыханием. Но постепенно, за неделю, ясные солнечные дни прогрели долину. Снег таял на глазах, и вскоре лес освободился от него, лишь вершина Чедыма слепила глаза яркой белизной, отражая солнце. За это время нам удалось полностью заготовить доски для церкви и кельи. С водопада мы принесли последний запас продуктов, а я, сильно измучившись, притащил железную печь и трубы. Тяжелым острым углом печи я отбил себе поясницу, что сказалось впоследствии непрекращающимися болями в позвоночнике. Тем не менее радость не покидала сердце: церковь на глазах принимала законченный вид. Распаковав последние пачки пластика, мы начали перекрывать крышу. Когда эта работа закончилась, красота горной церквушки словно преобразила поляну и нас самих.
За этими хлопотами незаметно приблизились первые дни декабря. Вновь начались холодные дожди, постепенно перешедшие в обильный снегопад, Мы не успевали стряхивать снег с палатки, неусыпно следя по ночам за тем, чтобы нас не завалило снегом. Поляна сплошь покрылась снежными сугробами, а снег все валил и валил.
– Адриан, почему мы мучаемся в палатке и проводим безсонные ночи, когда у нас есть церковь с готовой крышей? Давай уложим готовые доски на пол и чердак и поставим там печь! – осенило меня. Замерзший напарник с радостью согласился. Перенеся доски в церковь, мы уложили их, не прибивая, на поперечные брусья и накрыли пленкой. Так же сделали и с настилом чердака. Дверной проем тоже затянули полиэтиленом, а когда установили печь и растопили ее, то блаженство тепла и покоя охватило наши души.
Снег продолжал валить не переставая, и возле церкви его уже было по колено.
– Хочешь не хочешь, Адриан, нужно уходить… – задумчиво глядя сквозь прозрачную пленку на сыплющийся с тихим шорохом снег, проговорил я. – Как только установится погода, будем спускаться!
Но снегопад продлился еще несколько дней, и высота снежного покрова поднялась уже до метра. Вечером мы упаковали рюкзаки, укрыли инструменты под полом и приготовились во что бы то ни стало выйти утром.
Рассвет оказался серым и хмурым, но снег идти перестал. Мы вышли из церкви и сразу провалились в глубокие снежные заносы. Снежный покров разрезали глубокие борозды от ног ланей и косуль, которые тоже уходили вниз, в теплые долины. Спуск к реке оказался трудным, потому что приходилось проваливаться по пояс в снежные ямы. На снегу попадались большие следы от медвежьих лап, их пересекали цепочки волчьих следов. Местами снег и кусты были покрыты брызгами крови – в глубоком снегу серны и косули стали для волков легкой добычей. На одной поляне мы увидели вытоптанный снег. Следы указывали на то, что здесь происходила схватка медведя с небольшой стаей волков.
Озираясь по сторонам, то и дело сбиваясь с едва заметной тропы, занесенной снегом, мы медленно пробирались по сугробам к водопаду. Перед водопадом наши силы были на исходе, но надежда на то, что снега внизу будет меньше, придавала нам бодрости. Чем ближе мы были к скиту, тем больше нами овладевало разочарование. Снег лег всюду сплошным глубоким покровом, забрав у нас последние силы на подходе к Решевей. Сам скит выглядел сказочной избушкой, занесенной сугробами. И все же там было тепло, печь грела на славу, и нас встретили радостные, улыбающиеся лица начальника скита и братии.
В середине декабря в непогоду к нам добрался промокший до нитки курносый паренек с синяками и ссадинами на лице, оказавшийся послушником с Соловков. Обогревшись, он поведал нам свои злоключения. На Соловках ему очень нравилось, но смущало обилие туристов, наезжающих на остров летом, а также разочаровала жизнь бок о бок с мирскими семьями, которые имели жительство в монастыре, и вдобавок присутствие шумной дискотеки. От одного паломника послушник услышал, что на Кавказе есть монахи-отшельники, и устремился в путь. В сухумской церкви кто-то рассказал ему о Псху, и он пешком отправился в горы, разузнав дорогу.
Поднимаясь по тропе вдоль Бзыби, к ночи путешественник добрел до пастушьего балагана, привлеченный запахом дыма. В балагане послушник встретил не пастухов, а бандитов, которые сразу налили ему полный стакан чачи, виноградного самогона. Паренек начал отказываться, ссылаясь на то, что он почти монах и пить ему не позволяет устав. Но, увидев на лицах бандитов озлобление по поводу отказа, он, крепясь духом, решил выпить этот стакан. Ему предложили другой, потом третий. Приметив, что гость уже не владеет собой, злодеи начали издеваться над ним:
– Какой же ты монах, если ты напился? Становись к стенке, теперь мы тебя расстреливать будем!
Они поставили перепуганного мальчишку к стене и стали палить в него из ружей, вколачивая пули в бревна рядом с его головой. Затем принялись избивать послушника прикладами, разбив ему лицо и переносицу. Тут парень пришел в себя и кинулся в ночь, в темноту, не разбирая пути и не обращая внимания на колючки. Он помнит, что куда-то упал, ударился и потерял сознание. Когда рассвело, послушник пришел в себя в каком-то овраге, отыскал тропу и добрался до Псху, где узнал, что на хуторе Решевей живут монахи. Отец Пимен с жалостью посмотрел на перебитый нос паренька:
– Ну ладно, оставайся, живи с нами! – послушник явно ему приглянулся.
Новоприбывший оказался неплохим певчим, и скитоначаль-ник поставил его регентом на клирос. В пении, чтении и молитвах день за днем на канву нашей жизни нанизывались серебряным бисером зимние предрождественские будни. Снегопады стали постоянным, фантастически красивым зрелищем, отрезающим наш скит от всего мира и приближающим наши сердца к миру душевной красоты и покоя.
Снег густо и звучно падал такими большими хлопьями, что даже в доме был слышен снегопад, словно ребенок хлопал в ладошки. За окнами росли белые пушистые сугробы. В стеклах разливалась густая синева зимнего вечера. В доме горели свечи и плавал аромат ладана. Несмотря на скудную обстановку, в скиту было очень уютно и трогательно. Неизгладимое впечатление оставляла каждая служба, после которой хотелось снова молиться. Все кто мог взялись за четки, которые поначалу носили на шее как украшение. А теперь эти четки словно сроднились с нами, как бы соединившись не только с рукой, но и с сердцем каждого из нас.
В один из декабрьских дней, когда погода установилась, отец Пимен вспомнил, что под снегом остались напиленные им дрова, которые снегопад помешал перенести под навес в дровяной склад. Вооружившись лопатами, погружаясь по колено в снег, мы все отправились искать заваленные снегом поленья. Вырыли один шурф глубиной по грудь, но дров там не оказалось.
– Копаем рядом, – не унывал архимандрит. – Я где-то здесь пилил дерево!
Промахнулись снова и наткнулись на смерзшиеся поленья лишь выкопав третий шурф. Меня опустили в снежный колодец за ноги, но оказалось, что забытые нами дрова уходят под снегом в разных направлениях. Пришлось копать узкие тоннели вбок и вырубать из мерзлого снега поленья, словно уголь в шахте. Это было нелегко, и братия начала недовольно бурчать, высказывая реплики по поводу забывчивости отца Пимена. Архимандрит, как начальник, пытался строгостью подавить недовольство послушников, как он привык это делать в монастыре. Приходилось шутками и веселыми разговорами сглаживать обстановку, помогая моему другу навести порядок.
Создалась неприятная ситуация, выразившая себя в молчаливом протесте против начальника скита, кроме соловецкого послушника, примкнувшего к архимандриту, и меня, как его близкого друга. Поговорив с каждым из зимующих в скиту парней, доказывая вред немирного настроения и пользу послушания и дружеских отношений, постепенно удалось вернуть у всех расположение к скитоначальнику. Отец Пимен мне ничего не сказал, но только бровь его стала хмуриться, когда он видел меня. Вместе с пришедшим послушником они подолгу уединялись и вели задушевные беседы. Постепенно это происшествие изгладилось у всех из памяти и наши отношения снова стали дружескими и открытыми, потому что сердце у архимандрита было доброе и безхитростное. Как начальник скита он был на своем месте и достойно представлял наше братство. Однако и ему пришла пора задуматься о том, чтобы пересмотреть заново свою жизнь.
Я по-прежнему ночевал с котами на чердаке, и, как ни странно, эти ночевки не доставляли мне ни особых затруднений, ни простуд. Отрадно было молиться в тишине, и эта молитва согревала сердце тихой радостью, хотя тянуло на кухню посидеть в тепле и поболтать с ребятами, чей смех и разговоры долетали до меня снизу, или побеседовать с отцом Пименом, который снова начал принимать участие в дружеских беседах за чашкой горячего чая. Ночные службы все больше становились нашей жизнью, и ко всем пришло желание ввести в службу Иисусову молитву.
В это время Василий Николаевич отправился проверить состояние пасеки. Заехав мимоходом на лошади в скит, он передал письмо из Сухуми от матушки Ольги. В нем батюшка, в ответ на наши вопросы, благословил нам читать кафизмы на утрени по четкам. На каждую кафизму определили по три четки, и по очереди, стоя, каждый из братии читал вслух одну четку Иисусовой молитвы. Остальные внимали и молча молились. Часто стало происходить так, что сердце, переполненное радостью от прошедшей службы, не могло остановить зарождающуюся в нем Иисусову молитву. Хотелось молиться еще и еще, пока я не засыпал на чердаке под мурлыканье пригревшихся котов.
Приближалось Рождество, и благодать этого святого праздника чувствовалась все больше и больше. Мне очень нравился ирмос «Христос раждается, славите…». Он так соответствовал незабываемым ночным службам, с непрекращающимся шорохом сыплющегося снега или с морозным скрипом шагов за окном, когда кто-нибудь выходил за очередной охапкой дров, что захватывало дух от радости и какого-то необыкновенного праздничного чувства. Даже ночные морозные звезды сияли в окне по особому, напоенные удивительной чистотой и радостью приближающегося Рождества.
Когда углубляется в себя, кажется, что может быть ближе, чем я сам. И все же невозможно самому постичь, кто же это, говорящий – «я сам». Тщетны попытки познать себя при слабом свете души, который в действительности есть тьма без света Христова, озаряющего всю душу светом мудрости. Твое неисповедимое человеколюбие, Господи, приводит душу к ее первому открытию, что «я сам» – это падшее греховное существо, которое без Твоей помощи не может даже подняться с колен мысленного рабства. И лишь преображенное Твоею благодатью, оно приходит к следующему открытию, постигая в самом себе: «Поистине, я есмь то, что я есмь, по дару Твоему, Боже мой…»
Как если бы евангельская женщина из притчи, потерявшая драхму, в своих поисках находя иные вещи, говорила бы: «Не это, не это!», так и ты, душа моя, ищи Господа и отвергай до последних пределов все вещественное, говоря: «Не это, не это, Боже мой!» Несомненно, такая душа найдет Тебя в глубине своей и возрадуется радостью великою, которую ничто и никто никогда не отнимет у нее.
РОЖДЕСТВО
Сладко искать Тебя, Господи, чтобы ожило в Тебе сердце мое и возблагодарило, не уставая в благодарениях, и говоря, что, сколько бы трудов и скорбей ни понесло оно ради Тебя, все это ничто по сравнению с полнотой благодати Твоей, Боже! Не может быть счастьем это тело, ибо болеет и разрушается. Не может быть счастьем мысль, ибо улетучивается, словно ветер. Не может быть счастьем и душа, потому что переменчива и непостоянна, словно времена года. Но сердце, вошедшее в смирении в несказанный покой блаженства Твоего, Господи, – вот истинное счастье, неизменное и не оставляющее во веки веков.
Ум, разрывая узы суеты, еще на земле ощущает святое веяние Небес. И, как некий сладостный намек на небесное блаженство, нисходят в наши сердца православные праздники, когда мы встречаем их в тихости душевной. Пришло первое в жизни несуетное, благодатное Рождество… С души, словно слой за слоем, отваливались заботы и безчисленные попечения, от отсутствия которых на душе было непривычно тихо и светло.
В Лавре я любил наши монашеские всенощные в дни больших праздников. Но если для паломников они становились торжеством, заполненным многоголосым пением, многолюдством и великолепными богослужениями со множеством празднично облаченных священников, то для нас, рядовых монахов, эти праздники являлись днями самого большого напряжения. В подготовке праздничных служб участвовали все, кроме престарелых монахов. Начиналась спешная уборка храмов, чистка подсвечников, паникадил, ковров и лихорадочное завершение строек на огромной территории монастыря. В притворах храмов выстраивались безконечные очереди за свечами, просфорами, святой водой. Духовникам доставались нескончаемые исповеди, а у проходной скапливались толпы приехавших родственников и гостей. От всего этого мы, бывало, добирались до кельи, еле волоча ноги.
Здесь же, в горном скиту, было непривычно тихо, спокойно и несуетно. Поэтому душа словно светлела и незаметно очищалась от толчеи помыслов, усталости сердца и ума, от мелькания множества лиц и от безконечных разговоров. В сердце постепенно стало возникать удивительное умирение помыслов и успокоение ума, отчего весь мир вокруг изменился как по волшебству. Каждая летящая снежинка виделась как совершенство Божественного творения, каждый морозный узор в оконном стекле вызывал в душе тихую радость. Зимние закаты очаровывали сердце неиссякаемой в своем разнообразии красотой, каждая молитвенная ночь становилась безконечным благодатным праздником, не возбуждающим душу земным восторгом, а дарующим ей незнакомый ранее душевный мир и успокоение.
Часто на службе из-за этой, пусть небольшой и недолговечной, благодатной успокоенности души всякий стих псалма или канона хотелось читать и перечитывать снова и снова. Поскольку это было невозможно, то после службы, сидя на чердаке, я брал Евангелие или Псалтирь и, прочитав только один стих, подолгу оставался напоенным тихим и кротким светом его благодатного смысла. То же самое, только в разной степени, происходило и с моими друзьями. Мир, покой и красота Рождества удивительным образом гармонично совпали с внешне неприметным, но глубоко внутренним душевным изменением – настоящим рождением наших душ, которые обнаружили себя пребывающими в Боге. Это происходило незаметно для нас самих, но проявлялось заметными изменениями в наших отношениях.
Не помню, чтобы с родственниками у меня были такие открытые и теплые взаимоотношения, какие сложились в нашем небольшом дружеском кругу, включая скитоначальника, который как-то удивительно доброжелательно, словно это произошло само собой, оставил командный тон и снова стал близким и родным человеком. В наших душах возникло ощущение родства не по крови, как в миру, а по невыразимой духовной сути – родства еще слабого и не вполне определившегося, но это было истинное родство душ во Христе. То, что я прежде, еще живя в миру, ощущал как искреннюю дружбу, честную и правдивую, теперь эта дружба, как бы наполненная Христовой благодатью, сблизила нас до родственных отношений в духе Евангелия. Мы все сплотились вокруг Христа, и незаметно Господь стал нашим духовным центром. Он как бы соединил нас благодатью, словно незримыми узами.
Подобные изменения в людях я заметил еще в монастыре, когда все, кто приходил к батюшке на исповедь и на совместное монашеское правило, образовывали как бы некий круг людей, единых по духу. Единых не по характеру, конечно, а именно по духу. Иногда, стоя в числе других монахов, собравшихся в очереди на исповедь к старцу, я, неприметно для окружающих, любовался их лицами. У всех имелась какая-то особенность и какая-то отличительная черта: близость к старцу и искренняя любовь к нему делали этих людей удивительно красивыми духовно. Даже издали можно было сразу увидеть духовное чадо отца Кирилла.
В скиту батюшки не было рядом с нами, но в любых ситуациях каждый из нас ссылался на услышанное от него наставление, что не разрушало наш союз, а только обогащало и сближало нас всех. Когда в душах возникает такая духовная родственная связь, общение близких людей перестает быть тягостным и вынужденным. Можно свободно говорить, и это общение не переходит в раздражение или празднословие. И такое сближение наших сердец происходило в преддверии Рождества, и именно это первое Рождество в скиту дало первый опыт нового и пока еще не вполне окрепшего начала иной жизни – не в суете, не в беготне, а в тихом взаимном согласии и единодушии, наполненных Христом и скрепленных Его благодатью и причащениями на литургии.
Сам праздник Рождества прошел как на одном дыхании. Возможно потому, что он начался в душе еще раньше, как трепетное рождение новых ощущений, неизвестных ей до этих пор. В книгах и житиях приходилось читать об этом, где меньше, где больше. Но книжный опыт не идет ни в какое сравнение с тем непредставимым и тем не менее реальным переживанием совершающегося. Пришло, словно исподволь, осознание постепенного рождения новых духовных ощущений в душе, изумленной этой неожиданной встречей с иной, благодатной жизнью. В те зимние месяцы время словно исчезло. Теперь та далекая зима вспоминается как единый нераздельный промежуток времени, наполненный тихой и кроткой радостью рождения в душе небесной благодати, не исчезающей мгновенно, как это обычно происходило раньше.
В этом ровном течении нашей нелегкой жизни в скиту, хотя все жили бок о бок в одной комнате, в совершенной тесноте, ведь некоторые спали на мешках с мукой или крупой, архимандрит – на досках, уложенных на пеньки, я – на чердаке, возле дымовой трубы, память не припоминает ни раздражений, ни обид, ни разногласий, после единственного в самом начале зимы искушения с дровами. Если и случались какие-либо промахи или недовольства, то все это быстро разрешалось шуткой или добрым словом кого-либо из братии. Возглас Валеры при любых неудобствах «Ничего, ничего!» как будто стал общим девизом. В этих монотонных зимних буднях отец Пимен, возглавляя нашу молитвенную жизнь, по-иному начал видеть и понимать уединение, которое постепенно преображало его. В том, что в нашем скиту начала складываться настоящая молитвенная семья, основанная на взаимовыручке и послушании, несомненно, есть большая заслуга самого скитоначальника.
Снег мог валить не переставая, поэтому постепенно приходилось расчищать дорожки во дворе. И все же он постепенно завалил весь двор и лес. Даже наш ручей, из которого мы брали воду, оказался погребенным под толстым слоем снега. В километре пониже, за лесом, у тропы пробивался сильный чистый родничок. Особенность его была в том, что вода, набранная из него, никогда не портилась. К этому родничку мне пришлось проложить лыжную тропу с помощью простеньких лыж, подаренных милиционером.
Радостно было проложить в зимнем лесу первую лыжню, вспомнив далекую юность. Спуск представлял собой длинный и достаточно крутой склон, а скорость по мере движения быстро возрастала. Приходилось закладывать виражи между деревьями, что было нелегко, так как у лыж вместо креплений стояли простые кожаные ремешки. Но когда я взвалил на спину двадцатилитровую канистру с водой и попытался подняться с ней по крутому снежному склону, это доставило много мучений. Лыжи соскальзывали с ног, и я, проваливаясь, увязал в снегу по пояс. Первый утомительный поход за водой занял половину дня, пока не пришло в голову обвязывать на подъеме лыжи веревками и заменить крепления. Доставка воды в скит стала происходить гораздо быстрее, хотя и оставалась утомительной. В итоге я получил должность постоянного зимнего водоноса, так как через лес никто не отваживался спускаться на лыжах, а попытки пробиться к роднику по тропе оказались неудачными – слишком далеко он находился. Тем не менее каждая лыжная поездка за водой давала мне возможность уединения и радость помолиться в снежном лесу, словно пронизанном насквозь зимним солнцем. Это послушание всегда становилось для меня маленьким праздником.
Из каждой поездки в Лавру отец Пимен привозил книги с трудами святых отцов, которые нам щедро дарил наш друг отец Анастасий, заведующий издательством Лавры. Почти все, что издавалось тогда, было собрано в нашей скитской библиотеке. Для нее вдоль одной из стен единственной комнаты потребовалось соорудить полки из досок, которые со своего ложа великодушно пожертвовал архимандрит. После этого щедрого жеста с его стороны мы сообща соорудили ему хороший топчан возле теплой стены, для чего взяли доски из перекрытий чердака. Это заставило меня с опаской пробираться по ночам по чердачным балкам к дымовой трубе, рискуя провалиться вниз сквозь непрочный потолок.
За зиму я прочитал все толкования к Евангелию и углубился в Добротолюбие, которое на долгие годы стало моим настольным духовным пособием. «Слова подвижнические» Исаака Сирина я положил у себя в головах на чердаке и никогда не расставался с этой книгой. По ночам я зажигал свечу и весь погружался в удивительные строки преподобного Исаака. Каждая строка этой книги глубоко западала в душу, открывая ей новые горизонты духовной жизни и расставляя правильные ориентиры. Благодаря Исааку Сирину сердце утвердилось в истинности выбранного пути, который день за днем становился моей жизнью и, несомненно, самой лучшей ее частью. Как будто духовная весна незаметно начала расцветать в моей душе. Конечно, настоящая духовная зрелость и духовное плодоношение являются значительным заключающим этапом в молитвенной практике, но весна молитвенной жизни всегда остается в памяти как самая трогательная и волнующая часть этого непростого периода.
Особая благодарность родилась в сердце к святителю Феофану Затворнику: настолько точно и цельно его поучение о молитве и молитвенной практике закрепили во мне правильное понимание этого непростого искусства – Иисусовой молитвы. Молитвенное покаяние должно быть живым действием, а не скучным и монотонным повторением слов священной молитвы. Живое покаяние становится возможным лишь тогда, когда ему сопутствует глубокое внимание и участие в молитве всего сердца. Суровая правда Евангельского пути говорит о том, что всему этому трудному процессу рождения молитвы неизбежно сопутствуют многочисленные скорби. Все разрозненные сведения о молитве стали сами собой складываться в целостное понимание духовной практики. Те положения святых отцов, которые ранее казались противоречивыми, открылись теперь как ясные указания на отдельные стороны и этапы духовной жизни.
И здесь мне снова помогли книги святителя Игнатия (Брянчанинова), особенно его четкий анализ видов прелести, которой я всегда инстинктивно боялся, следуя наставлениям своего старца.
– Во всем и всегда, отец Симон, ищи смирения, и не пропадешь! – бывало, говорил он.
Но на осуществление этого простого наставления духовного отца мне понадобились долгие годы духовной битвы со своим греховным умом, ввергшим меня в ожесточенные брани всех видов и оттенков, сначала со своими страстями, а затем с коварными и искусительными помыслами. С последними, волею Божией, довелось биться в горном одиночестве один на один, постигая их страшную мрачную силу и злобность. Если бы не молитвы отца Кирилла, итог этой борьбы мог стать совершенно иным.
Большую помощь моей душе дало изучение трудов преподобного Кассиана Римлянина, особенно его глав о борьбе со страстями, а также поучений преподобного Нила Сорского. Книги аввы Исаии и преподобных Варсонофия и Иоанна заставили меня опустить голову в глубочайшем стыде за свою молитвенную жизнь и за ничтожество моих духовных усилий. Эти книги, а также творения преподобного Макария Великого, которые тогда казались мне недоступными по высоте изложения, я упаковал в рюкзак, намереваясь серьезно заняться ими в полном уединении в келье на Грибзе.
В полутора километрах от нашего скита жил пожилой охотник, сухой и жилистый, со сметливым лицом, почти всегда заросшим серебристой щетиной. Хозяйством занималась его жена, добрая и приветливая женщина. В работах по огороду и на сенокосе им помогали три сына, самостоятельно живущие на противоположном берегу Бзыби. К ним нужно было переходить по подвесному узкому мостику, висевшему на тросах высоко над бурной рекой. Оступаться на нем не рекомендовалось.
Наш сосед был заядлым курильщиком и выкуривал ежедневно по две пачки дешевых и страшно крепких сигарет. Охота была его страстью. Он лучше чем кто-либо другой на Псху знал все секретные тропы и звериные места, так как когда-то работал проводником в геологической экспедиции. У местных жителей наш сосед пользовался большим уважением, тем более что его сестра была замужем за председателем сельсовета. В моей жизни он принял большое участие, и я сильно с ним сдружился. Звали его Илья Григорьевич.
Однажды, когда мы с Адрианом распиливали во дворе бревна, заготавливая поленья, я почувствовал, что под одеждой по мне что-то ползает. Мой помощник растерянно шарил у себя по затылку:
– Батюшка, у меня вши! – воскликнул он с ужасом.
– Не может быть! – не поверил я.
Адриан с испуганным видом осмотрел мою шею:
– У вас тоже вши!
Эта новость всполошила всех. Начальник скита устроил осмотр одежды у каждого из нас. Больше всего вшей обнаружилось у соловецкого послушника. Он сконфуженно признался, что, вероятно, набрался вшей по пути на Псху, ночуя где придется, так как по нему давно уже ползали эти насекомые. Никто не знал, как вывести вшей. Вши оказались и у самого скитоначальника. Адриан вспомнил, что нужно выварить одежду в кипящей воде. Но в большом баке вода долго нагревалась, и сражение со вшами перешло в затяжную борьбу.
К счастью, к нам заглянул наш сосед, опытный и повидавший всякое человек. Узнав, в чем дело, он сбегал домой и принес нам порошок хлорофоса в стеклянной банке.
– Первое дело против этой гадости – хлорофос! – утверждал Илья Григорьевич. – Советую вам и голову помыть хлорофосом…
На это никто не решился, а все ограничились тем, что выварили рабочую одежду в кипятке с хлорофосом и по очереди помылись возле печи, пользуясь тем же баком для стирки белья.
Постепенно этот старожил и охотник начал интересоваться нашей жизнью и периодически захаживал к нам в гости, давая дельные советы по хозяйству и по жизни в горах. Зашел к соседям с ответным визитом и я, принеся московского печенья и сгущенку. На плите у них шумел большой чайник.
– Хотите чаю?
– Спасибо, не откажусь…
Мне налили большую кружку чая страшной густоты. Как только я отхлебнул глоток, сердце заколотилось в груди, в голове зашумело.
– А ваш чай весь день стоит на плите?
– Конечно, а как же иначе? Мы такой чай всегда пьем! – сообщила хозяйка.
– Хотите еще?
– Нет, спасибо, для меня такой чай сильно крепкий… – еще не придя в себя, ответил я, закашлявшись.
– Ну извините… Вы люди городские, а у нас все попросту…
После этой первой встречи соседи всегда разбавляли для меня чай кипятком.
К весне они стали поговаривать об исповеди, а затем поисповедовались у архимандрита и причастились на нашей литургии. После причащения Илья Григорьевич выбросил в реку все свои сигаретные пачки, совершенно бросил курить и стал нашим лучшим другом на Решевей. Он часто рассказывал о заповедных уголках и тропах в окрестностях нашего хутора, о старых монахах, которых знал лично. Часть монахов из Ново-Афонского монастыря в тридцатых годах прошлого века жила на Решевей, часть – на хуторе Санчар под горой с названием Святая, где русским солдатам в начале века было видение Божией Матери. Несколько общин монахов жило в пещерах на Пшице, куда мы с большим интересом всем братством ходили в последующие годы.








