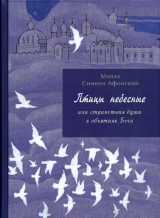
Текст книги "Птицы небесные. 1-2 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 65 страниц)
НЕВЕДОМАЯ ЖИЗНЬ
Пребывая всюду, Ты пребываешь и во мне, Боже. Но, пребывая всюду, более всего Ты избираешь сердце человеческое, ибо только оно одно жаждет любить Тебя и быть любимым Тобою. В то же самое время, находясь всюду и во мне, Ты остаешься единым и целым, без малейшего разделения или изменения. Входя в меня, грешного, Ты не уменьшаешься, а пребывая во мне, Ты можешь находиться всюду, не расширяясь. Никто не может постичь Тебя, лишь сердце человеческое может вместить постижение безчисленных тайн Твоих.
История сурово прошлась по югу России. Неумолимое время, в свою очередь, уничтожило уничтожителей жизни, затеявших революционную бойню и гражданскую войну. Но на смену им шли другие хищники, жаждущие удушить Дон и Кубань коллективизацией. Осенним хмурым ненастьем нагрянул голод.
Семья моего отца из двенадцати человек жила в ту далекую пору на своем хуторе, владея наделом пахотной земли в сто гектаров, из расчета десять гектаров на одного человека. Но весь быт и уклад этой семьи пошел прахом во время большевистского террора. Карательные отряды окружали станицы и хутора, пока они все не вымирали до последнего человека. Всей семье пришлось скрываться, чтобы спастись от уничтожения. На Кубани начался человеческий мор. Распухшие от голода люди лежали, умирая, вдоль железной дороги. Подавать милостыню запрещалось под страхом расстрела.
Отец рассказывал, что детям насыпали в тарелки мел и заливали водой. Эта вода с мелом называлась «молоком». Им чудом удалось выжить, но затем наступила страшная пора коллективизации.
Бабушка нутром учуяла беду и пыталась предостеречь деда:
– Алексей, бачишь, люди кажуть, шо надо в колхоз идти!
– А на кой он мне? Только трактор с Германии купили. Нет, Мария, не пойду!
И семья попала под раскулачивание.
Чтобы не угодить в концлагерь, братьям пришлось бежать из станицы. После долгих скитаний отец был зачислен моряком в Черноморский военный флот. Но во время очередной «чистки» выяснилась его принадлежность к «врагам народа», и угроза репрессий неотвратимо возникла снова. Бог же, видящий насквозь души людей, ведущий их по извилистым жизненным путям, растопил состраданием железное сердце комиссара, допрашивавшего молодого моряка. И комиссар позволил парню бежать, пожалев его молодость и прикрыв побег. Позднее весь Черноморский флот (в начале войны) трагически пошел на дно в течение нескольких дней во время воздушных бомбардировок.
На работу с клеймом «враг народа» устроиться было невозможно. Оставалась лишь тяжелая и изматывающая профессия, на которую мало кто шел, – кочегаром на паровоз, где нужно было за каждую поездку забрасывать в пылающую жарким пламенем топку несколько тонн угля. Благодаря сметливости, умелым рукам и тому, что «враг народа» не боялся грязной работы, перед молодым парнем со временем открылась возможность стать помощником машиниста товарных поездов, а затем и старшим машинистом на пассажирских линиях. Так железная дорога вошла в жизнь нашей семьи и во многом определила постоянные переезды с одной станции на другую.
Старший брат отца, Михаил, высокий, подтянутый, попал на фронт, воевал, был награжден орденами. После войны поступил в университет и, закончив его, стал профессором. Он запомнился мне пышными усами и молодцеватой выправкой. Младший брат Василий вырос любимцем семьи, мягким, скромным юношей. Вместе с родителями он пережил коллективизацию. Школа рабочей молодежи направила его в институт, после которого он работал инженером на вертолетном заводе.
Сестры отца слыли станичными красавицами. Одну из них, Анну, я видел на фотографии: пышноволосая черноглазая казачка с роскошной улыбкой. Во время Отечественной войны семья попала в оккупацию. В селе стояли итальянцы. Один из них, отступая вместе с немцами, вырезал на двери нашего дома сердце, пронзенное стрелой, и умолял Анну уехать с ним в Италию. Она отказалась. Другая сестра оказалась в Грузии. Остальные братья и сестры погибли во время коллективизации.
Из рассказов отца о жизни казачества в начале прошлого века мне запомнилось торжественное благоговение, с которым их семья, жившая на собственном хуторе, ходила на воскресные службы в дальнюю станицу. Принаряживались и одевались в новые одежды все домочадцы и работники, от мала до велика. Но так как путь был не близким, то обувь берегли, шли босиком, а сапоги несли на плечах, увязав их на посохи. На неделе вставали рано, в три-четыре часа утра, зимой и летом. Читали утренние молитвы, а затем расходились к лошадям, овцам, быкам, доили коров и выгоняли скотину к пастуху, который шел, хлопая длинным бичом и собирая стадо звуком рожка.
С малых лет дети помогали старшим в работах в поле и дома. Дедушка во время весенней вспашки брал с собой большую икону Спасителя и ставил ее в начале борозды, на возвышении. Отец мой, тогда еще маленький мальчик, ведя быков, тащивших тяжелый плуг, которым дед вспахивал борозду, часто оглядывался на икону, недоумевая, что означает благословляющая рука Спасителя. Наконец, мальчик решился спросить отца:
– Папа, а почему Господь на иконе так пальчики держит?
Он, добродушно усмехнувшись, ответил:
– А это, сынок, означает, что Бог всегда смотрит, как ты работаешь, а пальчиками показывает: хорошо, мол, трудись, Я все вижу!
Вся большая семья, вместе с работниками, обедала за длинным деревянным столом, который бабушка после еды окатывала кипятком и добела скоблила ножом. Если кто из детей капризничал или лез ложкой в чугунок с кашей прежде старших, получал от деда деревянной ложкой по лбу.
В жизни казачества той далекой поры в станицах и хуторах весь уклад определяли старики. Молодежь, проходя мимо них, всегда кланялась, а взрослые почтительно снимали шапки. Пьянства не было, пьянчуг наказывали розгами. А вот петь любили все. И эту любовь к пению довелось увидеть и мне. Даже колхозы не смогли отбить у казаков любовь к своим песням, в которых просилось на степной простор что-то манящее, родное и привольное.
Когда после потери хутора наша семья жила уже в станице, то в поля и с полей ездили в грузовиках, из которых всегда неслась веселая мелодия. А когда начинало закатываться солнце, то эти мелодии, казалось, перетекали с одного края станицы на другой. Помню, как догорающий вечер раскидывал над степью необъятный звездный купол и представлялось, что поет весь степной край песню несломленной свободы, песню чистой казачьей души. Думалось, что открывшийся мне мир добра и счастья навсегда останется со мной, как и то незабываемое любимое детство, которое стало частью моей души и вошло в плоть и кровь.
Наш дом одной стороной выходил на луг, называемый «выгон», где паслись коровы и лошади. Трава там росла низкая, от частого выпаса словно подстриженная. В период майских гроз как будто все весенние радуги спешили вспыхнуть над лугом, чтобы дать место покрасоваться и другим радугам. В луговых низинах стояла теплая вода, отражая высокие белые облака, по которым мы пробегали босиком, разбрызгивая сверкающие небеса. Но то, что пребывало внутри, было больше и важнее того, что находилось вне меня, ибо оно являлось главным, тем, ради чего существовало все остальное и даже я сам. Оно определяло все вокруг, то, что оставалось внешним и не имело этой жизни, которая жила во мне в великом молчании и покое, и к которой так трудно оказалось вернуться став взрослым.
Находясь постоянно среди сверстников, меня не покидало удивительное ощущение, подобное сокровенному пониманию, что нечто во мне безсмертно и будет существовать вечно. Что-то необыкновенное и предельно ясное окружало меня со всех сторон, но более всего пребывало внутри меня и, словно немеркнующий свет, ясно открывалось моему сердцу. Оно являлось мною и было безсмертно. Оно не могло умереть, ибо не ведало смерти. Тогда мне представлялось, что это ощущение, неотъемлемое как воздух, которым мы дышим, свойственно всем людям.
Находясь в этом безсмертном «нечто», похожем на сферу, не имеющую границ, мне было легко и свободно жить, потому что в этом пребывала сама жизнь или, точнее, оно само было жизнью. Это удивительное неведомое ведало жизнью и подсказывало детскому сердцу как нужно жить. Только много лет спустя мне удалось понять, что это состояние детства, неумирающее и вечное, есть переживание постоянного самообнаружения или откровение души, существующей в чистоте народившейся жизни, неразрывно связанное с Богом, сказавшим о детях удивительные и мудрые слова – что их есть Царство Небесное.
Первый умерший, которого мы увидели, не вызвал у нас, детей, чувства страха, а скорее удивление перед странным поведением взрослых, которые словно играли в неприятную игру, в истинность которой не верило детское сердце. Каждый раз после Пасхи сельчане, приготовив куличи, различные печеные изделия и набрав в сумки крашеных яиц, отправлялись со всей этой снедью на кладбище, где поминали своих близких. Так делала и моя мама, с которой я ходил среди могильных крестов, держась за ее руку. В то время она была глубоко верующей, на всю жизнь отказалась от мяса, и я часто видел ее молящейся. Помню огромное количество полевых цветов, сплетенных в венки, которые украшали деревянные кресты, горящие свечи, светлую печаль на лицах людей – и странное чувство овладевало мной, как будто мы находились среди живых, где не было тех, кого принято называть усопшими. Поэтому из той поры в памяти так сильно запечатлелись церковь и кладбища.
Вернувшись домой, я пытался представить себя мертвым: закрывал глаза и переставал на мгновение дышать. То, что мое тело существует, ходит, бегает, совершает разнообразные действия, я понимал, но в то же самое время не чувствовал, что оно имеет вес, чувство тяжести тела отсутствовало полностью. Состояние легкости и спокойного счастья не оставляло меня ни на миг. И даже когда я закрывал глаза, оно не менялось и наполняло всего меня ощущением полноты жизни, не имеющей ни перерывов, ни конца. Как же эта жизнь могла умереть? И почему взрослые так скорбят при виде мертвого тела, если жизнь умершего не прерывалась?
Ощущение того, что я никогда не могу умереть, наполняло сердце тихой радостью и пронизывало все движения моего тела. Это было чувство безграничной доброй свободы, которое трудно было сдерживать. Усидеть дома я не мог, потому что улица и дом для меня были одно и то же. Безпрерывно хотелось прыгать, чтобы достать головой до неба, или хотя бы до белых облаков, бежать, обгоняя не только соседским мальчишек, но даже ветер, и смеяться звонче всех птиц в округе.
– Вот непоседа растет… – улыбаясь, ворчала бабушка.
– Ну когда же ты угомонишься? – удивлялась мама.
А мне казалось, что я веду себя спокойно, что это только взрослые какие-то неуклюжие и замедленные, словно спят на ходу. Во все время детства мне не хотелось есть дома, потому что мои друзья, как и я, постоянно что-то ели по садам и огородам: недозрелые яблоки, с ужасным вяжущим вкусом, зеленые кислые абрикосы, страшно терпкие ягоды терновника, вишневую смолу, текущую из трещин древесной коры, зеленые вишни с белыми косточками, ароматные и душистые цветы акации, даже мел – и все это казалось необыкновенно вкусным, и толк в этой еде понимали только мы.
Домашние обеды, такие привлекательные на вид, есть абсолютно не хотелось. В тарелке супа я видел лишь острова из картофеля, разделенные суповыми проливами, с подводными рифами моркови и вермишели. Мой корабль – столовая ложка, отважно скользил по этим проливам, причаливал к неисследованным картофельным островам и даже тонул в суповом море.
– Отец, посмотри, что он творит в своей тарелке! – не выдерживала мама.
– Сын, если не будешь есть, не станешь сильным и здоровым! – строго внушал мне он.
Сильным и здоровым мне хотелось быть, но играть хотелось еще больше, и все начиналось сначала: огорчения быстро забывались, а детской впечатлительной восторженности казалось не будет конца.
Безсознательно вечность еще присутствует в детстве во всей своей открытости, пока душа, только что вышедшая, словно из Божественной колыбели, из вечности, и несущая ее в себе, не отуманена никакими домыслами и догадками. Именно это ощущение вечной жизни ценно в детстве любого ребенка, оно придает глубокий смысл и полноту этому периоду жизни. Если бы я тогда мог выражать свои переживания, я бы неустанно благодарил Бога за неизреченные радости этого неисчерпаемого мира. Днем и ночью сердце мое было наполнено дивным переживанием таинственного безсмертного бытия, смысл которого и слова для него пришли ко мне гораздо позже: «Если я существую, Господи, тем более существуешь, воистину, Ты – Создатель вечности и Спаситель от всех моих сомнений. И если Ты есть, Боже, то где же быть Тебе, как не во мне, грешном и во прахе лежащем? Ибо не для греха и праха Ты создал меня, а для того, чтобы преобразить меня и жить неразлучно в моем сердце!»
ПЕРВЫЕ ВОСТОРГИ
Ты, Господи, Сущий и Пресущественный, вечно юное и нестареющее Существо, будучи Создателем вечности, не старея, Ты рождаешь вечное, оставаясь вечно юным. Создавая и творя все новое и юное, Ты остаешься вечным, и даже сама вечность – всего лишь одно из безчисленных Твоих проявлений. Жизнь становится непреодолимой стеной для тех, кто пытается проломить эту стену своими усилиями. Но для чистых и кротких своих детей непостижимое Божественное бытие раскрывает любящие отцовские объятия, приглашая их в чудесный и светлый мир незабываемого детства.
Время в те незабвенные годы для детского сердца отсутствовало совершенно. Вернее, в нем не было никакого понятия о времени, потому что определять время по часам я научился уже в школе. Утро наступало просто, как факт, не имеющий никакого отсчета. По крайней мере, в нем не было никакой протяженности во времени. Если бы мне тогда сказали, что будет только утро и больше ничего, это было бы то же самое, как если бы сказали, что будет жизнь. Одного только утра хватало для целой жизни, имеющей начало, но не имеющей конца. Затем это вечное утро сразу же, без промедления, становилось полднем, настолько цельным и прекрасным, что его одного хватило бы на несколько жизней взрослого человека.
Игры сменяли друг друга, так как всегда кто-нибудь придумывал новую игру, и забавы продолжались без всякого отдыха. Больше всего нам нравилось играть в догонялки, увертываясь от ловких и цепких рук догоняющего, но все другие ощущения затмевало лазание по деревьям. Ведь нужно было, проявив всю свою ловкость и умение, вскарабкаться по стволу кряжистого дуба, упирающегося вершиной в небо, а затем спуститься по длинной горизонтальной ветке, растущей высоко над землей, чтобы она, сгибаясь, могла опустить на траву того, кто карабкался по ней.
– Что за наказание растет? – вздыхала мама, зашивая мои порванные штанишки и рубашки. – Рвет все, что ни купишь…
Тогда же, Господи, Ты спас меня от гибели, подтвердив Свою неустанную заботу о всех нас, Твоих детях, чей неусыпный сторож – опасность, о которой я позабыл в своих играх. Как-то раз, сидя на тонких ветках на самой верхушке большого клена, я любовался окрестностями и время от времени сверху насмешливо поглядывал на двух мальчиков, сидевших пониже и не решавшихся вскарабкаться на ту высоту, где сидел я. Неожиданно ветка, на которой я восседал, хрустнув, сломалась, и мое тело стремительно полетело вниз, где угрожающе торчали острые прутья железной ограды. Не успев испугаться, я упал сверху на нижнего мальчика, который сидел на развилке ствола. Падение на него остановило мою гибель, вернее, Твоя милость, Господи, и Твоя нескончаемая любовь. Еще мы делились на две «армии» и с азартом играли в войну до полной победы одной из «армий». А летний полдень все не заканчивался и, может быть, не закончился бы никогда, если бы не голоса мам, доносившихся с каждого двора с призывом прекращать игры и поскорее спешить на обед.
Счастливчиками были те, кого днем не укладывали спать. Послеобеденный «отдых» казался настоящим мучением для детской души, о котором взрослые даже не подозревали. Мучением это представлялось потому, что приходилось лежать в затемненной комнате и ожидать, когда пройдут непонятные «два часа», томительные тем, что играть было нельзя, а лежать без сна становилось очень скучно. Наконец, послеобеденный «сон» заканчивался и объявлялось, что можно погулять вечером. Вечер для нас был нечто иное, представляя собой совершенно изумительную сказочную часть вечного дня. Мы самозабвенно играли в «казаков-разбойников» или в прятки, а так как спрятаться можно было повсюду, благо пахучая лебеда стояла стеной, то отыскать спрятавшегося было нелегко. Или же все дети усаживались на лавочке и с увлечением играли в загадки и ответы на вопросы. Помню удивительную считалочку: «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной – кто ты будешь такой?» Глядя издалека, понимаю, что это наше детство сидело на золотом крыльце – цари, царевичи, короли и королевичи, сапожники и портные, с доверием вступая в сказочно прекрасную и волшебную жизнь… Над тихой улицей вспыхивали первые звезды, с «выгона», позвякивая колокольчиками, возвращалось коровье стадо, проезжала, пыля, по длинной широкой улице единственная машина «Победа», издалека неслись долгие протяжные казачьи песни без единой согласной, и наступала пора завораживающих и таинственных историй, которые нам рассказывали старшие братья и сестры, вызывая в наших сердцах холодок восторга и ужаса.
В окнах домов зажигались огни, стрекотание сверчков становилось сильнее, и сладкий запах фиалок, цветущих в палисадниках, стоял в теплом летнем воздухе. В свои дома, которые еще не знали телевизоров, мы бежали во всю прыть от страха, наслушавшись жутких и захватывающе интересных историй. В освещенной мягким светом слабой лампы комнате нас ожидал горячий ужин и сладкий чай, а также долгие разговоры взрослых о своем житье-бытье, от которых наши глаза начинали слипаться, и родители относили нас в кровать совсем спящих, поцеловав на ночь.
В детстве времена года для меня не существовали и представляли собой череду разнообразных перемен. Ранняя осень была пропитана ароматом собранных яблок и этот запах стоял во всем доме, потому что яблоки хранили в кладовке. Особое восхищение вызывали арбузы и дыни, которыми мы просто объедались. Когда надоедало сидеть за столом с медлительными скучными взрослыми, мы поскорей выбегали на улицу, у всех детей в испачканных соком пальцах были ломти или арбуза, или дыни. Желающий мог попробовать по кусочку лакомства у любого владельца этой изумительной сладости. Райское блаженство светилось в каждой перепачканной и счастливой мордашке. Но оно немного угасало, когда приходилось дома отмывать лицо и руки под строгим надзором мамы и бабушки.
Поздняя осень казалась самой длинной порой с безконечными дождями, низким хмурым небом, рябью воды в остывающих лужах, сидением у окна до темна, с разглядыванием воробьев и ворон, которых наискось через все небо гнал холодный северный ветер, и созерцанием единственной отрады осени – разноцветья ее быстро потухающих красок, оставляющих голыми ветви деревьев, унизанных дождевыми каплями. Осенние вечера пугали непроглядной темнотой и неожиданно возникающей перекличкой дворовых собак.
Зима поражала колючим морозом, от которого быстро стыли пальцы в теплых варежках, удивляла скрипучим снегом и устрашала завыванием степных метелей, но заодно радовала снежными горками, которые мы дружно поливали водой и скатывались с них кубарем, с хохотом валясь друг на друга. Она восхищала длинными сосульками, свисающими с крыш, которые можно было грызть, отламывая по кусочку, чтобы они таяли во рту, оставляя на языке вкус талого снега.
Много радости доставляло скатывание снежных шаров мокрыми от снега варежками или игра в снежки под медленно кружащимся снегопадом. Незаметно наступал волшебный декабрь, когда в доме появлялась пахучая колкая елочка, которую мы с трепетом наряжали сверкающими елочными украшениями из фольги, с восторгом ожидая Рождественских подарков – несколько мандаринов, орехи и конфеты, с их удивительно неповторимым вкусом чудесного праздника. Наконец, наступало блаженство от удивительной тайны счастья, сопровождающей встречу Нового года и Рождества, когда все люди становились необыкновенно добрыми, а мы, собравшись в веселые детские компании, ходили от дома к дому с рисовой кутьей, распевая под окнами колядки в обмен на домашние деревенские угощения:
* * *
Сеем, сеем, посеваем!
С Рождеством вас поздравляем
И хозяев прославляем!
Божьей милости желаем!
Щедрик-петрик,
Дай вареник,
Ложечку кашки,
Кольцо колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Весной в садах густо цвели вишни и яблони, источая тонкий сладковатый аромат, смешанный с басовитым гудением пчел. В теплыни майских дней под деловитое жужжание шмелей душа росла быстро, как молодая травка на лугу. Мы собирали тягучий клейкий сок, текущий из стволов вишен, казавшийся слаще конфет. Без всякого перехода, совершенно неожиданно, наступало беззаботное лето, с ласточками над лугом, с недозрелыми сливами, яблоками и грушами, которыми мы объедались до урчания в животе. Всюду из-под камышовых крыш слышался неумолкающий щебет птиц, свивших там гнезда, и вскоре начинался трогательный писк птенцов. Лето дарило нам еще одно радостное чудо – теплую камышовую речку, с расходящимися кругами от всплеснувшей рыбы, с вязнувшим в ушах кваканьем лягушек, с сизым терпким терном на колючих кустах, густо зеленеющих по ее берегам, и роскошным громом, с треском разрывающимся в грозовых облачных башнях в бездонном окоеме небес. Плескание в воде продолжалось дотемна (ведь плавать я тогда еще не умел), когда над берегом, заросшим благоухающей лебедой и мятой, повисали красивые мерцающие огни, которые взрослые называли звездами. Так нарождался и становился реальностью тот удивительный процесс смены впечатлений, познание которых шло не через ум, а лишь через чувства и сердце, переполняя душу разнообразными и безконечными восторгами от развертывающегося перед глазами невероятного бытия, именуемого жизнью.
С особым, почти священным трепетом мы смотрели на идущих с портфелями детей: какими они казались нам недосягаемо взрослыми и серьезными! Снисходительно поглядывая на нас, малышей, они важно шествовали в школу. У нас восторженно бились сердца в ожидании того момента, когда мы вырастем и поступим в первый класс. А те дети, которые учились в пятом или даже седьмом классе, казались нам глубокими стариками и внушали боязливое уважение своими познаниями и почтенным возрастом.
Моя сестра тогда перешла в пятый класс и меня поражала ее осведомленность, кругозор и, особенно, умение говорить на немецком языке. Летом она уже ездила в детский лагерь на неведомое мне море, о котором я только читал в книгах, и даже написала небольшую заметку в местную газету о своем отдыхе и счастливом детстве. Мне же оставалось только мечтать о первом классе, о своей будущей жизни, и книги с готовностью помогали мне множить мечты и надежды.
Когда младенчество переходит в детство, то, как степень постепенного отпадения от Бога, приходит умение говорить. Звуки давали мне понятия о предметах, но сами предметы, вызванные к существованию Божественным бытием, никак не соотносились с этими звуками и, тем более, с их обозначениями – буквами. Каким удивительным открытием явились для моей детской души первые буквы! Каждая буква имела свой неповторимый облик, и все они общались со мной посредством звуков, несущих в себе загадочный смысл предметов, окружавших меня. Помню первый восторг от необыкновенной догадки, что эти разноликие символы, выстроенные в соответствующий ряд, содержат названия многочисленных вещей, большей частью пока еще незнакомых мне и потому таинственных.
Отчетливо запомнился тот момент, когда буквы слились в слова, а слова стали понятными предложениями. Не в силах сдержать восторг, я вбежал в гостиную, в которой находились гости, и закричал:
– Мама, папа, я уже могу читать!
– Ну-ка, прочитай что-нибудь из букваря, сынок! – сказал отец.
Первыми словами, прочитанными мной, оказались строки из детского стихотворения, казавшиеся живущими самостоятельно и независимо от букваря: «Сидит ворон на дубу, он играет во трубу!» Взрослые рассмеялись:
– Молодец какой! Теперь ты можешь читать романы!
Хотя они похвалили меня, но в душе осталось недоумение: почему взрослые не заметили, какой замечательный ворон и какая необыкновенная у него труба, издающая волнующие сказочные мелодии?
Жажда познания быстро привела меня к чтению «взрослых» книг, повествующих о далеких городах и странах, невероятных приключениях и путешествиях. Освоив букварь, первой книгой, за которую я ухватился в свои пять лет, оказался роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», и моя любознательность стала изводить родителей и взрослых расспросами о новых понятиях, которые мое сердце еще не могло вместить. Затем последовали другие книги такого же рода, пока родители не записали меня, еще до школы, во взрослую библиотеку, где мне самому разрешили выбирать книги о путешествиях и открытиях. С тех пор чтение стало любимым моим занятием. Библиотекарь, увидев в ребенке такую жажду к чтению книг, написала об этом случае в районной газете.
Особенно мне нравилось общение с книгой после того, как родители укладывали меня спать. Укрывшись с головой одеялом, при свете крохотной лампочки самодельного фонарика, я устремлялся в далекие путешествия вместе с Марко Поло, углублялся в неисследованные просторы Азии и Африки, следуя за отважными первопроходцами, переплывал океаны и моря с Магелланом и Колумбом и поднимался ввысь на воздушном шаре, покоряя небесное пространство. И это пространство удивительной незнакомой жизни звало меня тихим голосом ветра и шепотом звезд, начинаясь совсем рядом – за стенами нашего маленького домика, окна которого смотрели в безконечную вселенную, приглашая меня к открытию невыразимо загадочного мира.
Боже, Ты – жизнь моя, Ты любишь, но не испытываешь волнений, которые с детства испытывали мы, немощные. Ты творишь, но не имеешь привязанностей, которые закладываются в нас во время юности. Ты создаешь и остаешься спокоен иным спокойствием, которого мы не ведаем с самого рождения. Щедрый, Ты никому ничего не должен. Любящий, Ты никого не ограничиваешь в свободе. В Тебе все возникает и исчезает, но разве Ты когда-нибудь терял что-либо из сотворенного Тобой? Не потеряй же меня, вступившего на неизведанный путь жизненного странствия, не умеющего пока еще умолять Тебя о помощи так же, как впоследствии не умеющего молчать о неисчислимых Твоих благодеяниях.








